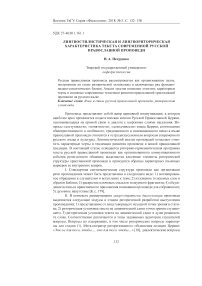Лингвостилистическая и лингвориторическая характеристика текста современной русской православной проповеди
Автор: Петрушко Иван Алексеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Русская православная проповедь рассматривается как организованное целое, построенное по схеме риторической эллипсоиды и включающее ряд функцио- нально-семантических блоков. Анализ текстов позволяет отметить характерные черты и основные современные тенденции развития православной христианской проповеди на русском языке.
Язык и стиль русской православной проповеди, риторическая эллипсоида
Короткий адрес: https://sciup.org/146281274
IDR: 146281274 | УДК: 27-46:811.161.1
Текст научной статьи Лингвостилистическая и лингвориторическая характеристика текста современной русской православной проповеди
Проповедь представляет собой жанр церковной коммуникации, в котором наиболее ярко проявляется педагогическая миссия Русской Православной Церкви, основывающаяся на прямой связи и диалоге с широкими слоями населения. Вопросы «доступности», «понятности», «доходчивости» языка Церкви, соотношение общехристианского и особенного, традиционного и инновационного начал в языке православной проповеди относятся к остродискуссионным вопросам современного русского языка и культуры. Лингвистический анализ проповедей позволяет отметить характерные черты и тенденции развития проповеди в живой православной традиции. В настоящей статье освещается риторико-герменевтическая программа текста русской православной проповеди как организованного коммуникативного события религиозного общения; выделяются ключевые элементы риторической структуры христианской проповеди и приводятся образцы характерных языковых маркеров ее внутренних жанров.
-
I. Стандартная синтагматическая структура проповеди как организации речи проповедника может быть представлена в следующем виде: 1) мотивированное обращение к слушателям и вступление к теме; 2) изложение толкуемых слов и образов Библии; 3) раскрытие ключевых смыслов толкуемого фрагмента; 4) обсуждение истины и нравственного приложения понимания проповеди для собравшихся; 5) духовное напутствие [8, с. 179].
-
II. В контексте развертывания макро-стратегии диалогизации проповеди выделяются следующие модусы и стадии риторической разработки выступления проповедника: 1) представление от лица говорящего исходной точки зрения в статике; 2) риторическая установка текста на динамический сдвиг точки зрения слушающего; 3) риторическая установка текста на динамический сдвиг в душе реципиента слова. Соответственно различаются и типы задаваемых аудитории слушателей вопросы. Вопросы по содержанию, в том числе риторические вопросы характерны для стадии (1). Мета-оператор риторизованного объяснения позиции Церкви: « Это не для того, чтобы…, это для того, чтобы… » [10], диалектические вопросы
по смыслу сказанного характерны для стадии (2), тогда как вопросы личностного плана соответствует лингвориторической установке (3). Означенная риторическая установка прямо отражает зов Бога «Адам, где ты?» (Быт 3: 9) [1].
Для решения коммуникативных задач проповеди говорящим применяются специальные риторические мета-коммуникативные операторы, в том числе такие, как мета-операторы (a) заякоривания, (b) мотивирующей беседы, (c) майевтиче-ской беседы, (d) смыслового вывода, (e) обогащения понимания, (f) духовного напутствия и ряд других. Применение соответствующих внутренним микро-жанрам проповеди мета-операторов конструктивно, поскольку вносит вклад в риторическое обеспечение коммуникативного события. Нами выявлены соответствующие языковые маркеры названных выше мета-операторов в русской православной проповеди.
Риторическая суть «заякоривания» (англ. anchoring ) может быть определена как создание говорящим условий для постижения новых идей, явлений, связей и отношений путем помещения их в некоторый уже знакомый для реципиента проповеди контекст [18, с. 29; 5, c. 47]. В означенной связи допустимо отметить следующие языковые маркеры введения в ситуацию общения мета-оператора за-якоривания : «в прошлое воскресение мы», «вы помните», «мы привыкли», «нам кажется» и другие синонимичные им.
Приведем примеры актуализации мета-оператора мотивирующей беседы : «Если мы хотим достичь Царствия Божия, если мы хотим быть не только по крещению, а и по сути, и по своей жизни православными христианами, если мы хотим познать Христа, Сына Божия, а через Него Пресвятую Троицу, то мы должны учиться быть в состоянии мытаря, а всякие гордые, тщеславные, глупые мысли, которые постоянно осаждают и превозносят нас, отвергать, потому что это есть фарисейская мерзость перед Богом» [9]; «Эта притча должна отпечататься в нашей памяти, если мы хотим грядущий пост провести так, как подобает православному христианину, если хотим еще на один шаг приблизиться к Богу» [12]. Нами выявлен следующий инвариантный языковой маркер мета-оператора мотивирующей беседы: « Если мы хотим, то… ». В основу полагается желание человека, связываемое с выполнением ряда соответствующих необходимых условий.
Приведем образцы реализации в проповеди мета-оператора майевтиче-ской беседы : «А отчего молитва фарисея оказалась неугодной Богу?» [4]; «Казалось бы, все ясно <…> мытарь, плохой прихожанин, пошел оправданный в дом свой более, нежели тот. А почему? Разве это справедливо? Фарисей жертвует на храм, фарисей он не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, не какой-нибудь там предатель. А почему так? » [10]. «Да, ты не грабитель, но почему? <…> Да, ты не прелюбодей. Почему?» [Там же]. « Почему важно не считать себя достойным?» [14]. Выявлены следующие языковые маркеры мета-оператора: « Откуда мы это видим? », « Почему так?», « Отчего?». Следует отметить ограниченность сугубо формального подхода к определению присутствия мета-оператора майевической беседы, поскольку в тех же языковых формах могут ставиться вопросы, разрешаемые проповедником в ка-техитическом ключе , который отвечает первой ступени риторической разработки диалектики духовный беседы. На означенной ступени говорящий сам задает вопрос и сам на него отвечает, даже если вопрос представляется весьма диалектичным, например: « Почему дни памяти святых – это дни их смерти?» [15]. Напротив, в майев-тической беседе право ответа и ответственность за ответ делегируется слушателю.
Нами также выявлены следующие языковые маркеры мета-оператора смыслового вывода «(как) видно», «получается / очевидно / «ясно, что…»: «Но од- ному, видно, этот мытарь научился в той страшной, жестокой жизни» [11]. Приведем примеры актуализации мета-оператора обогащения понимания: «Покаяние – это не порыв, это не успокоенность на том, что вместо концертов и рынков ты стал в воскресный день ходить в храм…» [12]. В данном случае выступающая экспонентой эллипсоиды понимания риторическая антитеза, основанная на противопоставлении покаяния всему тому, чем оно не является, дополняется и обогащается связями с традицией и повседневными жизненными явлениями и состояниями. В мета-операторе обогащения понимания в проповеди демонстрируются взаимосвязи одних смыслов христианской жизни с другими. «Вы знаете, даже поверхностный анализ этой истории показывает, что она обращена к христианам, причем будущего, то есть, когда она произносилась, она была обращена к христианам будущего» [10]. Нами выявлены следующие языковые маркеры мета-оператора обогащения понимания в православной проповеди: «причем»; «кроме того», «более того», «то есть, когда…, также», «не только, но и». Кроме того в проповедях распространен нулевой маркер названного мета-оператора.
Функционально-семантический блок проповеди «духовное напутствие» узнаваем по актуализации форм обязательства («мы должны…») , использованию императива и в особенности хортатива : « Научимся же от фарисея и от мытаря, чего нам избегать и чем нам становиться; и тогда мы встретим Господа в Его милости, в Его любви» [Там же]; « Подумаем о том, способны ли мы встретить Христа…» [Там же]; « Задумаемся , каждый из нас, о том, что значит, что он или она когда-то были принесены в храм, отданы Богу любовью материнской; отданы на хранение Тому, Который есть Хранитель младенцев, отданы Тому, Кто есть Господь и Жизнь» [Там же].
-
III. В качестве ключевого принципа организации языковых средств христианской проповеди рассматривается принцип риторической эллипсоиды . Поскольку духовные цели христианской проповеди связаны с решением задачи по преобразованию внутреннего мира человека, необходимым условием ее успешности выступает пробуждение «духовного зрения», обусловленного сменой интерпретационных установок реципиента. Одним из лингвориторических условий означенного рода пробуждения духовной рефлексии выступает лингвориторический смысловой интервал , трактуемый как контраст и конфликт альтернативных интерпретаций одного и того же события с учетом фактора глубинного понимания сути христианской религии. Вслед за А. А. Богатырёвым [2; 3] мы можем отнести к лингвориторическим экспонентам смыслового интервала парадоксальные выражения (например, «греховная молитва» [6]) и высказывания (например, « Пост и молитва <…> могут удалять от Бога » [16];). Однако в тексте проповеди присутствует более богатая герменевтическая палитра смысловых интервалов, связанная с моделированием «альтернативных и несовместимых смысловых миров», к каковым могут быть сюжетно отнесены молитва мытаря и фарисея. Конструктивная суть смыслового интервала заключается в стимулировании переоценки реципиентом проповеди своих исходных принципов, взглядов, в избавлении от косных стереотипов, в пробуждении «духовного зрения» .
Риторический интервал выступает филологическим источником и риторическим средством обращения рефлексии реципиента текста проповеди на предельные духовные основания бытия. В риторическую задачу проповедника входит разработка динамических аспектов противоположности образов слушателя как «себя повседневного» и «лучшего Я», вступающих в отношения поляризации [8, с. 176].
Противоположности интерпретационных пресуппозиций альтернативно толкуемого смыслового интервала в тексте образуют полюсы риторической эллипсоиды , выступающей в качестве интегративной схемы-конфигуратора возможных пониманий смыслов. При этом осевая эллиптическая конструкция проповеди в конечном итоге всегда мыслится как вертикаль в том ее понимании, которое приводит М. Элиаде, когда утверждает, что «никакой мир невозможен без вертикального измерения и само это измерение уже наводит на мысль о Всевышнем» [17, с. 82]. Эта устремленная от земного к небесному вертикаль составляет предельный уровень интер-вализации понимания проповеди, соответствующий жанросообразной глубине ее педагогического послания.
Риторическая эллипсоида связана с интервализацией текста сообщения, определяемой как «текстовая установка на конфликтное столкновение нетождественных горизонтов смыслопостроения для интерпретируемого текста» [2, с. 17– 18]. Основным текстовым источником интервализации выступает смысловой интервал , трактуемый как «явленная реципиенту в усмотрении равновозможность двух и более нетождественных, взаимоисключающих пониманий (интерпретаций) на основе одних и тех же объективных текстовых данных» [3, с. 93]. Ярким формальным маркером интервала выступает катахреза , выявляемая на основе усмотрения аномального сочетания номинативных единиц языка: «греховная молитва» [6]; «ложное благочестие» [16]. В более широком приближении к средствам интерва-лизции могут быть отнесены также и парадоксальные образы (« Ваша праведность, как запачканная одежда » [10]), парадоксальные высказывания, например: « Пост и молитва, и добрые наши дела, оказывается, могут не приближать нас к Богу, а наоборот, удалять от Бога и от людей » [16]; « Не будем бояться быть грешниками » [13]. Встречается также эксплицирующий тип интервала, например: « Слепота наша в том, что считаем себя зрячими » [6]. Подчеркнем, что риторический интервал рассматривается здесь не как стилистическое украшение текста проповеди, а как средство демонстрации пропасти между христианским и нехристианским мировоззрением. Интервализованное слово проповеди позволяет оценить высоту понимания реципиентом сказанного не в меньшей мере, чем употребление редких церковнославянизмов или маркеров дискурса столичных профессоров. В анализе номинативных средств организации проповеди различаются оба основных вида интервализации – «поляризация» и «сгущение» [2, с. 17–18]. Первый тип связан с выдвижением тексте контрастов и антитез, второй – с разработкой поля ассоциации идей и понятий на том или ином полюсе.
Несмотря на тот факт, что все источники возникающих между проповедником и слушателями коммуникативных барьеров удобно рассматривать при помощи метафоры языка и интерпретации, не все из них имеют непосредственно языковую природу в узком ее понимании. Сюда следует отнести также (a) различия теистической и атеистической картин мира, (b) дисбаланс прагматических установок коммуникантов и нарушение «кодекса доверия» между ними, (c) неверно заданный уровень ожиданий, (d) низкий уровень вовлеченности в коммуникативный процесс постижения разделяемых смыслов, (e) неискренность рецепции слова проповеди.
Церковное общение - возвышенное общение: «В храме стояще славы Тво-ея, на Небеси стояти мним» [9]. Однако в языке современной проповеди встречаются и невозвышенные слова и выражения: «Мы будем падать в грехи, расшибать себе нос»; «В вечной жизни не нужно будет ни хлеб сеять, ни в очереди стоять, ни рубашки гладить»; «Вася, не лезь в лужу, простудишься»; «…чтобы они немножко, так сказать, очухались» [Там же]. Интервализация стиля высказываний проповедника обусловлена риторической задачей объять великое в ничтожном и открыть пере-выражение прекрасного, возвышенного и бессмертного в сниженном, суетном и земном. Разработка в просторечной и сниженной лексике проповеди элементов приземленной образности не только вскрывает мелочность мира переживаний земного человека, но перевыражает в себе глубинную сложность человеческой природы в свете серьезности темы спасения души, способствует «намагничиванию» смыслового интервала как источника понимания главных смыслов библейского послания.
-
IV. Риторико-герменевтическая программа русской православной проповеди основывается на реализации говорящим риторической и смысловой доминанты соборности . На основе анализа корпуса текстов православных проповедей XX–XXI веков автор приходит к выводу о полиадресатности как ведущей (социально обусловленной [8]) стилевой черте современной православной проповеди. Лингвостилистическим следствием и коррелятом риторических установок соборности и полиадресатности выступает полистилистическая организация текста проповеди, представляющая собой многослойную структуру, включающую в себя толкуемый образ Священного Писания или Предания, собственно толкование и программу управления вниманием и пониманием слушателей. Церковнославянские выражения поясняются на современном русском языке: «Поэтому в Церкви молятся на неделе о мытаре и фарисее: “ Потщимся (т.е. постараемся) подражать фарисеевой добродетели и мытареву смирению”» [14]. Слово православной проповеди демократично по форме, оно звучит в возвышенном и бытовом, общелитературном и академическом регистрах русского языка (ср. термины дискурс, постмодерн, идентичность в устах православных иерархов).
Выявленное стилевое (полирегистровое) разнообразие текстов проповеди принадлежит широкой сфере стилевой стратификации русского языка и свидетельствует о реализации в речевой практике множества авторских программ креативного текстопостроения, основанных на эксплуатации эстетического принципа полистилистики и выступающих свидетельством широкой стиле-регистровой дивергенции текстов в рамках единого жанра. Полученные результаты исследования современного языка русской православной позволяют рассматривать проповедь в контексте интегративного филологического подхода, объединяющего аспекты прагматического, структурно-синтагматического, функционально-стилевого и индивидуально-стилистического описания риторико-герменевтической программы текста с учетом ее смысловых доминант, определяемых контекстом православной культуры (принципов соборности и гармоничного риторического баланса рационального и эмоционального начал (ср.: [7, c. 154])).
Стиль русской православной проповеди обусловлен сложившейся филологической традицией и характерными вызовами современности. Проведенное на конкретных предметных образцах исследование показало, что для современного языка РПЦ характерна широкая стиле-регистровая палитра , используемая в рамках прагматики и жанра православной проповеди, а также самобытной православной религиозной культуры. В означенной связи критика языка проповеди как трудного для общественного восприятия и понимания эзотерического языка замкнутой в «языковое гетто» социальной группы не выдерживает проверки на достоверность. Основополагающие жанрообразующие функции христианской проповеди как бла-говествования Слова-Логоса несовместимы с герметизмом закрытых языковых сообществ.
LINGUISTIC, RHETORICAL AND STYLISTIC CHARACTERISTICS OF THE CONTEMPORARY RUSSIAN ORTHODOX
Tver State University the Department of Theology
About the author:
PETROUSHKO Ivan Alekseevich – Lecturer at the Department of Theology, Tver State University (170100, Tver, Zhelyabov str., 33), e-mail: ivan_petrouchko@mail. ru.
Список литературы Лингвостилистическая и лингвориторическая характеристика текста современной русской православной проповеди
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Изд. Московской Патриархии, United Bible Societies, 1992. 1372 с.
- Богатырев А. А. Индивидуация интенционального начала беллетристического текста/Тверской гос. ун-т. Тверь, 2001. 373 с.
- Богатырев А. А. Элементы неявного смыслообразования в художественном тексте/Тверской гос. ун-т. Тверь, 1998. 101 с.
- Кронштадский Иоанн, прот. Беседа в неделю о мытаре и фарисее //Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/Velikiy_post/. (Дата обращения: 29.08.2018.)
- Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе/Тверской гос. ун-т. Тверь, 1998. 200 с.
- Московский А. (Мечев), св. прав. Слово в неделю о мытаре и фарисее (3 февраля 2012 года) //Православие.RU. URL: http://www.pravoslavie.ru/51354.html. (Дата обращения: 17.09.2018.)
- Петрушко И. А. Триединая модель языковой личности и аспекты языковой и коммуникативной подготовки современного православного проповедника//Языковой дискурс в социальной практике: Сб. науч. тр./Тверской гос. ун-т. Тверь, 2018. С. 153-157.
- Петрушко И. А., Богатырёв А. А. Адресатоцентричная лингвистическая модель коммуникативного события православной проповеди//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 2. С. 175-184.
- 9. Смирнов Димитрий, прот. Проповедь в неделю о мытаре и фарисее // [Электронный ресурс] // Завет.RU. URL: http://www.zavet.ru/a/post_1297402800.html. (Дата обращения: 28.08.2018.)
- Стеняев Олег, прот. Проповедь в неделю о мытаре и фарисее //Православные проповеди. URL: https://azbyka.ru/propovedi/propovedv-nedelyu-o-mytare-i-farisee-protoierej-oleg-stenyaev.shtml. (Дата обращения: 31.08.2018.)
- Сурожский Антоний, митрополит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа: Проповеди. М: Вэб-Центр «Омега», 2001. 188 с.
- Тихон Борисов, игумен. Смиряяй же себе вознесется. Неделя о мытаре и фарисее //Оптина пустынь. URL: https://www.optina.ru/sermon/nedelja_o_mytare_i_farisee_2016. (Дата обращения: 29.08.2018.)
- Уминский Алексей, прот. Проповедь о мытаре и фарисее //Альфа и Омега. 2017. № 48. URL: http://aliom.orthodoxy.ru/. (Дата обращения: 30.08.2018.)
- Худиев С. Неделя о мытаре и фарисее (28 января 2018 года) //Фома. URL: https://foma.ru/nedelya-o-myitare-i-farisee.html. (Дата обращения: 30.08.2018.)
- Худиев С. Смерть как начало славы (27 августа 2018) //Фома. URL: https://foma.ru/pochemu-myi-prazdnuem-uspenie-smert-bogorodiczyi. html. (Дата обращения: 30.08.2018.)
- Шаргунов Александр, прот. Толкование евангелия на каждый день года. Неделя о мытаре и фарисее //Православие.RU. URL: http://www. pravoslavie.ru/4009.html. (Дата обращения: 30.08.2018.)
- Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. 144 с.
- Moscovici S. The phenomenon of social representations//Social representations. Cambridge, 1984. Pp. 3-69.
- Смирнов Димитрий, прот. Начало церковного новолетия (14 сентября) //Православные проповеди. URL: https://azbyka.ru/propovedi/propovedi-dimitrij-smirnov.shtml. (Дата обращения: 17.09.2018.)