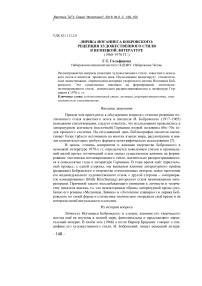Лирика Иоганнеса Бобровского: рецепция художественного стиля в немецкой литературе (1960-1970 гг.)
Автор: Гильфанова Гульнара Тавкильевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы рецепции художественного стиля известного немец-кого поэта и писателя прошлого века. Исследование анализирует стилистическое заимствование лирическими авторами творческого метода Иоганнеса Бобровского. Это существенно повлияло на формирование элегически-поэтизированного стиля, значительно распространившегося в литературе Германии в 1970-х гг.
Художественный стиль, поэтика, рецепция творчества, стилистическое заимствование
Короткий адрес: https://sciup.org/146281238
IDR: 146281238 | УДК: 821.112.2.0
Текст научной статьи Лирика Иоганнеса Бобровского: рецепция художественного стиля в немецкой литературе (1960-1970 гг.)
Вводные замечания
Прежде чем приступить к обсуждению вопроса о степени рецепции поэтического стиля известного поэта и писателя И. Бобровского (1917–1965) немецкими стихотворцами, следует отметить, что исследования проводились в литературном контексте (восточной) Германии второй половины 60х–70х годов прошлого столетия. На сегодняшний день библиография писателя насчитывает более трёхсот источников на многих языках мира, рассмотрение и анализ контента которых требует формата монографического исследования [7].
В целом, степень восприятия и влияния творчества Бобровского в немецкой литературе 1970-х гг. определяется появлением стихов и произведений малой прозы: поэтический стиль оказал существенное влияние на формирование элегически-поэтизированного стиля, значительно распространившегося в семидесятые годы в литературе Германии. В тоже время идёт параллельный процесс: с одной стороны, мы выявляем влияние литературного приёма (рецепции) Бобровского в творчестве отечественных авторов, новое прочтение его индивидуального художественного стиля, с другой стороны – «неприкрытое клиширование» (bloße Klischierung) авторского стиля начинающими литераторами. Причиной такого неослабевающего внимания к личности и творчеству писателя явилось то, что неповторимые образы литературной прозы (особенно его романы «Мельница Левина» и «Литовские клавиры») и лирика Бобровского по своей форме и стилистике значительно опередили своё время и не потеряли своей актуальности и сегодня.
Из истории вопроса
Личность Иоганнеса Бобровского и степень влияния его творческого метода ещё не изучены в полной мере, феноменальны и представляют значительный интерес. В своём эссе (1966) о поэте Вернер Браунинг говорит о специфике его художественного стиля. И. Бобровский, пишет немецкий литера- турный критик, «приглашает читателя к диалогу, беседует с ним и призывает к совместному действию с героями, надеясь на их активное участие в событиях <…>» [10: 108]. Признание литературного влияния поэта и писателя началось сразу после его ухода, во второй половине 60-х годов прошлого века не только в литературе Восточной Германии, но и за её пределами. Молодых поэтов привлекал своеобразный поэтический стиль, «чувственная речь», наблюдалось спонтанное восприятие ими своеобразия его языкового «сообщения»: использование особых образных средства языка в словосочетаниях и кратких предложениях, фразировка текста (использование средств музыкальной выразительности): «ein Grün, / drei Blätter, / eine rote Beere. / Ich bau ein Haus / für unsere Augen <…>» (Die Nacht) ‘ <…> Луг, / три листочка, / красная ягода / Я строю дом / для наших глаз <…> ’ [1]
Впечатляют неповторимая динамика его стиха, живые образы природы, когда дышат и говорят травы и реки, и даже камни. У природы он ищет ответы на главные вопросы бытия: «Учи меня говорить, трава, учи мёртвым быть и слушать, долго, и говорить, камень, учи ты меня оставаться, вода, не спрашивая, и ветер, не спрашивая» [1]
Язык произведений Бобровского – не просто сложное литературное явление, сущность которого труднообъяснима , он открывает таинственное ассоциативное пространство («я» и природа, камень и трава, вода и ветер) и всё дальше уходит от абстрактного рационализма (псевдорационализма). В поэтической речи автора образуются ритм, звуковая текстура и семантическая напряжённость, которые непредсказуемы и возникают только в процессе создания конкретного текста, а их совокупность и составляет ассоциативное пространство поэтических работ Бобровского. При написании стихов поэт из десятков, сотен сочетаний слов интуитивно выбирает те сочетания, что «задают» ритм текста, создают его акустическую насыщенность и способствуют мгновенному возникновению сложных и разветвлённых ассоциаций в сознании читателя [11]. Например, фрагмент его стихотворения «Литовские песни»:
« Litauische Lieder »: «Nachts, tieräugig, ein Strauch / bin ich, ein Baum am Tag, / ein Wasser im Mittagsschatten, / unter der Sonne das Gras» [4: 87].
« Литовские песни »: ‘Ночью с глазами зверя / Я куст, и дерево днем, / заводь в тени полудня, / и под солнцем трава’.
Поэзия Бобровского свидетельствует о том, что номинация приобретает в ней совершенно особую, символическую функцию. Об этом свидетельствуют строки стихотворения «Чтобы всегда именовать» :
« Immer zu benennen »: «<… > den Baum, den Vogel im Flug, / der rötlichen Fels, wo der Strom / zieht, grün, und den Fisch / im weissen Bauch, wenn es dunkelt / über die Wälder herab» [4: 86].
« Чтобы всегда именовать »: ‘Чтобы всегда именовать: / дерево, птицу в полете, / красноватую скалу, где поток / бежит, зеленый, и рыбу / в белом ручье, когда смеркается / над лесами’.
Творить для поэта – значит «именовать». Являясь учеником Иоганна Гамана, поэт «наблюдал природу вещей, вбирая её в себя». Это «вбирание в себя» мы и наблюдаем в лирике Бобровского. Каждая названная вещь, каждый элемент пейзажа необходимы, чтобы обнаружить связь времён, разбудить нашу память, оживить забытое, прочувствованное, пережитое – и не только в индивидуальном опыте, но и в опыте поколений. Эпизоды, события, целая жизнь, бесконечное время – всё может быть спрессовано в одно слово, обретающее в данном контексте ключевую роль, и от этого слова, как от брошенного в воду камня, расходятся круги ассоциаций. Так, достаточно слова Pirol («иволга»), чтобы выплыл из памяти щемящее родной, полный тайн, радостного растворения в природе и смутного предчувствия опасности мир детства:
« Kindheit» : «Da hab ich den Pirol geliebt...» [4: 7].
« Детство »: ‘Тогда я иволгу любил...’
Отсюда становятся понятными цепочки номинативных предложений в начале стихотворения: от них, как от выхваченных из памяти узелков, расходятся круги ассоциаций. С называнием определённого предмета или явления всплывает, проясненный временной дистанцией, определённый географический и культурный ландшафт:
« Anruf »: «Wilna, Eiche / du – / meine Birke, / Nowgorod – / einst in Wäldern auf-flog / meiner Frühlinge Schrei, meiner Tage / Schritt erscholl überm Fluss» [4: 12].
« Призы в»: ‘Вильна, дуб, / ты – / моя береза, / Новгород – / когда-то в лесах взлетал / моих весен крик, моих дней / шаг звучал над рекой’.
Стихи поэта создают цельную картину, читая их, понимаешь, что они – части общего поэтического пространства И. Бобровского, которое скреплено любовью к своей местности и к людям, населяющим её. Бобровский возвращает слову первичную значимость. Одно единственное слово может стать и образом, и метафорой. Лишённые украшательств и рифмы, его стихи поражают лаконичностью и точностью.
Г. Цибулка, для которого поэтическое творчество И. Бобровского имело большое значение, сравнил образный язык поэта с «забытым языком поэзии» [6: 53]. Он говорил: «Сложно поверить в то, что это стихи мудрого и образованного интеллектуала, но, вникнув в их смысл, мы начинаем понимать, они содержат самую настоящую правду» [там же].
Отметим, что художественный стиль Бобровского был сложен для восприятия, но, в то же время, интересен как для мастеров слова, так и для читателя. Большое количество авторов, многие из которых впоследствии попали в изгнание [5; 6; 9], привлекали в равной степени и чувственная конкретность поэтического языка, и рационально неуловимое движение речи поэта. В середине семидесятых годов Герхард Вольф (р. 1928) пишет в своём памятном эссе (посвящённом ушедшему из жизни писателю, как будто обращаясь к нему) от имени литераторов, почитающих его писательских талант, о том, что «стиль Бобровского, его стихи и проза всегда на слуху, в памяти, на языке. Влияние его настолько велико, что порой забываешь о собственном стиле» [13: 86].
О том, что в литературе Германии (во второй половине шестидесятых годов) намечается тенденция стилистического заимствования поэтического языка Бобровского, особенно , его поэзии, свидетельствует следующий пример лирического текста Бори Долносласки «Сосны» :
« Kiefern »:
Aufgeblättert / den Bergen zu zwischen Bobr / und Kaczawa, / die Heide / weit mit dem Harzrauch / Und dem Sand / in den Zweigen.
Baumzeilen, die mich umstehen / wie die Zeiten der Verschuldung / schweigend. Windlos / Ebene, wie die Kiefern den Sand / Rufen / mit fremden Namen.
Bory Dolnoslaskie [8: 15].
« Сосны »: ‘Слоистые / у гор между Бобр и Касцава, / Далеко, на безветренной пустоши / стоит ряд деревьев / их ветки пропитаны дымом смолы и песком / они, молча, окружают меня как напоминание вины, как и сосны / зовут песок чужими именами’ (авт. перевод).
Создаются спонтанные, «живые» правдивые художественные тексты и условия для восприятия стиля Бобровского. Характерно в этом плане траурное стихотворение Сары Кирш “ Geh unter schöne Sonne …”; она написала его 2 сентября 1965, в день смерти поэта:
« Geh unter schöne Sonne …»: « Geh unter schöne Sonne, stirb / weniger kunstvoll, Haus zerfall / zögert nicht: mein grauer Delphin ist hin zu anderer Küste geschwommen / Gestern noch blies er Meer vor sich her, schwamm voller Kunst. peitschte das Wasser / nun bleibt er fort, / heißt es, unsere Küste salzverkrustet und leer verlor ihren Delphin. / Niemand weiß da einen Ausweg» [9: 43].
« Иди к яркому солнцу »: ‘Иди к яркому солнцу, / Искусство твое остается с нами / Не исчезнет: / мой серый дельфин поплыл к другому берегу / вчера еще искусно плыл он, рассекая волны моря, / теперь его нет, / это означает, что наше, покрытое коркой соли, побережье опустело, потеряв своего дельфина. / Никто не знает выхода...’ (авт. перевод).
После первого знакомства с его стихами Вульф Кирстен (р. 1934) писал о необходимости повторного чтения произведений Бобровского, когда возникает ощущение погружения в «глубоко воскрешенную серьёзность языка». «Поначалу, стихи раздражают своей лексикой и звучанием, но потом, остаются в памяти, становятся узнаваемыми, возникает желание вернуться к ним вновь», делится своими впечатлениями Кирстен [9: 44]. В. Кирстен, стихи которого, суровы и угловаты, находит интересные и самобытные образы, чтобы поэтически осмыслить исторические перемены, новые проблемы и вопросы, что ставит сама жизнь. В настоящее время «феномен Бобровского» (Bobrowskis Phänomen), конечно, требует своего объяснения, а именно, условий, при которых может быть выявлено иллюстративное родство текстов В. Кирстен и И.Бобровского [10: 102]:
« Starenwolke »: «der herbst <…> / waghalsige flugspiele am himmel<…> die starenwolke figurenschneiden <…> so zart und luftig, <…>bis sie aufstiebt, die wolke in schwarz, als wäre der teufel in sie gefahren, zu sehen, zu bewundern, /wie elegant sich stare formieren, / auf ein ballet eingeschworen, / das sich jäh ballt» [12].
« Стаи скворцов »: ‘ Осень <…> отчаянно летает, рассекая небо, стая скворцов <…> так нежно и легко <…> до тех пор пока не взметнется облако черного цвета, как будто бы дьявол <…> полюбоваться, восхититься, / как элегантно выстраиваются птицы / убедиться / как стаи круг сжимается вдруг <…>’.
В. Кирстен не подражает «бездумно» стилю Бобровского, но краткость предложений и глубина контента этого отрывка обнаруживают особенности его литературного влияния. Большую роль в этом сыграли, в первую очередь, историко-идеологические причины немецкой действительности тех лет. Точнее сказать, в шестидесятые годы прошлого века умы представителей художе- ственной интеллигенции восточной Германии занимала иллюзорная мысль о реальном развитии социалистического общества и связанных с ним идеалов. В связи с этим возникает необходимость поиска образных средств языка, способных противостоять каноническим литературным моделям, и индивидуального, живого языка, утраченного диалекта, который когда-то и был родным языком детства.
И в прозе исследуемого писателя, отмечал Б. Ляйстнер, звучат языковые структуры нижнепрусского диалекта: речь силезцев и лужичан, рабочих горных рудников и тружеников Грабфельд (равнина в ФРГ). Обращение Иоганнеса Бобровского к устному народному творчеству, использование им народной речи, языка, на котором говорят и говорили его земляки, было продиктовано опасением, что родной язык может потерять свое содержание и значение, а то и совсем исчезнуть [5: 11].
В связи с этим хотим выделить представителей немецкого литературного пространства 1960–70гг., творческая деятельность которых, в той или иной степени, «созвучна» поэтическим исканиям Бобровского, и, прежде всего, в лирике: лужицкий и немецкий поэт Кито Лоренс («Струга. Образы нашего детства»; 1967), немецкие поэты и писатели – Вульф Кирстен («Начало предложения»; 1970), Вальтер Вернер («Пустой лес», 1970) [там же]. Один из них – Юрген Реннерт, лирическое и новеллистическое обращение поэта к еврейской теме стало одним из его центральных литературных предпочтений. А структурные детали портретных стихов И. Бобровского («Эльза Ласкер-Шюлер», «Гертруда Кольмар», «Нелли Закс») оказали значительное влияние в немецкой лирике этого периода: изданная У. Беркес и В.Трампе антология портретных стихов («Гёте после обеда») [3: 12] – предмет изучения и результат влияния поэзии Бобровского.
Заключение
Рецепция своеобразного стиля И. Бобровского немецкими поэтами [8: 15; 9: 43; 12] определяется появлением ряда поэтических работ – «следов стиха Бобровского» (Bobrowskis Spuren) – в восточно-немецкой литературе 1960– 1970-х гг., что отрицает её «стагнационный характер» в частности. Активное заимствование стилистики художественного метода поэта позволяет прочувствовать и вернуться к творчеству Бобровского, но уже в новом его прочтении.
В немецкоязычной литературе последующих десятилетий прошлого века (1980–1990-х гг.) появляются более значительные произведения, которые, однако, нельзя отнести к написанным в стиле Бобровского (Bobrowskisieren). Но почти в каждом случае можно выявить и распознать стилистическую связь как приём, начало рецепции (заимствования), «обновлённого» звучания художественного стиля Бобровского, что представляет интерес для изучения.
Список литературы Лирика Иоганнеса Бобровского: рецепция художественного стиля в немецкой литературе (1960-1970 гг.)
- Альбрехт Д. Пути в Сарматию. Десять дней в стране пруссов. Места, тексты, знаки/Перевод с нем. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 464 с.
- Albert Peter, Die Deutschen und der europaische Osten//"Vergangenheitsbewaltigung" als Historismuskritik im Erzahlwerk Johannes Bobrowskis. Erlangen-Nurnberg: Palm & Enke Verlag, 1990. 334 S.
- Berkes Ulrich Trampe Wolfgang, Goethe eines Nachmittags. Portratgedichte. Eine Anthologie//Ahornallee 26 oder Epitaph fur Bobrowski. Hrsg. und mit einer Nachbemerkung von Gerhard Rostin. Berlin: Union Verlag, 1977. 104 S.
- Bobrowski, J., Sarmatische Zeit. Gedichte. Berlin: Union Verlag, 1961. 99 S.
- Brauning Werner, Einer liest//Ahornallee 26 oder Epitaph fur Bobrowski. Hrsg. und mit einer Nachbemerkung von Gerhard Rostin. Berlin: Union Verlag, 1977. 104 S.
- Cibulka Hanns, Wetterzeichen//Ahornallee 26 oder Epitaph fur Bobrowski. Hrsg. und mit einer Nachbemerkung von Gerhard Rostin. Berlin: Union Verlag, 1977. 104 S.
- Degen Andreas Descher Stefan, Johannes -Bobrowski -Bibliographie 2002-2016 Fortsetzung und Erganzung der Johannes-Bobrowski-Bibliographie von 2002 (Stand: Januar 2017)/URL: http://www.johannes-bobrowski-gesellschaft.de/jb/bibliographie. html (accessed at 2.03.2018).
- Harald Gerald, Sprung ins Hafemeer, Gedichte/Gerald Harald. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1973.100 S.
- Kirsten Wulf, Eine Handvolle Gedichte//Ahornallee 26 oder Epitaph fur Bobrowski. Hrsg. und mit einer Nachbemerkung von Gerhard Rostin. Berlin: Union Verlag, 1977. 104 S.
- Leistner B., Zur Nachwirkung Bobrowskis in der Literatur der DDR//A. Kelletat, Sarmatische Zeit. Erinnerung und Zukunft. Dokumentation des Johannes Bobrowski Colloquiums 1989 in der Akademie Sankelmark. Sankelmark: Schriftenreihe der Akademie Sankelmark-Neue Folge-Heft 69, 1991. 143S.
- https://n-basovsky.github.io/02/kontrapunkt/24_Muza.html (accessed at 10.12.2017).
- https://www.lyrikline.org/de/gedichte/starenwolke (accessed at 25.02.2018).
- Wolf Gerhard, Das fortgesetzte Gesprach//Ahornallee 26 oder Epitaph fur Bobrowski. Hrsg. und mit einer Nachbemerkung von Gerhard Rostin. Berlin: Union Verlag, 1977. 104 S.