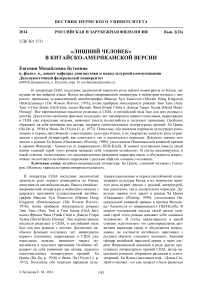«Лишний человек» в китайско-американской версии
Автор: Бутенина Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Лингвистика, теория перевода, литература в лингвистическом аспекте
Статья в выпуске: 2 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
В литературе США последних десятилетий заметную роль играют иммигранты из Китая, пишущие на английском языке. Выход китайско-американской литературы в мейнстрим начался с широкого признания художественной автобиографии Максин Хун Кингстон (Maxine Hong Kingston) «Воительница» ( The Woman Warrior, 1976); позже прибрели популярность романы Эми Тань (Amy Tan) и Гиш Цзень (Gish Jen), пьесы Фрэнка Чиня (Frank Chin) и Дэвида Генри Хуана (David Henry Hwang) 1. Все перечисленные писатели родились в США, и английский язык был для них родным с детства. Достаточно необычен феномен последних лет: иммигранты первого поколения, переехавшие в США уже взрослыми людьми, начинают писать по-английски и получают признание. Особенно обращают на себя внимание два автора, лауреаты многочисленных литературных премий: Ха Цзинь (Ha Jin, р. 1956) и Июнь Ли (Yiyun Li, р. 1972). Поскольку оба писателя пережили культурную революцию и период настойчивой «советизации» культуры Китая, в их творчестве немалую роль играет диалог с русской литературой, как советского, так и досоветского периодов. Довольно значим этот диалог в романе Ха Цзиня «Ожидание» ( Waiting, 1999), удостоенном Национальной книжной премии и премии Фолкнера/Хемингуэя от американского ПЕН-Клуба. В момент постижения смысла своей жизни главный герой этого романа называет себя «лишним человеком». В статье анализируется, в какой степени подготовлено это самоопределение развитием характера героя, и обсуждается вопрос, можно ли соотнести китайского персонажа с русским образом «лишнего человека».
Китайско-американская литература, ха цзинь, "лишний человек", гончаров, обломов, транскультурная интертекстуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14729300
IDR: 14729300 | УДК: 821
Текст научной статьи «Лишний человек» в китайско-американской версии
В литературе США последних десятилетий заметную роль играют иммигранты из Китая, пишущие на английском языке. Выход китайско-американской литературы в мейнстрим начался с широкого признания художественной автобиографии Максин Хун Кингстон (Maxine Hong Kingston) «Воительница» (The Woman Warrior, 1976); позже прибрели популярность романы Эми Тань (Amy Tan) и Гиш Цзень (Gish Jen), пьесы Фрэнка Чиня (Frank Chin) и Дэвида Генри Хуана (David Henry Hwang)1. Все перечисленные писатели родились в США, и английский язык был для них родным с детства. Достаточно необычен феномен последних лет: иммигранты первого поколения, переехавшие в США уже взрослыми людьми, начинают писать по-английски и получают признание. Особенно обращают на себя внимание два автора, лауреаты многочисленных литературных премий: Ха Цзинь (Ha Jin, р. 1956) и Июнь Ли (Yiyun Li, р. 1972). Поскольку оба писателя пережили куль- турную революцию и период настойчивой «советизации» культуры Китая, в их творчестве немалую роль играет диалог с русской литературой, как советского, так и досоветского периодов. Довольно значим этот диалог в романе Ха Цзиня «Ожидание» (Waiting, 1999), удостоенном Национальной книжной премии и премии Фолкнера / Хемингуэя от американского ПЕН-Клуба. В момент постижения смысла своей жизни главный герой этого романа называет себя «лишним человеком». В статье анализируется, в какой степени подготовлено это самоопределение развитием характера героя, и обсуждается вопрос, можно ли соотнести китайского персонажа с русским образом «лишнего человека». Бывший офицер китайской народной армии, а ныне лауреат Национальной книжной и ряда других престижных литературных премий США, автор нескольких романов, сборников рассказов и стихотворений, Ха Цзинь (настоящее имя – Цзинь Сю-эфэй) отмечает, что ему непросто было решиться писать на неродном английском, поскольку успеха на этом поприще достигли лишь такие «гиганты», как Джозеф Конрад и Владимир Набоков [Jin 2006]. Роман Набокова «Пнин» Ха Цзинь, как и многие другие писатели-иммигранты, считает лучшей историей об изгнанничестве, особо подчеркивая выразительность той детали, что Пнин повсюду носит с собой вебстеровский словарь [Jin 2000a]. Словарь как метафора ориентира для толкования чужого, непонятного мира появляется и в романе «Ожидание». Главный герой романа, врач китайской армии Линь Кун, почти двадцать лет пытается развестись с женой, живущей в деревне (по правилам режима китайской армии ХХ в. он может получить развод без согласия жены, только если они не менее восемнадцати лет проживут порознь). Они видятся раз в год, когда Линь приезжает домой в отпуск. Каждый год он поднимает эту тему, но результата не добивается. Готовясь к очередному неприятному разговору, Линь берет в руки свой старый школьный словарь русского языка, пытается вспомнить слова и даже составить предложения на русском языке. Ему это не удается, однако на протяжении всего романа русские книги будут сопровождать его в напряженные моменты жизни.
В течение долгих лет тянется роман Линя с медсестрой Манной, ради женитьбы на которой он и пытается развестись. С Манной у них нет ничего общего, и первое доказательство тому – Манна не любит читать, тогда как Линь живет в мире книг. В его библиотечке «Война и мир» и «Белые ночи» соседствуют с «Историей международного коммунизма», трудами о первом атомном ледоколе «Ленин» и партизанских войнах. Американского читателя этот список, пожалуй, позабавит, но русский и китайский читатели могут оценить трагический абсурд истории России и Китая в ХХ в., скрытой за этим списком. Впервые оказавшись в комнате Линя, Манна берет с полки труд Сталина «Проблемы ленинизма» и видит экслибрис с гравюрой «дома с соломенной крышей, затененного кроной двух деревьев. Вдалеке над холмом виднеется стая птиц, и заходящее солнце роняет свои лучи. На мгновенье Манну заворожила умиротворенность этой гравюры»2 [Jin 2000b: 33]. В том, что на книге, пропагандирующей режим коллективной собственности и обезличивания, Линь поставил штамп с «иностранным словом ex libris», подчеркивая свое право владельца, и разместил гравюру с традиционным китайским пейзажем, проступает его молчаливый протест против насаждаемой коммунистической идеологии и стремление хотя бы через международное латинское слово ощутить связь с читателями свободного мира.
Любовь Линя к русской литературе была непонятна не только Манне: директор политического отдела госпиталя, с которым Линь иногда говорил о книгах, жаловался ему на «толстые романы русских», у которых, по его мнению, «было очень много свободного времени» [ibid.: 60]. Линь вообще непонятен окружающим (автор замечает, что коллеги называют его «Ученый» и «Книжный червь», но «любят»), а Манна недоумевает: «Почему он такой тихий, такой добросердечный? Сердился ли он на кого-нибудь? Кажется, что у него нет характера» [ibid.: 44]. Даже внешне Линь отличается от остальных: ему несколько раз делали замечание за слишком длинные волосы, разделенные пробором, и в конце концов ему пришлось сделать стрижку ежиком, как у всех [ibid.: 61].
Однажды Манна застала Линя за чтением мемуаров маршала Жукова «Воспоминания и размышления» и высмеяла его честолюбивые планы по изучению военных стратегий, якобы для достижения генеральского чина. Как это ни комично, к воспоминаниям маршала он обратился, пытаясь найти решение для выхода из тупиковых отношений с Манной. Ему даже удалось набраться храбрости и объявить ей о разрыве, но через неделю он решил восстановить отношения, «признав непрактичность своего предложения» [ibid.: 99].
Поскольку официально узаконить отношения не получалось, Манна не отказалась от свидания с комиссаром, подыскивавшим себе образованную жену. Русские книги, увиденные в библиотеке Линя, помогли Манне произвести мимолетное впечатление на комиссара: когда тот спросил, что она читала в последнее время, ей вспомнились «Тихий Дон» и «Анна Каренина». Она тут же пожалела, что упомянула «эти русские романы, которые уже утратили популярность и могли оказаться вредными и губительными». Но комиссара впечатлил ее выбор: «Я вижу, у вас хороший вкус. Жаль, что немногие читают сегодня русские романы. Как я поглощал их в молодости!» [ibid.: 144]. Признав в Манне достойную собеседницу, комиссар дал ей сборник стихов Уолта Уитмена «Листья травы» и велел сообщить ему о своем мнении. Но даже с помощью Линя Манне не удалось придумать, что можно сказать об этой «странной, дикой» книге, и комиссар исключил ее из списка претенденток на роль своей супруги под предлогом, что у нее плохой почерк. Непонятная и Линю, и Манне уитменовская поэзия невольно сблизила их, тогда как русским книгам, так и оставшимся заголовками для Манны, этого сделать не удалось.
У Линя же с русской литературой была несомненная связь, проявившаяся в полной мере в финальной сцене романа. К этому времени он развелся и заключил брак с Манной, которая оказалась сварливой и вечно недовольной женой. Однажды перед началом китайского Нового года она отправила Линя с гостинцами для его первой жены и дочери. Он был удивлен, но потом догадался, что она надеялась на их помощь в воспитании своих детей, поскольку была тяжело больна. Бывшая жена Шуюй и дочь Хуа тепло его приняли, Линь впервые за долгое время почувствовал себя дома и в то же время понял, что они вполне могут обойтись без него. Тогда ему и приходит в голову мысль о том, что он «“лишний человек”. Эту фразу он когда-то читал в русском романе. Имя автора забылось» [ibid.: 303].
Конечно, это самоопределение можно счесть грустной иронией автора по отношению к своему герою, явно лишнему в той среде, где ему суждено было оказаться. Вероятно, Ха Цзинь и не имел в виду какой-то определенный русский роман, да и трудно представить более несходные социальные и исторические обстоятельства, чем у «лишних людей» в дворянской России и военного врача в коммунистическом Китае. Однако в нашей галерее «лишних людей» есть герой, по складу характера и внутренней философии обнаруживающий определенное родство с Линем Куном, и этот герой – Обломов3.
Обломов традиционно считается воплощением русского национального характера4, которому свойственна «всемирность» и в том числе азиатская составляющая. В романе Гончарова присутствуют отсылки к этой составляющей: Обломов-ка находилась в «одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии» [Гончаров 1990: 60]. Покинув родовое поместье, где царил вечный сонный покой, Обломов большую часть времени проводил в домашнем костюме, который необыкновенно шел «к покойным чертам лица его и к изнеженному телу»: «настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире» [там же: 20– 21]. Сравним с конфуцианским описанием наряда «благородного мужа»: «желтый свободный халат», у которого, однако, «должен быть короткий правый рукав для того, чтобы он мог пользоваться рукой» [Высказывания Конфуция]. «Благородный муж» в китайской традиции нередко наделяется чертами инфантильности и даже женственности, что подчеркивается близостью покроя мужского и женского одеяний. Поэтому вполне закономерен риторический вопрос Татьяны Толстой в предисловии к новому переводу «Обломова» на английский язык: «Разве сон о сне Обломовки не напоминает буддийскую сутру?» [Tolstaya 2006: viii]. Неразделимость сна и яви в мироощущении Обломова напоминает и знаменитую притчу о китайском философе Чжу-анцзы, которому приснилось, что он мотылек, а при пробуждении он не мог понять, снилось ли ему, что он – мотылек, или мотыльку снилось, что он – Чжуанцзы.
Обломову пришлось пережить лишь два испытания социальной средой, после которых он полностью отстранился от нее: попытка службы и попытка женитьбы. Служба сразу же «озадачила его самым неприятным образом»: оказалось, что «слякоть, жара или просто нерасположение» вовсе не являются «достаточными и законными предлогами к нехождению в должность», а начальник, «отец подчиненных», весьма далек от обломовского «смеющегося и семейного» о нем понятия. После двух с небольшим лет «труда и скуки» Обломов сначала сказывается больным, а потом и вовсе с облегчением подает в отставку [Гончаров 1990: 61–63].
Если самым мучительным испытанием Обломова во время службы было составление скучных «записок», ради которых его иногда находили в гостях и даже будили ночью, то вся многолетняя трудовая жизнь Линя Куна представляла собой суровый распорядок дня, бесконечные общественные поручения и военную муштру. После окончания школы у Линя, возможно, и были какие-то честолюбивые планы, и школьный учитель литературы, «старый книжник», даже подарил ему блокнот с пожеланием «Однажды вернуться командующим десятитысячного войска!» [Jin 2000b: 53], но молодой человек, мечтавший о работе библиотекаря, вынужденно стал армейским врачом, и это сразу лишило его возможности сделать завидную карьеру. В его однообразно тягостной жизни не было легких дней, были лишь менее и более трудные. Так, одним из наиболее мучительных испытаний стал многодневный Пеший Поход, изможденных участников которого Линь самоотверженно лечил, несмотря на собственную усталость.
С действительностью, суровой для одного и просто скучной для другого, героев примиряли мечты об идеальной семейной жизни, полной умиротворенных и в то же время «культурных» радостей. Обломов, избавившись от докучной необходимости «служить», посвящал им практически все время уютного лежания на своем диване; Линь Кун мог их позволить себе лишь в редкие минуты отдыха. Интересно, что мечты эти перекликаются. Сравним в «Обломове»: «…обняв жену за талию, углубиться с ней в бесконечную, темную аллею; идти тихо, задумчиво, молча или думать вслух, мечтать... Потом воро- титься, слегка позавтракать и ждать гостей... А на кухне в это время так и кипит... Потом лечь на кушетку; жена читает вслух что-нибудь новое... Еще два, три приятеля, все одни и те же лица... В глазах собеседников увидишь симпатию, в шутке искренний, не злобный смех... «И весь век так?» – спрашивает Штольц. «До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь» [Гончаров 1990: 161]. И в «Ожидании»: «…погружаясь все глубже в сон, он видел просторный дом с кабинетом, полным книг в твердых переплетах на дубовых полках и несколькими картинами в рамах на стенах. В глубине дома была застекленная веранда, выходящая на овальную зеленую лужайку. Был субботний вечер, и несколько друзей и коллег пришли поговорить об операх и фильмах, пока хозяйка наливала чай и лимонад и передавала острые тыквенные семечки, жареный арахис и сигареты» [Jin 2000b: 53].
Грезы о тихой семейной жизни обоих мечтателей были прерваны любовными историями с деятельными женщинами, что стало суровым социальным испытанием для обоих. Обоих пугала женская активность, и Обломову удалось от нее отстраниться. Он осознал, что Ольга слишком целеустремленна и безупречна, чтобы быть ему подходящей спутницей. Когда она пытается убедить его, что нужно «жить, действовать, благословлять жизнь», и уже видит себя спасительницей «безнадежного больного» и его «нравственно погибающего ума, души», восклицая: «Жизнь – долг, обязанность, следовательно, любовь тоже долг: мне как будто Бог послал ее и велел любить», Обломов начинает испытывать сомнения и тревогу. «А есть радости живые, есть страсти?» – спрашивает он Ольгу, на что она отвечает еще более пугающе: «Не знаю, я не испытала и не понимаю, что это такое» [там же: 216]. Тогда Обломов и задается вопросом: «А что, если чувство Ольги – не любовь, а всего лишь предчувствие любви? Она любит теперь, как вышивает по канве: тихо, лениво выходит узор, она еще ленивее развертывает его, любуется, потом положит и забудет. Да, это только приготовление к любви, опыт, а он – субъект, который подвернулся первый... Она была готова к вос-принятию любви... и он встретился нечаянно, попал ошибкой... Другой только явится – и она с ужасом отрезвится от ошибки!» [там же: 220]. Найдя «благородный» предлог для своего недеяния, Обломов тянет время и подводит Ольгу к решению о необходимости разрыва их отношений.
В романе Ха Цзиня несравнимо меньше рефлексии, его стиль очень сдержан – недаром он получил премию имени Хэмингуэя, – однако и в его тексте встречаются описания совершенно безнадежных ощущений героя, уже не смеющего вырваться из пут своей нелюбовной связи. Задолго до второй женитьбы Линя автор замечает, что «его жизнь была простой и мирной, пока однажды Манна не изменила ее» [Jin 2000b: 49], и приводит героя к решению, что «никакая женщина ему не нужна» [ibid.: 80]. Накануне свадьбы с Манной Линь размышляет: «Неудивительно, что люди называют брак смертью любви. Чем ближе женитьба, тем меньше привязанности я чувствую к ней. Неужели я ее больше не люблю?» [ibid.: 214]. На свадьбе он испытывает невыносимую скуку, а безрадостная семейная жизнь губит его единственную настоящую любовь – чтение. Его книги пылятся на полках, тогда как Манна, никогда прежде не бравшая в руки книги, в браке принялась активно читать о беременности, рождении и воспитании ребенка и пересказывать все прочитанное Линю, утомляя и раздражая его.
Жизненную философию Обломова и Линя можно соотнести с «благородным недеянием» даосизма как последовательной проповеди невмешательства в ход событий и принципа покорности стихийным силам природы. М.М. Пришвин рассматривал противостояние Обломова и Штольца (и косвенно Ольги, его единомышленницы) как нравственно-философскую проблему национального масштаба: «Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя… Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, и только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлена обломовскому покою» [цит. по: Гейро 1990: 11].
В конце жизни Обломов находит успокоение в браке со своей квартирной хозяйкой Агафьей Матвеевной Пшеницыной, но его семейная жизнь совершенно лишена изящной составляющей, о которой он мечтал. Нет ни оранжереи, ни музицирования, ни обсуждения книг, лишь вкусной едой и ежеминутной заботой он обеспечен благодаря жертвенности жены, а она «из недели в неделю, изо дня в день тянулась из сил, мучилась, перебивалась, продала шаль, послала продать парадное платье и осталась в ситцевом ежедневном наряде...» [Гончаров 1990: 370]. Обломов стал жертвой махинаций брата Агафьи Матвеевны и вынужден выплачивать ему долг, постепенно обрюзг, опустился до заплатанного халата и в конце концов достиг полного угасания. Но строки о смерти Обломова полны светлой печали: он нашел последний приют «между кустов, в затишье. Ветки сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь» [Гончаров 1990: 417]. Эта атмосфера покоя перекликается с описанием Об-ломовки, замыкая жизненный цикл героя: «Там надо искать свежего, сухого воздуха, напоенного не лимоном и не лавром, а просто запахом полыни, сосны и черемухи» [там же: 97].
Линь Кун не оценил тепла домашнего уюта в первом браке, а второй совершенно лишил его покоя. Если Обломова всегда тянул мир грез, навеянный безмятежным детством, то Линь Кун, никогда не знавший легкой жизни и даже комфорта отдельной комнаты, всегда мечтал о мире книг. В финале романа Линь просит прощения у первой жены и у дочери и говорит им о болезни Манны, которой, видимо, осталось жить совсем недолго. Нужно лишь «еще немного» подождать. Приняв это успокоительное решение, Линь засыпает, погружаясь в любимое состояние Обломова, воплощающее для него чистоту и невинность. Недаром глядя на своих новорожденных сыновей, Линь мечтал поменяться с ними местами, начать жизнь заново и, возможно, никогда не создавать семью. Встреча с деятельными женщинами нарушила благословенный покой и русского, и китайского героев-созерцателей, но жизнь обоих совершила круг (поскольку на старославянском «обло» и означает «круглый»): от недеяния к «деянию» — матримониальные планы Обломова, развод и второй брак Линя Куна — и обратно к недеянию. Проблему дела и недеяния можно считать центральной для обоих романов: Обломов как «материализованное, воплощенное «недеяние» не нуждался во внешнем мире и не пускал его в свое сознание» [Никольский 2009: 75], и Линь Кун, вынужденно социализированный в чуждой и неприятной ему среде, хотя бы в мыслях стремился отгородиться от внешнего мира.
Приведенная интерпретация финального высказывания героя Ха Цзиня предполагает знакомство читателя и с русской, и с китайской культурой. Интерес американских читателей к китайской культуре по-прежнему не лишен экзо-тизации, хотя задолго до успеха Ха Цзиня Америка высоко оценила просветительскую деятельность дочери миссионера Перл Бак, получившей Нобелевскую премию за роман о китайских крестьянах «Добрая земля» (The Good Earth, 1931). Творчество Ха Цзиня и других писателей-иммигрантов первого поколения, пишущих о своих родных странах, видится американской критике особенно ценным, ибо «создает включение международной тематики и перспективы в литературный мейнстрим США» [Birkets 2004: 42].
Ха Цзинь, вероятно, продолжает транскультурный диалог литературы ХХ и XXI вв. с романом «Обломов». В числе других примеров этого плодотворного диалога можно вспомнить о творчестве Сэмюэля Беккета: биографы Беккета свидетельствуют, что писатель прочел «Обломова» до того, как написал «В ожидании Годо», и настолько сроднился с этим героем, что в 1920е гг. даже подписывал любовные письма фамилией Обломов. Мариета Божович, напоминая об этом факте на конференции Американской ассоциации славистики (Новый Орлеан, 2007), подчеркивает, что «романы и пьесы Беккета доводят до абсурда повествовательную стратегию Гончарова: в них отрицаются все литературные средства, которые делают текст «интересным», и просто повествуется о том, о чем повествовать невозможно; в частности, антигерои Беккета доводят до абсурда обломовский отказ путешествовать и учиться». Исследовательница также цитирует Александра Михайловича, утверждавшего, что «Беккет обыгрывал образ «лишнего человека»… и сам признавался, что постоянно лежащий Обломов был своего рода прототипом его абсурдного героя» [Божович 2010]. Недаром бродяга из «Годо» носит русское имя Владимир и его сон приравнивают к состоянию невинности, а в «Элевтерии», как и в «Последней ленте Крэппа», герой хочет оставаться в состоянии младенца или зародыша, т. е. «ничем» по отношению к нормальному обществу взрослых людей.
Попытку самому воплотиться в Обломова и создать пародийную версию этого героя в своем тексте предпринимает русский эмигрант, а ныне успешный американский писатель Гари Штейн-гарт. Чтобы написать рецензию для «Нью-Йорк Таймс» на перевод «Обломова», выполненный Стивеном Перлом, Штейнгарт в течение десяти дней имитирует обломовское недеяние и называет свой эксперимент «Десять дней с Обломовым: Путешествие в моей кровати» [Shteyngart 2006b]. А в своем романе «Абсурдистан» (2006) Штейн-гарт создает раблезианского толстяка Мишу Вайнберга, который после многочисленных злоключений пишет прошение в Американскую иммиграционную службу в надежде, что служащие «глубоко знают русскую литературу» и, прочитав о его тяжких испытаниях, безусловно увидят сходство его грустной судьбы с историями Обломова и князя Мышкина, поскольку и он тоже «нечто вроде святого дурачка, окруженного интриганами» [Shteyngart 2006a: 15].
В последние десятилетия транснациональная интертекстуальность приобретает все более не- обычные формы. Стремление Ха Цзиня в англоязычном тексте о Китае найти точки соприкосновения русской и китайской культур отражает современную тенденцию транскультурного романа. Его рамки не ограничиваются культурными традициями, к которым принадлежит автор, что создает своеобразный «планетарный» текст.
Reader of Linguistics and Intercultural Communication Department Far Eastern Federal University
Список литературы «Лишний человек» в китайско-американской версии
- Божович М. Большое путешествие «Обломова»: роман Гончарова в свете «просветительной поездки»//Новое литературное обозрение. 2010. №106. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/bo12.html (дата обращения: 15.02.2014)
- Вайль П., Генис А. Обломов и «Другие». Гончаров. URL: http://a4format.ru/pdf_files_bio2/4717a6cb.pdf (дата обращения: 15.02.2014)
- Высказывания Конфуция. URL: http://www.confucianism.ru/viskaz2.html (дата обращения: 15.02.2014)
- Гейро Л. С. Роман «Обломов» в контексте творчества Гончарова//Гончаров И. А. Избр. соч. М.: Худож. лит., 1990. С. 3-18
- Гончаров И. А. Избранные сочинения. М.: Худож. лит., 1990. 575 с
- Дружинин А. В. Обломов, роман И. А. Гончарова//Гончаров И. А. в русской критике: сб. ст. М.: Худож. лит., 1958. С. 161-183
- Никольский С. А. Русский человек в деле и недеянии: опыт исследования И.А. Гончарова//Вопросы философии. 2009. №4. С. 72-84
- Ткаченко Г. А. Культура Китая: Словарь-справочник. М.: ИД Муравей, 1999. 384 с
- Цветко А. С. Советско-китайские культурные связи. М.: Мысль, 1974. 131 с
- Birkets S. Snapshots from the Bridge//Arts in America/ed. by George Clack, Richard Lundberg. Manila: RPC, 2004. Р. 40-43
- Jin H. Ha Jin Lets it Go. An Interview with Dave Weich on Feb. 2, 2000a. Contemporary Literary Criticism. Vol. 262. Detroit: Gale, Literature Resource Center. URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=LitRC&u=csufres_main (дата обращения: 15.02.2014)
- Jin H. Writing Without Borders. An Interview with Chris GoGwilt on Nov. 16, 2006. Contemporary Literary Criticism. Vol. 262. Detroit: Gale, Literature Resource Center. URL: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=LitRC&u=csufres_main (дата обращения: 15.02.2014)
- Jin H. Waiting. N.Y.: Vintage Books, 2000b. 308 p
- Shteyngart G. Absurdistan. N.Y.: Random House, 2006a. 352 p
- Shteyngart G. Ten Days with Oblomov: A Journey in My Bed//The New York Times. 2006b. Oct. 1 URL: http://www.nytimes.com/2006/10/01/books/review/Shteyngart.t.html?_r=1 (дата обращения: 15.02.2014)
- Tolstaya T. Foreword//Goncharov I. Oblomov/Trans. Stephen Pearl. N.Y.: Bunim & Bannigan, 2006. Р. viii-ix