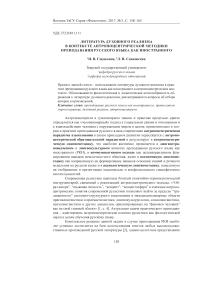Литература духовного реализма в контексте антропоцентрической методики преподавания русского языка как иностранного
Автор: Гладилина Ирина Владимировна, Скаковская Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
Предмет данной статьи – использование литературы духовного реализма в практике преподавания русского языка как иностранного в антропоцентрическом контексте. Обосновывается филологическая и дидактическая целесообразность обращения к литературе духовного реализма, рассматриваются вопросы об отборе авторов и произведений.
Преподавание русского языка как иностранного, православное миросозерцание, духовный реализм, антропоцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/146122066
IDR: 146122066 | УДК: 372.8:811.111
Текст научной статьи Литература духовного реализма в контексте антропоцентрической методики преподавания русского языка как иностранного
Антропоцентризм в гуманитарном знании и практике предельно кратко определяется как «человекомерный» подход к социальным связям и отношениям и к взаимодействию человека с окружающим миром в целом; применительно к теории и практике преподавания русского языка современная антропоцентрическая парадигма языкознания в своем прикладном развитии пересекается с антропоцентрической образовательной парадигмой и результирует в антропоцентрическую лингвометодику , что наиболее явственно проявляется в лингвострановедческом и лингвокультурном аспектах преподавания русского языка как иностранного (РКИ), в коммуникативном подходе как целенаправленном формировании навыков межличностного общения, далее в когнитивную лингвоме-тодику как направленную на формирование навыков освоения знаний и речевого мышления на русском языке и в аксиологическую лингвометодику , нацеленную на отображение и презентацию национально и конфессионально специфических систем ценностей.
Современная русистика накопила богатый понятийно-терминологический инструментарий, связанный с реализацией антропоцентрического подхода. «“Образ автора”, “языковая личность”, “концепт”, “концептосфера” и смежные антропоцентрические понятия современной русистики позволяют выйти за пределы “традиционного” системно-структурного языкознания в междисциплинарные области прагмалингвистики и прагмастилистики, лингвокультурологии, социолингвистики, психолингвистики и других дисциплин, ориентированных на “феномен человека” как на свой главный объект» [1, с. 4]. Актуальная задача практического преподавания – адаптировать антропоцентрические понятия русистики как филологической науки к целям обучения русскому языку.
Комплексное решение данной задачи в случае преподавания РКИ наиболее успешно достигается на базе использования текстов любых высокохудожественных произведений русской литературы [2], однако целостное представление о менталитете русского человека в его глубинных основах, которые питаются христианским православным миросозерцанием, может решаться на основе только такой художественной литературы, которая фундируется религиозным православным миросозерцанием. В этом главное основание целесообразности обращения к литературе духовного реализма (более подробно мотивировку целесообразности обращения к литературе духовного реализма в практике преподавания РКИ, которая, в другой терминологической огласовке, предстает также как православная художественная литература, духовная проза, религиозная художественная литература, христианская проза или даже приходская проза, см. в нашей предшествующей работе: [3]).
В литературоведческой и методической литературе пока не сложилась устойчивая традиция терминологически однозначного именования данного литературного феномена. Часто пользуются термином духовная проза , который, с одной стороны, оказывается расширительным, поскольку отсылает не только к художественной литературе, но и к святоотеческой традиции, к философской прозе и публицистике, то есть, на наш взгляд, слишком широк, чтобы использоваться для обозначения феноменов именно художественной литературы, с другой стороны, слишком узок, поскольку исключает феномены духовной поэзии и духовной драмы (ср., например, следующее спорное в указанных отношениях определение: « Духовная проза – это пласт художественных произведений религиозно-церковной тематики, авторами которых являются как православные священнослужители, так и верующие светские писатели. В качестве синонима может употребляться термин православная проза , более конкретно подчеркивающий конфессиональную принадлежность ее создателей» [9]). Духовный реализм , как более точный, на наш взгляд, термин, применительно к целям преподавания РКИ целесообразно определить как отображение в художественной литературе православного миросозерцания , высших форм духовно-религиозного опыта [5] (ср. в определении А. М. Любомудрова, одного из первых исследователей, инициировавших использование данного термина: «…отраже-ние религиозной культуры в художественной литературе» [11, с. 113]).
Целенаправленное обращение в практике преподавания русского языка к художественной литературе духовного реализма органично выводит педагогическую ситуацию за пределы собственно антропоцентрической парадигмы – в парадигму теолингвистики с идеями богочеловечества и теоцентризма в числе основополагающих, далее в ее прикладные педагогические преломления (см., например, фундаментальные работы В. И. Постоваловой: [13; 14]). Тем самым, различные области языкознания и преподавательской практики, включая лингвокуль-турологию, филологическую концептологию и антропоцентрическую лингвомето-дику, находятся, по удачному выражению О. Н. Кушнир, как бы «на перепутье» различных парадигм: антропо-, тео- и идеоцентрической [8, с. 166–199] (имеются в виду гуманистическая, духовно-религиозная и секулярно-идеологическая парадигмы). В развитие этой метафоры можно утверждать, что дальнейшее движение с этого «перепутья», во-первых, возможно лишь по пути их органического сочетания, а не противопоставления – как якобы несовместимых, во-вторых, на этом «перепутье» находится не только лингвокультурология, в том числе как одна из лингвометодических основ преподавания русского языка как иностранного, но и вся практика секулярного образования, одной из задач которого в проекции на задачи обучения коммуникации заключается в ориентации на специфику внутри- и межконфессионального общения [15].
Каких авторов, какие произведения русской классики, связанные с феноменом духовного реализма в указанном выше смысле данного понятия, можно было бы рекомендовать для лингвометодической адаптации к целям преподавания русского языка как иностранного в первую очередь? Общие ориентиры могут быть обнаружены заинтересованным преподавателем в шеститомном пособии профессора Московской Духовной академии М. М. Дунаева (1945–2008) «Православие и русская литература», суммированном в объемном издании под названием «Вера в горниле сомнений» [7]. «Ближайшие» рекомендации, которые представляются наиболее очевидными, могут быть, на наш взгляд, суммированы в следующем ориентировочном списке (приводим его не как руководство к непосредственному действию, но как пример возможных направлений филологического и конкретно-методического поиска).
Философские и христианские мотивы в поэтическом творчестве А. С. Пушкина: жизнь и смерть («Я пережил свои желанья…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»), мотив безверия («Безверие», «Демон», «Дар напрасный, дар случайный…»), идеал человека («Пророк», «Подражание Корану», «Отцы пустынники и жены непорочны…»), мотив посмертной памяти («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», возможно, в сопоставлении со стихотворением «Памятник» Г. Р. Державина).
Философские и христианские мотивы в поэтическом творчестве М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева – в контексте пушкинской (возможно, ломоносовской и державинской) традиции.
Духовная проза Н. В. Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями» (избранные адаптированные фрагменты): вопросы о дворянстве, о значении церковной поэзии, об отношениях Европы и России, о роли женщины в обществе, о духовных началах русского национального характера, о строении души верующего и др.
Евангельские мотивы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: сцена чтения Соней притчи о Лазаре, преступление Раскольникова в свете притчи; притча о блудном сыне; покаяние и воскресение Раскольникова; сны Раскольникова.
Евангельские мотивы в повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» (возможно, в кратком изложении и избранных отрывках): Иван Флягин как художественное воплощение русского национального характера, православная религиозность Ивана Флягина как основа жизнестойкости.
Художественное воплощение русского православного человека в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»: образ жизни Марфы Тимофеевны, смерть Глафиры, образы матери Федора Лаврецкого и няни Агафьи, образ жизни Калитиных, поведение молящихся в храме, Лиза Калитина как христианка (воспитание, взгляды, поведение и душевное устроение в целом, путь к иночеству).
Роман И. А. Гончарова «Обломов» как размышление о своеобразии русского характера, о России и ее судьбе: Обломов и Штольц, противоречивость характера Обломова, смысл его жизни и смерти. Вопрос об интерпретации слова обломовщина : обличение или художественно гиперболизированный «идеал жизни»?
Избранные отрывки из произведений Л.Н. Толстого, которые могут быть использованы как страноведческие иллюстрации к православной жизни русских и как художественное отображение духовно-религиозных основ русского национального характера.
Разумеется, приведенные рекомендации достаточно сложны для дальнейшей конкретно-методической адаптации к целям преподавания русского языка как иностранного. В случае прозаических текстов первый необходимый этап такой адаптации – формирование комплекта подходящих относительно законченных по смыслу отрывков. Ограничимся двумя примерами из названных произведений, представляющих едва ли не наибольшие трудности.
Пример 1 .
Отрывок из трактата Н. В. Гоголя «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии», примыкающего по содержанию и стилистике к его религиозно-публицистической книге «Выбранные места из переписки с друзьями» [6], пригодный для выстраивания обсуждения в аудитории вопросов о внутренней жизни православного верующего, об особенностях его духовного устроения.
Рабочее название отрывка – «Об унынии».
«Уныние есть величайший из грехов, а потому, как только одна тень его набежит на нас, мы должны тот же час прибегнуть к Богу и молиться от всех сил наших.
Уныние одолевает иных тогда, когда почувствуешь свою слабость и бессилие , уныние от того, что бессилен и мал духом, одолевало всякого и знакомо всем. Самые сильные характеры чувствовали так же свое бессилие, как и самые бессильные. Разница в том, что сильнейшим посылаются испытания сильнейшие, несчастия тягчайшие; слабейшим слабейшие. И потому в такие минуты никак не следует отчаиваться, но молиться крепче и крепче до тех пор, пока не умягчится душа и не разрешится слезами. Немедленно после молитвы, когда воздвигнется хотя на время дух, перечитать все правила и наставления в жизни, какие есть у нас выписаны и какие должны быть у всякого, перечитать журнал свой, все записанные там грустные и тяжелые минуты. Потом взглянуть на свои настоящие обстоятельства, на свое положение и на свои огорченья текущие. И когда обдумаем, взвесим и сравним все, тогда вдруг как молния осияет и озарит нас Самим Богом ниспосланная мысль, и мы находим тогда средства помочь тому, чему и не думали быть в силах помочь.
У человека нет своей силы; это он должен знать и помнить всегда, – и кто надеется на свою силу, тот слабее всех в мире. Мы должны быть крепки Божьей силой, а не своею. Твердейшими характерами сделались только те, которые сильно падали духом и бывали в некоторые минуты жизни бессильнейшими всех. Это-то самое и заставило их всеми силами вооружиться против собственного бессилия. Они старались, молились, беспрестанно испрашивая помощи, и таким образом окрепли и сделались твердейшими. Те же, которые нам иногда кажутся сильными потому только, что имеют грубую и жесткую натуру, не знают жалости, способны оскорблять, деспотствовать и выказывать характер свой капризами, – те кажут только одну мишуру силы, а в самом деле ее не имеют. На первом несчастии, как на пробном камне, они узнаются. При первом приступе несчастия они оказываются малодушными, низкими, бессильными, как ребенки; тогда как слабейшие возрастают, как исполины, при всяком несчастии. “Сила моя в немощи совершается”, – сказал Бог устами апостола Павла». (337 слов.)
Пример 2 . Отрывок из романа Л. Н. Толстого «Воскресение» (часть первая, глава XV).
Рабочее название отрывка – «На Пасху».
«Всю жизнь потом эта заутреня осталась для Нехлюдова одним из самых светлых и сильных воспоминаний.
С правой стороны – мужики: старики в домодельных кафтанах и лаптях и молодые в новых суконных кафтанах, подпоясанных яркими кушаками, в сапогах. Слева – бабы в красных шелковых платках, плисовых поддевках, с ярко-красными рукавами и синими, зелеными, красными, пестрыми юбками, в ботинках с подковками. Мужики крестились и кланялись, встряхивая волосами; женщины, особенно старушки, уставив выцветшие глаза на одну икону с свечами, крепко прижимали сложенные персты к платку на лбу, плечам и животу и, шепча что-то, перегибались стоя или падали на колени. Дети, подражая большим, старательно молились, когда на них смотрели. Золотой иконостас горел свечами, со всех сторон окружавшими обвитые золотом большие свечи.
В середине стояла аристократия: помещик с женою и сыном в матросской куртке, становой, телеграфист, купец в сапогах с бураками, старшина с медалью и справа от амвона, позади помещицы, Матрена Павловна в переливчатом лиловом платье и белой с каймою шали, и Катюша в белом платье с складочками на лифе, с голубым поясом и красным бантиком на черной голове.
Все было празднично, весело и прекрасно: и священники в светлых серебряных с золотыми крестами ризах, и дьякон, и дьячки в праздничных серебряных и золотых стихарях, и нарядные добровольцы-певчие с маслеными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрестанное благословение народа священниками тройными, убранными цветами свечами, с все повторяемыми возгласами: “Христос воскресе! Христос воскресе!” Все было прекрасно, но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, с красным бантиком на черной голове и с сияющими восторгом глазами.
В промежутке между ранней и поздней обедней Нехлюдов вышел из церкви. Рассвело уже настолько, что было видно, но солнце еще не вставало. На могилках вокруг церкви расселся народ. Катюша оставалась в церкви, и Нехлюдов остановился, ожидая ее.
Тут же подошел молодой улыбающийся мускулистый мужик в новой поддевке и зеленом кушаке.
– Христос воскресе, – сказал он, смеясь глазами, и, придвинувшись к Нехлюдову и обдав его особенным мужицким, приятным запахом, щекоча его своей курчавой бородой, в самую середину губ три раза поцеловал его своими крепкими, свежими губами.
В то время как Нехлюдов целовался с мужиком и брал от него темно-коричневое яйцо, показалось переливчатое платье Матрены Павловны и милая черная головка с красным бантиком.
Она тотчас же через головы шедших перед ней увидала его, и он видел, как просияло ее лицо.
Они вышли с Матреной Павловной на паперть и остановились, подавая нищим. Нищий, с красной, зажившей болячкой вместо носа, подошел к Катюше. Она достала из платка что-то, подала ему и потом приблизилась к нему и, не выражая ни малейшего отвращения, напротив, так же радостно сияя глазами, три раза поцеловалась. И в то время, как она целовалась с нищим, глаза ее встретились с взглядом Нехлюдова. Как будто она спрашивала: хорошо ли, так ли она делает?
“Так, так, милая, все хорошо, все прекрасно, люблю”.
Они сошли с паперти, и он подошел к ней. Он не хотел христосоваться, но только хотел быть ближе к ней.
– Христос воскресе! – сказала Матрена Павловна, склоняя голову и улыбаясь, с такой интонацией, которая говорила, что нынче все равны, и, обтерев рот свернутым мышкой платком, она потянулась к нему губами.
– Воистину, – отвечал Нехлюдов, целуясь.
Он оглянулся на Катюшу. Она вспыхнула и в ту же минуту приблизилась к нему.
– Христос воскресе, Дмитрий Иванович.
– Воистину воскресе, – сказал он. Они поцеловались два раза и как будто задумались, нужно ли еще, и как будто решив, что нужно, поцеловались в третий раз, и оба улыбнулись.
В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного, и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь светло Христова воскресения. Когда он теперь вспоминал Катюшу, то из всех положений, в которых он видел ее, эта минута застилала все другие. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье со складками, девственно охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные, чуть-чуть от бессонной ночи косящие глянцевитые черные глаза, и на всем ее существе две главные черты: чистота девственности любви не только к нему, – он знал это, – но любви ко всем и ко всему, не только хорошему, что только есть в мире, – к тому нищему, с которым она поцеловалась.
Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал ее, и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно». (719 слов.)
Думается, без каких-либо специальных разъяснений очевидно, что приведенные тексты достаточно сложны не только в лексическом и грамматическом отношении, но и (что нас в данном случае интересует прежде всего) в страноведческом и культурологическом аспектах, что требует от преподавателя, решившегося такие тексты использовать, не только тщательного учета национальной, конфессиональной специфики и уровня общекультурной и языковой подготовки аудитории, но и глубокого продумывания различных комментариев и заданий.
Заметим, что в страноведческом отношении в практике преподавания РКИ, как правило, представлены стандартные страноведческие вопросы, не связанные непосредственно с задачами характеристики особенностей русской духовности: Россия на карте мира, ее народы, ландшафт, климат и др. вопросы географического характера; государственно-политическое устройство; сведения об истории России, в том числе об истории русской письменности; Москва как столица и Санкт-Петербург как «культурная столица» России, другие российские города (краеведческий аспект, регионоведение); праздники в России (Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Международный женский день, День Победы и др.) и т. п. «Дальнейшая» разработка этой проблематики достаточно успешно ведется в коммуникологиче-ском аспекте, как, например, в пособии А. В. Павловской [12], где, например, в разделе «Деловой этикет» даются конкретные рекомендации, когда лучше приезжать в Россию, где и когда разговаривать и делах, что дарить русским партнерам и др. На очереди – целенаправленное знакомство студентов-иностранцев и с глубинными особенностями духовно-религиозной жизни русских.
В лингвокультурологическом отношении наиболее актуальной представляется задача углубленного знакомства с духовно-религиозными основами русской культуры, причем не только в этноисторической акцентировке, как, например, в по- собии Ю. А. Вьюнова [4], где рассматриваются вопросы о становлении Руси – России, о проявлениях русского характера в различных сферах общественной жизни, о русском предпринимательстве и «русской национальной идеологии», но и в духовно-религиозном, в том числе в религиозно-нравственном аспектах на основе знакомства с разнообразными видами русской «духовной прозы», что осуществляется в частности, в Институте русского языка им. А. С. Пушкина [10; 11].
В заключение подчеркнем: студенту-иностранцу, осваивающему русский язык, важно не только одновременно с этим осваивать и основные сведения об истории России и ее современном состоянии, о ее географии, экономике и культуре, поскольку без такого знания невозможно достаточно глубоко ни понимать тексты, ни успешно общаться с русскими, но и понимать глубинные духовно-религиозные основания русского характера, которые наиболее внятно, в доступной и яркой художественной форму отображены именно в литературе духовного реализма.
THE LITERATURE OF SPIRITUAL REALISM IN THE ANTHROPOCENTRIC CONTEXT
Tver State University
Список литературы Литература духовного реализма в контексте антропоцентрической методики преподавания русского языка как иностранного
- Волков В. В. Основы филологии. Антропоцентризм, языковая личность и прагмастилистика текста: курс лекций. Тверь: Тверской гос. ун-т, издатель А. Н. Кондратьев, 2013. 147 с.
- Волков В. В., Гладилина И. В. Художественный текст в преподавании русского языка как иностранного: учеб. пособие. Тверь: Тверской гос. ун-т, издатель А. Н. Кондратьев, 2013. 156 с.
- Волков В. В., Гладилина И. В., Скаковская Л. Н. Литература духовного реализма в преподавании русского языка как иностранного//Казанская наука. 2017. № 1. С. 49-54.
- Вьюнов Ю. А. Русский культурный архетип. Страноведение России: учеб. пособ. М.: Флинта, 2017. 482 с.
- Гладилина И. В., Усовик Е. Г. Языковая репрезентация концепта Высшие формы опыта в произведениях русской литературы XIX-XXI веков//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 1. С. 135-141.
- Гоголь Н. В. О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии//Гоголь Н. В. Полное собр. соч. и писем: в 17 т. Т. 6: Выбранные места из переписки с друзьями. Духовная проза. Критика. Публицистика. М.; Киев: Изд-во Моск. Патриархии, 2009. С. 305-313.
- Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII-XX веках. М.: Изд. совет Рус. Правосл. Церкви, 2003. 1056 с. . URL: https://azbyka.ru/fiction/v-gornile-somnenij/.
- Кушнир О. Н. Эволюция русской концептосферы на рубеже XX-XXI веков. Вопросы динамической лингвоконцептологии: дис. … докт. филол. н. 10.02.01/О. Н. Кушнир; Тверской гос. ун-т. Тверь, 2013. 406 с.
- Леонов И. С. Изучение современной русской духовной прозы в рамках проекта «Русский язык, литература и культура сегодня» (Гуманитарный мир современной России)//Studia Humanitatis. 2013. № 1. С. 11.
- Леонов И. С. Современная духовная проза: типология и поэтика//Русский язык за рубежом. 2010. № 4 (221). С. 89-95.
- Любомудров А. М. Духовный реализм как отражение религиозной культуры в художественной литературе//Вестник славянских культур. 2008. Т. IX. № 1-2. С. 113-120.
- Павловская А. В. Как иметь дело с русскими. Путеводитель по России для деловых людей. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 96 с.
- Постовалова В. И. Религиозные концепты в православном миросозерцании (Образовательный курс)//Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2013. № 4. С. 107-216.
- Постовалова В. И. Теолингвистика в современном гуманитарном познании: истоки, основные идеи и направления//Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2012. № 4. С. 56-103.
- Скаковская Л. Н. К вопросу о коммуникативной функции современных национальных литератур//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 140-145.