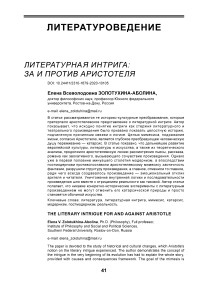Литературная интрига: за и против Аристотеля
Автор: Золотухина-Аболина Елена Всеволодовна
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 (36), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются те историко-культурные преобразования, которые претерпело аристотелевское представление о литературной интриге. Автор показывает, что исходно понятие интриги как стержня литературного и театрального произведения было призвано показать целостную историю, подчиненную причинным связям и логике. Целью мимесиса, подражания жизни, согласно Аристотелю, является глубокое преобразующее человеческую душу переживание - катарсис. В статье показано, что дальнейшее развитие европейской культуры, литературы и искусства, а также их теоретического анализа, продолжило аристотелевскую линию рассмотрения пьесы, рассказа, романа как эвокативного, вызывающего сочувствие произведения. Однако уже в первой половине минувшего столетия модернизм, а впоследствии постмодернизм противопоставили аристотелевскому мимесису хаотичность фантазии, разрушили структуру произведения, а главное, отменили то главное, ради чего всегда создавалось произведение - эмоциональный отклик зрителя и читателя. Уничтожение внутренней логики и последовательности произведения шло вместе с отрицанием реальности как таковой. Автор статьи полагает, что никакие конкретно-исторические эксперименты с литературным произведением не могут отменить его катарсической природы и просто становятся обочиной искусства.
Литература, литературная интрига, мимесис, катарсис, модернизм, постмодернизм, реальность
Короткий адрес: https://sciup.org/144160303
IDR: 144160303 | DOI: 10.24411/2310-1679-2020-10105
Текст научной статьи Литературная интрига: за и против Аристотеля
THE LITERARY INTRIGUE FOR AND AGAINST ARISTOTLE
Elena V. Zolotukhina-Abolina , Ph.D. (Philosophy), Full professor, Institute of Philosophy and Social and Political Sciences, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
Тема литературной интриги, излагаемая в любом современном учебнике эстетики и литературоведения, восходит к идее Аристотеля о художественном произведении как мимесисе (подражании). Тему мимесиса Аристотель рассматривает в «Поэтике», увязывая в единство античную трагедию и реальность, повседневную жизнь, которой трагедия подражает. При этом Аристотель подчеркивает, что ход театральных событий (то, что впоследствии и называется интригой) — это подражание именно действию, а качества характера персонажей лишь необходимо сопровождают происходящие события. «Трагедия, — пишет Аристотель, — есть подражание действию важному и законченному, имеющему [определенный ] объем, [производимое] речью, услащенной по-разному в различных ее частях, [производимое] в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение (katharsis) подобных страстей» [2, с. 651]. И далее, характеризуя трагедию как состоящую из шести частей (сказания, характера, речи, мысли, зрелища и музыкальной части), он отмечает : «Но самая важная из этих частей — склад событий» [2, с. 652] — и уточняет: «Начало есть то, что само не следует необходимо за чем-то другим, а [напротив] за ним естественно существует или возникает что-то другое. Конец, наоборот, есть то, что само естественно следует за чем-то по необходимости или по большей части, а за ним не следует ничего другого. Середина же — то, что и само за чем-то следует, и за ним что-то следует. Итак, нужно, чтобы хорошо сложенные сказания не начинались откуда попало и не кончались, где попало, а соответствовали бы сказанным понятиям» [2, с. 653–654]. То есть, по Аристотелю, литературно-художественное произведение — это упорядоченное целое, отнюдь не случайное, но подражающее упорядоченности жизни и имеющее целью очистительные для страстей переживания зрителя (читателя), его сострадание предъявленной истории. Завязка и развязка имеют свою логику, перипетии — перемены происходящего в свою противоположность — могут быть необходимыми или вероятными. Удовольствие воспринима- ющего возникает при перемене от незнания к знанию и здесь участвует страсть, а развязка вытекает из самого сказания, а не достигается с помощью машины. Сюжетом трагедий становятся реальные истории конкретных династий, родов, реальные судьбы, и поэт «словно сам присутствует при событиях» [2, с. 664]. Это означает, что сама жизнь видится Аристотелю как совокупность целостных и осмысленных историй, последовательных и причинно связанных, а искусство здраво и темпорально последовательно их воспроизводит в формах литературы и театра.
Вплоть до ХХ века история европейской культуры не отступает от этих воззрений Аристотеля. И театр, и роман, включая реалистический роман XIX века, демонстрируют следование принципам Аристотеля и в понимании жизни как «совокупности последовательных историй», и в видении литературно-художественных произведений как миметического воспроизведения этих естественных жизненных «интриг». При всем различии литературных и сценических стилей, при сказочности и фантазийности произведений романтизма само построение текстов следует правилу целостности, логичности, причинной обусловленности, темпоральной связности, а также имеет целью пробуждение сопереживания реципиента. Даже в эстетической мысли ХХ века, изначально пронизанного модернистскими тенденциями, мы встречаемся у самых разных авторов с одобрительным и уважительным отношением к восходящей к Аристотелю мысли о пространственной и временной упорядоченности художественного текста. И, вероятно, это вовсе не случайно, поскольку обычному человеку, живущему в «повседневной реальности» душевно близки те тексты и постановки, которые могут быть им узнаны, соотнесены с опытом обычной жизни.
Так, если мы обратимся к текстам Д.Лукача и заглянем в его работу «Своеобразие эстетического» написанную в 60-е годы ХХ века, то обнаружим там взгляд на художественное произведение как целое с высокой степенью упорядоченности, задача которого — эвокативное (то есть вызывающее сочувствие) воздействие. Произведение для него — «единый и завершенный в себе жизненный процесс», который «не только с содержательной точки зрения образует замкнутое целое — такое в порядке исключения может иметь место и в повседневной жизни, но и с формальной стороны строится на основе завершенного в своей полноте отражения действительности и временного расщепления самой действительности» [5, с. 60]. Написанная в те же годы «Эстетическая теория» Теодора Адорно, автора совершенно иного склада и иных убеждений, нежели Д.Лукач, повествует нам о «монадности» произведения, которое хоть и устремлено за свои рамки, но всё же целостно. Подчеркивая процессу-альность произведения, его изменение под влиянием времени, отвергая в нем окончательность структуры, Адорно тем не менее подчеркивает, что произведение оформляет неоформленное. Оно — парадокс динамики и неизбежной фиксации. «Произведения искусства, — отмечает он также, — удается познать тем ближе к истине, чем больше их историческая субстанция соответствует исторической субстанции познающего» [1, с. 266], то есть для Адорно, как и для других авторов, разделяющих аристотелевский подход, произведение и реальность, с одной стороны, несомненно, разделены, с другой — миметически запараллелены самим подражательным характером художественности. Литературное воспроизведение истории имеет прямое отношение к последовательности повествуемых событий.
Весьма подробно саму Аристотелеву концепцию мимесиса и интриги рассматривает в своих произведениях Поль Рикёр. В его работе «Время и рассказ» (Т. 1) интрига произведения видится как развертывающаяся в необратимом времени, она воспроизводит определенные отношения персонажей, выступая как единство «согласия и несогласия» (трудностей на пути героев). Повествование выводит интеллигибельное из случайного, универсальное из единичности. Рикёра интересует, во-первых, то, что предшествует произведению (мимесис-1 — символика, ценности, предпо-нимание), во-вторых, непосредственное создание литературной интриги (мимесис-2 — конфигурация); в-третьих, то, что следует за произведением (мимесис-3 — восприятие читателя). «В конечном счете, — пишет Рикёр, — то, что сообщается, — это стоящий за смыслом произведения мир, который оно проецирует и который образует его горизонт» [6, с. 95]. И далее он говорит: «Язык сам по себе принадлежит сфере Тождества. Мир — это его Иное» [6, с. 96].
Практически все, кто пишет о теории литературы [9; 10], подчеркивают, что искусство отсеивает всё ненужное, выстраивая главную линию произведения.
Однако уже в первой половине минувшего столетия практика культуры предъявила иное понимание литературно-художественного произведения и интриги, противостоящие идеям Аристотеля. Модернизм, а впоследствии постмодернизм противопоставили аристотелевскому мимесису буйство субъективной фантазии, разрушение внутренней структуры произведения, а по сути отменили главную, говоря словами Д.Лукача, основную цель литературного творения — его «эвокативность», поиск сопереживания читателя и зрителя. Эту тенденцию мы видим у Дж.Джойса, Ф.Кафки, У.Фолкнера, но особенно — у создателей «нового романа» Натали Саррот и А.Роб-Грийе.
«Первые романы Саррот, — пишет исследователь А.Таганов, — в полной мере отразили присущее всем “новороманистам” недоверие к традиционным формам художественного познания. В них (романах) автор отказывался от привычных клише. Отбрасывая принцип сюжетной организации текста, отходя от классических схем построения системы пер- сонажей, социально детерминированных, заданных нравственными и характерологическими определениями, выводя предельно обезличенных, зачастую обозначенных лишь местоимениями “он”, “она” персонажей, Сар-рот погружала читателя в мир расхожих банальных истин, составляющих основу массового менталитета, под тяжеловесным слоем которых тем не менее угадывался глубинный ток универсальной первичной субстанции “тропизмов”» [8]. Близкие характеристики аналитики дают творчеству А.Роб-Грийе. «Бальзаковской сочной истории с героями и перипетиями и социально-философским значением Роб-Грийе противопоставил элементарный, декларативно антиантропоморфный текст без сюжета и персонажей, без начала и конца и с пустотой в центре — притягивающей, пугающей и порождающей всё новые варианты “развития” книги, в которой всё — обман, бессмысленность, отрицание догматичной окаменелости и однозначности» [3, с. 72].
Вполне внятно идею разрушения классической структуры произведения выразил основатель театра абсурда Эжен Ионеско, пытаясь спроецировать собственный, хоть и не признанный им, абсурдизм даже на античность. «Мир — это история, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, лишенная всякого смысла и значения, — цитирует он Фолкнера и продолжает. — Вероятно, можно говорить о том, что театр абсурда восходит к еще более отдаленным временам и что Эдип тоже был абсурдным персонажем, так как то, что с ним случилось, было абсурдно, но с одной разницей: Эдип нарушал законы бессознательно и был наказан за то, что нарушал их. Но законы и нормы существовали. Даже если их и нарушали. В нашем же театре персонажи, кажется, ни за что не цепляются, и если мне позволено процитировать самого себя, то старики в моей пьесе “Стулья” потеряны в мире без законов и норм, без правил и трансцендентальных понятий. То же самое я хотел показать в более веселом духе в такой пьесе, как “Лысая певица”, например» [4, с. 192]. Ионеско, собственно, покушается и на само понятие реальности. «Недостаток реалистического театра, — пишет он, — заключается в том, что он идеологический, то есть в какой-то мере лживый, нечестный театр. Не только потому, что неизвестно, что такое реальность, не только потому, что ни один человек науки не способен сказать, что значит “реальный” (выделено мной. — Е.З.-А. ), но и потому, что реалистический автор ставит перед собой задачу что-то доказать, завербовать людей, зрителей, читателей от имени идеологии, в которой автор хочет нас убедить, но которая от этого не становится более истинной. Всякий реалистический театр — театр жульнический, даже — и особенно — если автор искренен» [4, с. 193].
Так или иначе, вопрос о структуре литературно-художественного произведения перетекает в вопрос о структуре реальности, и если Аристотель в свое время решал этот вопрос недвусмысленно, полагая и то, и другое различными, но структурно и причинно сходными явлениями при первичности реальности, то постмодернистские авторы решительно смешивают искусство и жизнь. Причем и то, и другое теряет при этом форму и связность, а также автономию.
Ярким примером попытки обоснования такой позиции является книга семиотического философа и психоаналитика Вадима Руднева «Новая модель реальности». Книга написана не без иронии и игры, но лукавство автора перетекает в ней в вызывающую бессмыслицу, которую автор отстаивает как свое убеждение. В.П.Руднев, отказываясь от традиционной онтологии, предлагает нам, во-первых, видеть реальность как исключительно семиотическую, а во-вторых, утверждает в «новой модели реальности» отсутствие разграничения слов, вещей, предложений и фактов. Имя, как и предмет, не фигурирует для него самостоятельно, поэтому вообще не приходится говорить о разграничении реальности и произведения (это тем более интересно, что в предыдущих своих работах В.П.Руднев подробно рассматривал строение литературных сюжетов). В новой модели реальности господствуют нестабильность и нелокальность, а жизнь становится текучей, как сновидение. Законы логики отменены, теперь господствуют парадоксы. Отсюда невозможность как мимесиса, так и интриги. «Я вхожу в дверь, дверь входит в меня, — иллюстрирует свой подход В.Руднев. — Я читаю книгу, книга читает меня. Я выступаю как контейнер двери, книги и чего угодно. В том числе как контейнер себя самого. Таким образом, быть объектом в новой модели реальности — это значит быть и объектом, и субъектом, и предикатом. Мама мыла раму. Рама мыла маму. Мытье мамило раму» [7, с. 153].
Всё, таким образом, является как метаморфозой, так и иллюзией, в произведении и в реальности возможно полное оборачивание, смена точек зрения: трагическое является комическим и наоборот. Соответственно, никакого катарсиса и эвокативности быть не может, ибо какое сочувствие способно вызвать сообщение о том, что «мытье мамило раму»? Если нар-рация одновременно, как полагает автор, является теми событиями, о которых она повествует, то нам нечего печалиться об этих событиях или же радоваться им: повествование способно иметь разные векторы и разные интерпретации, о чем мы также можем прочитать у Х.-Л.Борхеса и У.Эко. Не остается ни языковых игр, ни вообще жанров, а также никаких правил. Неопределенность господствует над определенностью, случайность — над необходимостью, всё вырождается в хаос и бессмыслицу.
Оставим за автором его право увлекаться проблемами патопсихологии и психоанализа, но применительно к разговору о соотношении искусства и жизни подобный разговор является либо анархическим мысленным экспериментом, либо «игрой в бисер».
К счастью, для вполне «реальной реальности» книга и спектакль остаются хотя и не только «мимесисом», но мимесисом в немалой степени. В практике словесных искусств и театра мы продолжаем следовать идеям Аристотеля, когда-то сформулированным на базе повседневной жизни. Любое читабельное и смотрибельное произведение отсылают нас к разделяемой действительности, к нашему личному и коллективному опыту, воспроизводит трогающие нас впечатления, удачно скрещивает «логику жизни» и «логику изложения». Все востребованные произведения, несмотря на конкретно-исторические изменения, создаются и функционируют еще по античным лекалам, и это — свидетельство фундаментального единства человеческой природы.
Список литературы Литературная интрига: за и против Аристотеля
- Адорно Теодор В. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001.
- Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983.
- Вишняков А.Г Ален Роб-Грийе: ревность в лабиринте знаков и структур // Изв. Саратов. ун-та. Сер. "Философия. Журналистика". 2010. Т. 10. Вып. 3.
- Ионеско Э. Есть ли будущее у театра абсурда? Выступление на коллоквиуме "Конец абсурда?" // Театр абсурда. Сб. статей и публикаций. СПб.: 2005.
- Лукач Д. Своеобразие эстетического. Т. 2. М.: Прогресс, 1986.
- Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. СПб.: Университетская книга, 1988.
- Руднев В.П. Новая модель реальности. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016.
- Таганов А. Причудливые миры Натали Саррот. URL: http://litresp.ru/chitat/ru/С/sarrot-natali/detstvo-zolotie-plodi/1
- Хализев В. М. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1999.
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2008.