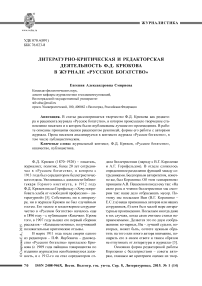Литературно-критическая и редакторская деятельность Ф.Д. Крюкова в журнале "Русское богатство"
Бесплатный доступ
В статье рассматривается творчество Ф.Д. Крюкова как редактора и рецензента журнала «Русское богатство», в котором происходило творческое становление писателя и в котором были опубликованы лучшие его произведения. В работе описаны принципы оценки рецензентом рукописей, формы его работы с авторами журнала. Проза писателя анализируется в контексте журнала «Русское богатство», в том числе публицистическом.
Журнальный контекст, ф.д. крюков, "русское богатство", казачество, публицистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14975293
IDR: 14975293 | УДК: 070.4(091)
Текст научной статьи Литературно-критическая и редакторская деятельность Ф.Д. Крюкова в журнале "Русское богатство"
Ф.Д. Крюков (1870–1920) – писатель, журналист, политик, более 20 лет сотрудничал в «Русском богатстве», в котором с 1913 года был соредактором беллетристического отдела. Уволившись с должности библиотекаря Горного института, в 1912 году Ф.Д. Крюков писал Горнфельду: «Хочу попробовать хлеба от «свободной профессии» – литературной» [5]. Собственно, ни в литературе, ни в журнале Крюков не был случайным гостем. Его тесное и плодотворное сотрудничество в «Русском богатстве» началось еще в 1896 году – с публикации «Казачки». Кроме того, в 1907 году вышел его первый сборник рассказов – «Казацкие мотивы», получивший положительные критические отзывы.
В марте 1911 года после смерти одного из редакторов – П.Ф. Якубовича – руководство «Русского богатства» пригласило Крюкова (с 1909 года пайщика товарищества по изданию журнала) на освободившуюся должность, и с 1912-го он стал соредактором от- дела беллетристики (наряду с В.Г. Короленко и А.Г. Горнфельдом). В отделе сложилось определенное разделение функций между сотрудниками. Бесспорным авторитетом, конечно же, был Короленко. Об этом «сепаратном» принципе А.В. Пешехонов писал ему так: «На свою роль в чтении беллетристики мы смотрим так: наше дело отбрасывать мусор. Поэтому мы посылаем Вам (В.Г. Короленко – Е.С.): а) вещи признанных авторов или наших сотрудников, б) хотя бы в малой мере литературные произведения. Посылаем иногда даже в тех случаях, когда сами считаем статьи неприемлемыми. Делается это по двум соображениям: во-первых, Вы – лучший судья и, во-вторых, может быть, сочтете нужным обратить на того или иного автора внимание, поощрить его в своем ответе и таким образом не отпугивать от литературы и журнала» [3].
Основная форма редакторской работы Короленко с беллетристами – советы авторам, главным же критерием оценки их твор- чества – прогрессивная и общественная значимость тематики. Причем он был объективен в своих суждениях: честен с несостояв-шимися «писателями», с подающими надежду – взыскателен и бережен.
Считая Короленко своим учителем в писательском становлении, Крюков очень дорожил его мнением как редактора, часто обращался к нему за советом. Короленко понимал, как нелегко начинающему редактору, всячески старался приободрить коллегу, приводил в пример забавные случаи из своей редакторской практики, когда он допускал такие же ошибки, как и Крюков: «Не унывайте, Федор Дмитриевич. По началу-то оно трудненько, да и после работа (редактора – Е.С.) не ахти веселая. Но привычка все-таки великое дело» [10, 26]. А позднее добавил: «Терпи, казак, будучи одним из атаманов «Русского богатства» [4].
Крюков, конечно, терпел, но все же частенько жаловался: «Редактор я из рук вон плохой, – писал он Горнфельду. – Как ни воспитывает меня Ал. Вас. (Пешехонов – Е.С. ), как ни распекает – никакого толку... И если бы не был я сейчас так ущемлен обстоятельствами, – просил бы освободить меня от сего почетного, но для меня чрезмерно трудного звания» [6] 1.
Крюков оказался способным учеником. Переняв редакторскую манеру Короленко и следуя литературной политике журнала, писатель тщательно вычитывал рукописи, вел активную переписку с авторами, давал дельные советы, делал толковые замечания. Особым тактом отличалось отношение Крюкова к молодым авторам, которым он уделял доброе, товарищеское внимание, причем без тени менторства. «Учитесь, работайте и пристально читайте самую интересную, по словам Тургенева, книгу – окружающую Вас жизнь», – писал он И.Н. Захарову, когда тот просил «практического указания, как быть, как действовать, к чему примкнуть». «Никогда это не указывается извне, – отвечает Крюков, – каждый должен сам в себе, своей совестью и мыслью, решить вопрос о той тропе, по которой надо идти» [8].
Штатную редакторскую деятельность Крюков начал, имея за плечами своеобразный «профессиональный» опыт: в переписке с дру- зьями, пробующими себя в литературе, он обменивался с ними мнениями по поводу написанного или напечатанного. Так, в письме от 10 октября 1903 года Крюков пишет А.И. Тинякову, своему ученику по Орловской гимназии: «К неизвестности» в целом мне не понравилось, я нахожу хорошим начало, очень хорошим – конец, а средину очень слабой. Много повторений, много растянуто. Когда я читал эту вещь во второй раз, мне так и хотелось перекрестить, то есть вычеркнуть некоторые места. Описание любви и любовных объяснений вам совершенно не удались: много сантимента и мало простых, наиболее сильных в этом случае слов. Вообще музыка слов и их сочетаний вас слишком увлекает, и – правду сказать – Вы мастер в музыкальности фразы. Их символ и тонкость оттенков Вам плохо удаются, хотя Вы и пробуете для выражения их новые, на мой взгляд – рискованные средства. Я повторяю свое прежнее мнение: Вам лучше всего удаются небольшие стихотворения в прозе, а большие вещи выходят слабыми и растянутыми. Напечатанные вещи, например, мне нравятся. Но сотрудничать в «Орловском вестнике» Вам не советую – особенно сотрудничать бесплатно. От «Грифа» тоже не жду для Вас особой пользы. Мне все почему-то кажется, что из «...волн декадентской поэзии» Вы жизнью будете вдвинуты в многообразную поэзию окружающей Вас жизни, и так как Вы не лишены способности наблюдения, анализа и синтеза, то вы непременно натолкнетесь на мысль – изобразить в звуках те уголки жизни, которые станут доступны для Вашего изучения.
В общем, советую Вам побольше учиться, работать и присматриваться ко всему, что Вас окружает» [7].
Дабы не отбить у начинающих писателей (действительно обладающих талантом) тягу к сочинительству, Крюков-редактор, как и Короленко, подробно, но очень осторожно, без резких выпадов и чересчур строгих оценок, разбирал рукописи. Так, например, в письмах к И.Д. Сазанову (от 10 июня, 22 июня и 16 сентября 1913 года) он анализирует его рассказ «Дети и отцы». «Вы можете его починить кое-где и может быть, придать ему больше стройности, и затем опять пришлите, если желаете видеть его на страницах «Рус- ского богатства». Здесь же дается ряд замечаний, касающихся сазановских произведений. «Рассказ, в сущности, мы ведь не забраковали, а вернули его для более удачной отделки, у нас ведь, казачьих писателей, – и у Вас, и у меня, и у Серафимовича – один общий недостаток особенно выпукло чувствуется: излишество романтизма. Живописуем мы свое родное недостаточно трезво, подкрашиваем, усиливаем и светлые, и темные тона, а полутеней совсем нет. Надо бы больше объективизма, поменьше лирики, – лучше было бы. Но конечно, легче дать совет, чем выполнить его. Мне трезвое изображение казачества не дается никак». «Духом не падайте, Иван Дмитриевич, работайте, наблюдайте, дерзайте и учитесь. Учиться нам всем надо, а то мы очень даже степные люди… <…> Пишите и присылайте нам написанное. Если что и вернем, то не беда. <…> Продумывайте, Вам же на пользу пойдет» [2]. Рассказ Сазанова был опубликован в осенней книжке «Русского богатства за 1915 год. Позже он неоднократно присылал в редакцию свои рукописи.
Короленко иногда специально подбирал Крюкову рукописи для редактуры, учитывая его «казацкую руку». В частности, он рекомендовал «Капри» и «Неаполитанские рассказы» Лозино-Лозинского просмотреть другому редактору журнала – Горнфельду. «Вы, Федор Дмитриевич, почти наверное согласитесь со мной. Не в казацком это вкусе. Лучше пусть посмотрит Арк. Георгиевич. Думаю, что и он согласится со мной, но он лучше нас просмакует и Капри, и посвящение (стишина по-итальянски) и другое тому подобное в экзотичес-ки-итальянском вкусе» [10, 30].
С другой стороны, Крюков открыл двери журнала для многих писателей-дончаков. К нему неоднократно обращался с просьбами посодействовать начинающим писателям А.С. Серафимович, с которым велась, помимо редакционной, и дружеская переписка. Но тот всегда был беспристрастен в оценке, не признавая литературного «кумовства». Так, на присланные Серафимовичем стихи («Поэт – молодой учитель с несомненным дарованием, надо поддержать. Знаете, как трудно пробиваться молодежи. Если подойдет, пригрейте начинающего») Крюков ответил: «Со сти- хами ничего не вышло. Оригинальные признаны бедными, серенькими, а японские – испорченное переложение недавно вышедшего перевода в прозе – «Японская лирика». В прозе они душистее, точнее передают чувство, а в слабых стихах – неважные частушки. Не сердитесь: не мой приговор, общий» [1].
Еще в самом начале редакторской карьеры Крюкову приходилось иногда единолично разбирать рукописи и руководить беллетристическим отделом, поскольку Короленко и Горнфельд были в отлучке. Как свидетельствует редакционная документация, он вполне справлялся со своими обязанностями: читал рукописи, правил корректуру, готовил к публикации художественные произведения. Однако он опять-таки был предельно осторожен в своих оценках. Вот, например, строки из его письма к И.П. Малютину: «Статья Ваша, присланная на имя В.Г. Короленко, едва ли скоро будет им прочитана, так как он за границей (в Румынии). Я прочитал те два стихотворения, которые были в письме на мое имя, – в оценке стихов я не компетентен, но имел бы кое-какие возражения против некоторых, так сказать, прозаизмов и несколько избитых мест, но в общем эти стихотворения, несомненно, свидетельствуют о полной литературности Ваших поэтических опытов и, вероятно, кое-что из них будет взято «Русским богатством». В настоящий момент только некому прочитать их, ибо заведующие беллетристическим отделом (Короленко и Горн-фельд) оба в отлучке».
Следуя за Короленко в своих писательских критериях оценки литературных произведений, он советовал: «Попробуйте просто, не мудрствуя лукаво, изобразить прозой то, «чему свидетелем Вы в жизни были», – может быть, подойдет для печати. Только повторяю: будьте просты, правдивы, избегайте особой вычурности. Вы вот пишете: «Маленький, дескать, я человек» и пр. А покойный Чехов с присущим ему юмором говаривал по сему случаю: «Все собаки имеют право лаять – и большие, и маленькие». Отчего же не подать голоса и людям, которые считают себя маленькими? От больших-то людей не очень ведь тесно» [9].
Образ «маленькой собачки», получившей дозволение лаять, уже использовался Крюко- вым в его рецензиях на книги, поступавшие в отдел библиографии, в котором он начал сотрудничать с 1905 года. В августовском номере появились его первые отзывы на «Передел» Н. Степаненко, «Пестрядь. Рассказы и наброски» Е.И. Любич и «Люди темные» Ф.Тищен-ко. По журнальной традиции, рецензии были анонимны, их авторство установлено по гонорарным книгам «Русского богатства» (ОР РНБ. Ф. 211. Ед. хр. 1277). Перу Крюкова принадлежат 14 рецензий, опубликованных в разделе «Новые книги», в котором давались отзывы на новую литературу практически по всем отраслям знания [см.: 11].
Жанр рецензии предполагает информирование читателя о чем-либо новом и побуждает адресата к определенной деятельности. Проблема «Что читать народу?» была актуальной для «Русского богатства», поскольку одной из функций журнала была просветительская. Отделом библиографии руководил Гор-нфельд, который по количеству выполненных им рецензий был первым среди всех сотрудников «Русского богатства». Активное участие в работе отдела принимали В.Г. Короленко, П.Ф. Якубович, В.В. Лесевич, П.В. Моки-евский, В.А. Мякотин и другие видные писатели, философы, историки, экономисты.
Подбор материала для рецензий обосновывался эмпирически: рецензент должен был не только знать читательскую аудиторию журнала и тему произведения, но и владеть критическим материалом по проблеме, а следовательно, быть объективным в своих оценочных суждениях. Итогом рецензий, согласно жанру, было не столько разрешение дилеммы «нра-вится/не нравится» та или иная литература (или псевдолитература), сколько ответ на вопрос: Почему? Чем же она так хороша (или плоха)?
Крюков с этой задачей справлялся блестяще. Его оценка действительности, отраженной в произведениях, дается через призму собственного восприятия, поскольку предмет изображения рецензенту хорошо известен. В основном это деревня, глухой уголок с «темными» жителями, армейская среда, война и ее последствия («Повести из современной офицерской жизни» Н. Бутовского – 1914. № 4), «Кровавое зарево. Очерки войны» А.С. Панкратова – 1916. № 5); и, разумеется, прошлое и настоящее казачества
(«Уральцы. Очерки быта уральских казаков» Железнова – 1910. № 12) и т. д.
Именно рецензию на «Передел и другие рассказы» Н. Степаненко Крюков и начинает чеховским афоризмом: «Все собаки имеют право лаять – и большие, и маленькие» (Русское богатство. 1905. № 8. С. 59), который, как он полагает, «может служить оправданием многим маленьким писателям, которые не только пишут, но и издают свои писания отдельными книжками». Чем не фельетонное начало?
Отметим, что именно началу рецензии придавал Крюков важное сюжетно-композиционное значение: с первых строк он высказывал свое отношение к предмету.
Далее рецензент с иронией пишет о том, что Степаненко пробует «повторить своими словами» то, что «ему понравилось из прочитанного» – из этого и «составлена целая книжка рассказов». Крюковские ремарки остроумны и едки: «г. Степаненко несколько злоупотребляет яркостью и цветистостью слога, что производит такое впечатление, как будто он воробья жарит на костре»; «Все содержание рассказа состоит в том, что Прошка (герой рассказа Степаненко «В степи» – Е.С.) был голоден, громил жизнь и даже замышлял что-то ужасное (что именно – так и не выяснилось), что повергало в трепет его товарища».
В следующей рецензии этого номера журнала Крюков «громит» г-на Любича, чьи «рассказы полны подавляющих ужасов. Вот, например, волостной писарь, преисполненный благородства и чувствительности, подрался со своей женой и убил ее (кулаком). Описание драки и суда свидетельствует, с несомненностью, что г. Любич внимательно читал рассказы Л. Андреева» (Русское богатство. 1905. № 8. С. 61).
Такие рассказы, как у Любича, по мнению Крюкова, производят «очень веселое впечатление. И больше ничего».
Книга Ф. Тищенко «Люди темные. Быль, рассказанная крестьянином» Крюкову в целом понравилась, поэтому и отзыв на нее в целом благожелательный. Рассказ «о темных людях, которые всю жизнь работали и мечтали выкупить отцовский надел» «написан правдиво, простым, хорошим языком». Но стилистичес- кой «гладкости» не достаточно для подлинно художественного произведения. «...Мораль были так и остается неясною», идея автором не раскрыта. Выводы же, которые может сделать читатель, «слишком уж звучат тем непротивлением злу, которое проповедовалось в многочисленных рассказах, написанных в той же манере. <...> Жизнь, однако, далеко ушла от этой проповеди» (Русское богатство. 1905. № 8. С. 62), – пишет Крюков, опять-таки взывая к «правде жизни», проповедуемой редакторским коллективом «Русского богатства».
Этому критерию соответствуют «Уральцы. Очерки быта уральских казаков» И. Железнова, рецензия на которые опубликована в декабрьской книжке журнала за 1910 год. Крюков упоминает, что появление бытовых очерков Железнова на страницах «Современника» и «Русского слова» в конце 50-х годов XIX века было восторженно встречено тогдашней критикой, признавшей подлинный и неподдельный талант автора. Конечно, по мнению Крюкова, спустя почти полвека, «техника письма и манера художественного изображения ушли далеко вперед», поэтому «многое в писаниях талантливого казака показалось бы наивным, неуместным, ненужным, досадно засоряющим художественную ценность непосредственного, безыскуственного произведения» (Русское богатство. 1910. № 12. С. 141–144).
Этот отзыв отличается от предыдущих и по объему, и по форме подачи материала. Это уже не фельетон, здесь нет места иронии. Крюков пишет даже не о книге – «Уральцы» уже были хорошо известны, выдержав до этого два издания. Он дает краткий историко-литературный очерк жизни и творчества Железнова, имя которого, как замечает критик, «составляет гордость лучшей части уральского казачества», а «его честность, гражданское мужество, самоотверженное служение народным интересам не могли не привлечь к нему сердец даже не сходных с ним по мировоззрению людей». Рецензент сходится во взглядах на казачество с автором «Уральцев»: «Железнов с тоскою вспоминает о казацкой старине», «было что-то подкупающее в его казацком романтизме, тоске по старине, по старинному свободному укладу»(Рус-ское богатство. 1910. № 12. С. 142). Крюков в той же «старине» видит и все лучшее, что присуще донскому казачеству, в его прошлом находя источник душевной красоты и добропорядочности. К такому выводу писатель неоднократно приходит в своих собственных очерках и рассказах.
С момента вступления в должность редактора «Русского богатства» Крюков начинает сотрудничать в отделе библиографии более интенсивно. В 1913 году напечатаны его рецензии на «Город в степи» (№ 6) и «Рассказы. Т. V.» (№ 12) Серафимовича, на «Повесть о днях моей жизни» Ив. Вольнова (№ 7).
Автор не зацикливается только на анализе того или иного издания. Он делает своеобразный библиографический обзор предмета изображения. Так, например, в рецензии на «Повесть о днях моей жизни» Крюков пытается проследить типологию «деревенских» персонажей в русской демократической литературе: «М. Горький пробовал в «Лете» вывести «сознательных» мужичков, новых людей деревни, но сорвался. Ныне во всех изображениях крестьянской жизни преобладает наклон в сторону «беспощадной» правды, обнажающей, вскрывающей темные недра деревни. <...> Достаточно вспомнить тенденциозную повесть Родионова или последние рассказы И. Бунина». Но эта «беспощадная правда», отмечает рецензент, вышла «несколько однобокой»: «Озверения, пьяной жестокости, бессмыслия и темноты беспросветной, беззащитности и немого рабского страха тут хоть отбавляй. Иные страницы производят прямо потрясающее впечатление, давят как кошмар, – и тут же рядом что-нибудь шаблонное, анекдотически-чрезмерное». Частенько изменяет Вольнову чувство меры. Однако несмотря на эту «чрезмерность» в книге, подытоживает Крюков, «изображение деревенского мира, редкое по силе и яркости», «есть образы незабываемые» (Русское богатство. 1913. № 7. С. 324–325).
Следуя своей редакторской политике, Крюков заканчивает рецензию оптимистично: «Трудно еще пока определенно судить о размерах дарования молодого автора. <...> Но очень хотелось бы думать, что эта автобиография – «повесть о днях моей жизни» – не будет его единственной хорошей книгой».
На «Город в степи» рецензент дал благожелательный отзыв, хотя и опасался, что его обвинят в «односумстве», то есть землячески пристрастном отношении к произведению. Тем более, что рецензии на этот роман в «Современном мире» и в «Русских ведомостях» были резко отрицательными.
Пятый том «Рассказов» Серафимовича Крюков также хвалит, но не по причине близкого знакомства с автором, а только апеллируя к художественным достоинствам его произведений. Однако он отмечает и недостатки рассказов: «отсутствие чувства меры – основная слабость таланта А. Серафимовича». Но замечание сделано очень тактично, с присущим Крюкову мягким юмором. В подтверждение тезиса о том, что основной «суровый и безрадостный» мотив сборника – «жизнь жестока и безжалостна, жизнь трагически бессмысленна» (Русское богатство. 1913. № 12. С. 388), критик пересказывает содержание рассказа Серафимовича «Странная ночь». Акушерка едет по вызову к роженице, неизвестно куда, в каком-то ящике, с одноглазым, страшным и бессловесным мужиком-кучером, причем в пути конь выделывает какие-то странные коленца, по дороге им встречается непонятное зверье и т. п. «Автору просто нравится пугать, – шутит Крюков. – По всему видно, что человек он мягкий, добрый, ясный, а тут прикинулся мрачным, взял низкую ноту, подобно калике перехожему с огромной сумкой за спиной, скривившему шею, взлохматившему сухие, нечесанные волосы и нарочно хриплым басом тянущему монотонную псалму: «А вже ж мое гришно тило набо-лелося, А вже ж душа моя гноем напитала-ся... » (Русское богатство. 1913. № 12. С. 389). Финал «Странной ночи» («Хороша странная, когда у героини рассказа от страха шевелятся волосы на голове», – удивляется рецензент) оказывается неожиданным: акушерка попала... к «голодным странствующим ярмарочным артистам, которые кормились между прочим от убогого зверинца – однако и она, и с нею читатель страху-то набрались через край». «Есть рассказы и пострашнее», – предупреждает рецензент. В этом несоответствии трагической трактовки как истинно трагических, так и анекдотических сюжетов состоит, по мнению Крюкова, «изобразительная слабость» Серафимовича, хотя и «несомненного художника, яркого, красочного, постоянно ищу- щего и, несомненно, совершенствующегося» (Русское богатство. 1913. № 12. С. 390).
Вновь использует чеховскую метафору «собак, имеющих право лаять», Крюков в рецензии на «Тунгусские рассказы» Ис. Голь-берга в апрельском номере «Русского богатства» за 1914 год. «Никому не причинят беспокойства и литературные упражнения г. Гольдберга», – считает рецензент. Он высмеивает недостатки изобразительного и фактического плана, удивляясь: «Не совсем понятно, почему именно автор выдает свои рассказы за тунгусские , а не за цыганские или патагонские. <...> Почему столь обольстительная красавица называется Эвгалак, а не Зара или Джемма, или – наконец – Рахиль? Что в ней тунгусского, кроме имени, неизвестно. Страницы пестрят ... тунгусскими именами... Но самих тунгусов не видно» (Русское богатство. 1914. № 4. С. 374). В творениях Гольдберга нет самого главного: «хоть малого зерна, но подлинной, художественно убедительной, не из пальца высосанной правды».
Для Крюкова-рецензента характерно неприятие новомодных стилевых изысков, лже-новаторства, псевдооригинальности и различных «модернистских ненужностей». Все в произведении, считает он, должно служить правде жизни, и всего должно быть в меру.
Всем этим требованиям не соответствуют «Близкое и Далекое» и «Трагические сказки» И. Рукавишникова, крюковские отзывы на которые опубликованы в августовских книжках «Русского богатства» за 1914 и 1915 годы. Первая рецензия начинается с упоминания об одном не так давно случившемся литературном курьезе, имевшем место в творческой практике В. Брюсова, воспевшего «в звучных строфах адюльтер с... козой». Этот курьез и «подвигнул» И. Рукавишникова на своего рода поэтическое соревнование, который «изложил в стихотворной <...> форме, как он прелюбодействовал с... чугунной статуей черта... И побил рекорд, заставил говорить о себе» (Русское богатство. 1914. № 8. С. 306). Об этом же прецеденте Крюков пишет и в рецензии на «Трагические сказки»: «В драматических его опытах <...> те же знакомые черты, всюду сопутствующие поэту, воспевшему во время оно свое прелюбодейное действо с чугунной статуэткой черта <...>: «дерзновенные»
приемы изображения, выверты, претендующие на новизну, а в сущности однообразные кривляния и ломания, потуги слабосилия, забавные и жалкие» (Русское богатство. 1915. № 8. С. 331). Книги Рукавишникова дают известность их автору только «вывертами стиля. Упрости его – ничего не останется» (Русское богатство. 1914. № 8. С. 307).
Несколько крюковских отзывов посвящены книгам военной тематики, которая была знакома писателю не понаслышке. Будучи на фронте военным корреспондентом, он видел весь ужас войны. Поэтому к оценке фронтовой литературы он подходил особенно объективно, с точки зрения не только достоверности, но и полезности книги для читателя. «Наступит, вероятно, время, – писал он в рецензии на «Кровавое зарево» А. Панкратова (1916. № 5), – когда о войне мы будем иметь литературу «настоящую», достойную серьезного внимания, свободную от фальши, соответствующую переживаемым ныне событиям», где «окажется налицо наконец – хоть крупицами, хоть малыми осколками – то дорогое, о чем теперь изголодалась душа: правда...». Пока же – это относится и к Панкратову – такой литературы нет.
В рецензии на «Повести из современной офицерской жизни» Н. Бутовского (1914. № 4) Крюков отмечает, что «даже с самой малой художественной меркой нельзя подойти к этим повестям: лубок, и лубок третьесортный. <...> Ныне многие военные генералы стали кормиться от пера». Однако, к удовольствию сотрудника «Русского богатства», есть книги, «не только по цели издания, но и по разнообразию и интересу содержания» заслуживающие «самого широкого распространения». Это о «Невском альманахе. Жертвам войны – писатели и художники» (1915. № 7), который, по мнению Крюкова, «выгодно отличается от других сборников торжественного назначения тем, что в нем совершенно отсутствует беллетристика на военные темы, удручающая фальшью и надуманностью одинаково под пером и даровитых, и бездарных писателей» (Русское богатство. 1915. № 7. С. 318).
В том же номере опубликована рецензия на книгу С.Т. Семенова «Двадцать пять лет в деревне». Семенов был известен как автор нескольких томов «Крестьянских рас- сказов». Анализируя последнее издание, Крюков отмечает, что автор «не поднимается выше посредственного уровня и выдерживает лишь самые умеренные требования», но «он ценен как ... летописец деревенской жизни». «По изображению деревенской темноты, дикости, невежества, косности, бесправия и незащищенности в нашей литературе имеются книги более яркие, сильные и убедительные, <...> но по степени безыскусственной простоты, искренности и документальной правдивости это – книга <...> единственная, в которой даже недостаток художественной изобразительности является лишним свидетельством ее верности подлинной деревенской действительности». «Особую ценность и поучительность» книги рецензент видит в «собственной, вполне объективной передаче С.Т. Семенова истории его борьбы с «миром», которая «характеризует прогрессивность выделенцев полнее и точнее, чем его выводы из наблюдений».
Заметим, что аграрной теме публицистами «Русского богатства» уделялось очень большое внимание. Реформам в области земельной политике посвящались обзоры «Хроника внутренней жизни», «На очередные темы». Да и беллетристическая составляющая журнала зачастую предметом изображения избирала именно преобразование (экономическое, аграрное, политическое) деревни. Сам Крюков посвятил этой проблеме несколько очерков («Шаг на месте», «Без огня», «Отрада» и др.).
Верное, в понимании «Русского богатства» и самого Крюкова, изображение действительности дается А. Туркиным в очерках «Степное» (небольших рассказах из башкирской жизни), рецензию на которые Крюков публикует в шестом номере журнала за 1914 год. На фоне «особого деревенского уклада, окраинного, степного, с «заимками», необозримыми полями пшеницы, «уремами» и пр.» – «самая подлинная, злободневная российская современность: земельная сумятица в связи с указом 9-го ноября, административно-ссыльные, пережившие душевный перелом, гимназисты-экспроприаторы, исключенные семинаристы – низвергатели устоев, становые и урядники, безвозбранно властвующие над деревней, совестливые земские началь- ники, состоящие под подозрением, и разного звания сонные и культурные люди» (Русское богатство. 1914. № 6. С. 323). Другое дело, что «изображает их автор несколько однотонно и тускло», словно по образцу. Но есть и «яркие, законченные, незабываемые фигуры. А рассказы о башкирах, по мнению рецензента, – «лучшее в нашей литературе из этой забытой области наблюдения» (Русское богатство. 1914. № 6. С. 324).
У Крюкова есть несколько статей, в основе которых – отклик на чье-либо литературное творение, прочтение которого становится лишь поводом, толчком к размышлениям о проблемах, затронутых в книге. Поэтому назвать рецензиями такие работы можно с натяжкой – они и по жанру, и по объему, и по разделу, в котором опубликованы, по праву относятся к литературно-критическим статьям. Таких, правда, немного: криптонимом «Ф.Кр.» подписана статья «Армейская дидактика» (1912. № 3), под псевдонимом «И. Гордеев» увидели свет «Прожектеры» (1912. № 7), «Возрождение деревни» (1913. № 7 – первая часть статьи под общим названием «Сиятельная литература»), «Мастеровые или подвижники?» (1914. № 4).
Поводом к написанию «Армейской дидактики» послужила «книжица» В.М. Кульчицкого «Советы молодому офицеру», случайно увиденная Крюковым у выпускника одного из военных училищ – тому ее выдали по окончании «в качестве руководства к предстоящей <...> новой деятельности», велев «заучить как катехизис». «Благие цели», названные в предисловии («избавить молодых офицеров от промахов как в частной жизни, так и на службе») побудила Крюкова к прочтению этого «учебника». И что же он увидел?
Наряду с полезными отчасти сведениями (как, где, в какой форме должен быть офицер в различных ситуациях) и правилами «хорошего тона и благовоспитанности» следуют «правила офицерской этики». И почему-то эти правила читаются не иначе как анекдоты, например: «За полковыми дамами не ухаживай (в пошлом смысле). <...> Ищи женщин на стороне»; «в интимной жизни будь очень осторожен» – «полк твой верховный судья», «скажи, с кем ты знаком и что читаешь, и я скажу, кто ты», «итак, будь порядочным офицером». «Хотя и не прибавлено: «Так говорил Заратустра», – отмечает Крюков, – но, судя по тону, это само собой должно подразумеваться» (Русское богатство. 1912. № 3. С. 147). Последующие советы сделаны в том же духе («Не кути за чужой счет», «Услугами чужого денщика не пользуйся, ничего не приказывай – не тактично. Помни всегда: «если хочешь жить, дай жить другим» и т. д. и т. п.).
Публицист акцентирует внимание читателя на том пункте военной этики, который оговаривает армейские взаимоотношения. «Не умея владеть оружием, не обнажай его!», – гласят «Советы». Но уж если обнажил – бей наповал («и с одного раза»), поскольку мертвый на суде не свидетель, «а живой непременно оклевещет да еще содержи его по приговору экспертов и суда» (имеется ввиду закон об ответственности за убийство «при обстоятельствах, включающих в себе признаки оскорбления офицерской чести» (Русское богатство. 1912. № 3. С. 148)). Следовательно, существует некая лицензия на убийство? Главное, чтобы мотивировка была подобающей, и ненаказуемость практически гарантирована.
В «Советах» также декларируется презрительное отношение к «штатским обывателям» – к «шпакам». Рецензент приводит реальные примеры бесчинства офицеров по отношению к гражданскому населению. Но он надеется, что «не вся армия проникнута такими представлениями о порядочности и чести, какие рекомендует г. Кульчицкий, а с ним и некоторые военные воспитатели». На армию давно следует обратить внимание, но пока «свободно и победоносно раздаются лишь казенно-патриотические голоса» (Русское богатство. 1912. № 3. С. 149). Не правда ли, очень современно звучит и поныне?
Есть, однако, и другие постулаты армейской службы, нежели пропагандируемые в «Советах» Кульчицкого. Крюков дает выдержки из газеты «Военный голос»: «Необходимо принять все меры к тому, чтобы как вся офицерская семья в целом, так и каждый ее член в отдельности были возможно ближе к народу, – чтобы между последними и корпорацией офицеров стала невозможной наблюдаемая ныне отчужденность, а нередко даже и вражда» (Русское богатство. 1912. № 3. С. 151).
Крюков заканчивает статью цитатой из приказа старого «служаки-генерала» Жигалина, который просит офицеров «Беречь доброе имя своей чести». И рекомендует Кульчицкому в следующих изданиях «Советов» «обратить свою дидактику и в эту сторону» (Русское богатство. 1912. № 3. С. 152).
Фельетон «Прожектеры» – критика одного из экономических проектов, «имеющих осчастливить Россию» – генерала Тилло, опубликованного в «Новом времени». Россия была охвачена неурожаем и голодом. И дабы преодолеть «голодную смуту», разрабатываются «грандиозные проекты спасения любезного отечества, которому грозит мрачная будущность от надвигающихся враждебных стихий, проекты, рисующие сооблазнитель-нейшие картины благополучия, если... будут подписаны соответствующие ассигновки на осуществление блестящей мысли, озарившей прожектера» (Русское богатство. 1912. № 4. С. 143). Большинство из этих преобразовательных новаторских планов – хорошо забытое старое, но проект Тилло отличается особой масштабностью (следовательно, больших капиталовложений и, разумеется, прибыли для автора проекта). Чего только стоит предложение засадить пятидесятиверстовыми полосами леса всю Россию – от Каспия и Волги до Китая! И еще несколько новаций в том же духе. Учитывая то, что причиной всех несчастий Тилло видит «мороз (утренник) и мглу, мельчайшую солонцеватую пыль» и т. п., Крюков с иронией предлагает оградиться от утренника, идущего с Ледовитого океана («не от пустыни же Гоби!») заборчиком. Правда, фельетониста все-таки одолевает сомнение в серьезности намерений Тилло: проект был опубликован первого апреля... Но если генерал действительно хочет «еще при жизни вернуть Родине долг», поскольку она ему «много дала», то, как это ни трогательно и благородно, «родине приятно было бы получить долг несколько более доброкачественной монетой» (Русское богатство. 1912. № 4. С. 148).
С этим фельетоном перекликается статья «Возрождение деревни», посвященная «Известиям «Русского Зерна» (упоминаемого и в «Прожектерах») – изданию непериоди- ческому», в сопроводительной записке к которому содержалась просьба графини А.З. Муравьевой дать отзыв о книжке «в виду того, что цели, преследуемые обществом, несомненно, имеют большое образовательное и воспитательное значение для русского народа» (Русское богатство. 1912. № 7. С. 299). Крюков, хорошо знающий этот «русский народ», критикует «общество сановных, чиновных и титулованных лиц», поставившее себе «скромную цель «возрождения земледельческой Руси». Рецензент понимает, что все «сиятельные» нововведения, «стажировки» крестьян на западных землях ни к чему хорошему ни приведут. А выделяемые «субсидии» – «какая-нибудь капля меду в лежа-чьих бабьих бунтах»2 (Русское богатство. 1912. № 7. С. 302) – зачастую оборачиваются для мужика трагедией.
Наконец, в статье «Мастеровые и подвижники» Крюков, посвятивший преподаванию около 15 лет, пишет о предмете, хорошо ему знакомом. Книга ему не понравилась («серенькая»), но как документ ценная, поскольку задолго до появления рабочего класса народный учитель боролся «за свободу и лучшую долю трудовых масс». «Мы и сейчас, – писал Крюков, – присутствуем при самом ожесточенном натиске реакционных сил на народную школу и народного учителя» (тема, излюбленная публицистами «Русского богатства»). Учительству, констатирует писатель, приходится пока не наносить удары, а принимать их на себя. «И мы знаем, сколько эта серая масса маленьких, скромных, отовсюду стиснутых людей выдвинула из себя в недавние годы самоотверженных борцов и истинных героев» (Русское богатство. 1914. № 4. С. 373).
Все крюковские рецензии и литературнокритические выступления звучат в журнальном контексте весьма актуально и современно (некоторые – и по сей день). Литературно-критическая часть занимает в творчестве писателя не столь большое место, нежели беллетристика и публицистика. Он не был профессиональным литературным критиком. Собственно, он и не стремился им быть. Однако, как красноречиво свидетельствуют работы Крюкова – редактора, критика и рецензента, мог бы вполне успешно им стать.
Список литературы Литературно-критическая и редакторская деятельность Ф.Д. Крюкова в журнале "Русское богатство"
- Письма Ф.Д. Крюкова А.С. Серафимовичу//РГАЛИ. Ф. 457. Оп. 1. Ед. хр. 283.
- Письма Ф.Д. Крюкова И.Д. Сазанову//РГАЛИ. Ф. 466. Оп. 1. Ед. хр. 28.
- Письмо А.В. Пешехонова В.Г. Короленко от 16.08.1911//РО РГБ. Ф. 135. Разд. 31. Ед. хр. 53.
- Письмо В.Г. Короленко Ф.Д. Крюкову от 18.07.1913//РГАЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 676.
- Письмо Ф.Д. Крюкова А.Г. Горнфельду от 16.09.1912//РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 356.
- Письмо Ф.Д. Крюкова А.Г. Горнфельду от 20.06.1913//РО РНБ. Ф. 211. Ед. хр. 294.
- Письмо Ф.Д. Крюкова А.И. Тинякову от 10.10.1903//РО РНБ. Ф. 774. Ед. хр. 22. Л.4498.
- Письмо Ф.Д. Крюкова И.Н. Захарову от 25.11.1912//РГАЛИ. Ф. 1348. Ед. хр. 35. Оп. 4.
- Письмо Ф.Д. Крюкова И.П, Малютину от 17.05. 1911//РГАЛИ. Ф. 1359. Оп. 1. Ед. хр. 17.
- Родимый край. -Усть-Медведицкая: Север Дона, 1918. -75 с.
- Смирнова Е.А. Проза Ф.Д. Крюкова в публицистическом контексте «Русского богатства»: Дисс. … канд. филол. наук/Е.А. Смирнова. -Волгоград, 2004. -216 с.