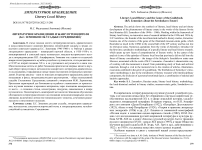Литературное краеведение и жанр путеводителя (Б.С. Земенков об усадьбе Середниково)
Автор: Федосеева Мария Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Литературное краеведение
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье показан синтез литературоведческого, краеведческого и искусствоведческого освоения феномена литературной усадьбы в трудах известного советского краеведа Б.С. Земенкова 1940-1960-х гг. Работая в рамках литературного краеведения - новаторской научной области, в 1920-1930-е гг. инициированной в советской науке основателем локально-исторического метода в литературоведении Н.П. Анциферовым, Земенков стал одним из создателей жанра иллюстрированного музейно-усадебного путеводителя, столь расцветшего в СССР во второй половине XX в. и не утратившего актуальности в наши дни. Многочисленные цитаты из работ Земенкова практически впервые вводят в научный оборот продуктивную методологию конкретного литературно-краеведческого исследования, открывающую новые грани постижения литературных произведений. В центре анализа - один из эпизодов литературного краеведения, ранее не попадавших в фокус литературоведческого рассмотрения, - образ подмосковной усадьбы Столыпиных Середниково, связанной с творчеством М.Ю. Лермонтова. Прослежен характерный для Земенкова путь работы с памятником: от кропотливого изучения книжных и архивных материалов, через посещение мемориального места - к созданию статьи, иллюстрации, экскурсии, совмещенных в жанре путеводителя. Плодотворность новаторской методологии Земенкова обусловлена обогащением литературоведческого исследования междисциплинарными составляющими, включением личностно-эмоционального элемента, сочетанием рационального и интуитивного подходов.
Б.с. земенков, русская усадьба, литературное краеведение, методология, локально-исторический метод в литературоведении, музейноусадебный путеводитель, середниково
Короткий адрес: https://sciup.org/149141334
IDR: 149141334 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-298
Текст научной статьи Литературное краеведение и жанр путеводителя (Б.С. Земенков об усадьбе Середниково)
В современном литературоведении изучение русской усадебной культуры и ее наследия немыслимо без обращения к научным наработкам отечественных исследователей XX в. в сфере локальной истории, усадьбо-ведения и литературной географии. В первую очередь, это Н.П. Анциферов с его книгами «Душа Петербурга» (1922), «Петербург Достоевского» (1923), «Быль и миф Петербурга» (1924), «Теория и практика литературных экскурсий» (1926) и др., Д.С. Лихачев со знаменитой монографией «Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей» (1982), Ю.М. Лотман с его исследованиями русской дворянской литературы и культуры рубежа XVIII XIX вв. в книге «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века)» (1993), а также Общество изучения русской усадьбы (В.В. Згура, А.Н. Греч и др.), действовавшее с 1922 г. по 1930 г. и успевшее выпустить много ценных изданий.
Особенно важным в связи с тематикой нашей статьи представляет-

ся локально-исторический метод в литературоведении, в 1920-1930-е гг. инициированный в советской науке Н.П. Анциферовым [Московская 2009]. Одним из наиболее заметных его продолжателей стал известный москвовед Б.С. Земенков (1902-1963). Придя на рубеже 1920-1930-х гг. в сферу краеведения, он прочно обосновался здесь, поставив ему на службу свои таланты художника, литератора, кропотливого исследователя и страстного популяризатора. Делом его жизни стало выявление адресов памятных мест, связанных с деятелями истории и культуры, реконструирование их исторического облика. Одним из итогов этой деятельности стала капитальная монография «Памятные места Москвы. Страницы жизни деятелей науки и культуры» (1959). Настольной книгой москвоведов стал составленный и откомментированный Земенковым сборник очерков о Москве первой половины XIX в. «Очерки московской жизни» (1962).
При изучении московской «культурной топографии», особенно XIX в., невозможно было обойти Подмосковье. Ведь жизнь старого московского дворянства была теснейшим образом связана с загородной усадебной жизнью. «Подмосковные являются частью самой Москвы. Рассеянные в окрестностях столицы, они живут одной жизнью с нею. В этих усадьбах возникали такие же очаги культурной жизни, какими изобиловала сама Москва. Обитатели подмосковных - те же москвичи, делящие свою жизнь между столицей и усадьбой» [Подмосковные... 1946, 5]. В биографиях разночинной интеллигенции появляются дачи. Итогом исследовательской работы Земенкова в Москве и Подмосковье стали около семидесяти очерков, посвященных памятным местам, - подмосковным усадьбам Авдотьину, Виноградову, Захарову, Большим Вяземам, Яропольцу, Остафьеву, Мышецкому Середникову, Муранову, Абрамцеву, Витиневу, Мелихову, Горкам и др., а также около 200 графических работ, до сего дня востребованных, которые зафиксировали или реконструировали облик историко-культурных памятников, связанных с деятелями культуры XVIII XX вв. Очерки публиковались в солидных научных и научно-популярных, а также в многотиражных изданиях: «Подмосковные [Авдотьино, Мураново, Середниково, Подмосковные Герцена, Чеховская Истра]» (1946), «Подмосковье: Туристские маршруты» (1953), «Подмосковье. Экскурсии и туристские маршруты» (1956), «Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV XIX веков» (1962) и др.
В этих статьях воплотилась философия изучения и показа памятников, которой придерживался Земенков. Методики работы с памятником он так или иначе касался в статье «По литературной Москве, пострадавшей от фашистских бомб» (1942, полностью не опубликована), в предисловии к книге «Памятные места Москвы» (1959) и ряде других работ. Но наиболее полное изложение она получила в докладах Земенкова (опубликованных Д.А. Ястржембским в 1997-1998 гг.) «Работа над мемориальным памятником» и «Как смотреть литературные места», подготовленных, по мнению публикатора, в 1951-1952 гг. [Земенков 1997, 624].
В краеведении с начала XX в. стихийно сложились два подхода к па-

мятнику - эстетический (при котором акцент делался на архитектуру, в ущерб быту и судьбам людей) и культурно-исторический (когда внимание сосредоточивалось на личности и деятельности человека в контексте исторических событий, но вне контекста места, где эта деятельность проходила). Земенков видел своей задачей «связать историко-культурное и литературное краеведческое исследование с топографическим и тем самым углубить и обогатить его» [Муравьев 1995, 268]. При этом он утверждал равноценность мысли и интуиции, проповедовал необходимость творческого, эмоционального элемента в литературном краеведении, поскольку «восприятие литературных мест есть работа творческая» [Земенков 1998, 374]. Свою любимую мысль о кровной связи литературного произведения и места его создания Земенков вычленяет у авторов разных времен - художников и писателей, отечественных и зарубежных: «“Куда бы мы ни направились, что бы ни увидели, мы чувствуем - он уже был здесь, он это видел, он это уловил ранее нас”, - пишет о своем любимом английском художнике Тернере Рескин. Такое же чувство охватывает нас в окрестностях Истры. Здесь жил Чехов» [Подмосковные... 1946, 107]; он, словно собственный девиз, любил повторять слова В.И. Сурикова: «Я на памятники, как на живых людей смотрел, - расспрашивал их: “Вы видели, вы слышали - вы свидетели...”» [Земенков 1997, 623]. Основания для своего подхода он находит, в частности, в творчестве Лермонтова - например, в его очерке «Панорама Москвы» (1834): «<...> каждый <...> камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!..» [Очерки московской жизни 1962, 21].
По убеждению Земенкова, за архитектурой, за пейзажем, за тонкой планировкой усадьбы или парка следует искать образ живого человека, творившего и мыслившего здесь, приобщиться к его переживаниям, «понять, что и почему черпал он из окружающей обстановки» [Земенков 1998, 377]. В этом Земенков и видел задачу посещения литературных мест. Для правильного восприятия литературно-мемориального памятника необходимо изучить (через опубликованные или архивные документы, мемуары, эпистолярий, специальную литературу, живые свидетельства и пр.) его мемориальное содержание (те. знать точные даты пребывания здесь писателя; образ жизни, встречи; факты творческой биографии; характер отражения данного места в творчестве), а также изучать и сам памятник (когда построен, в каком виде, претерпел ли перестройки). Такой подход открывает путь во «внутреннюю творческую лабораторию» автора, «в самые тайники психологии творчества» [цит. по: Муравьев 1995, 267], и его произведения (особенно поэтические) начинают заново открываться - через памятник: сначала - самому исследователю, а затем - если «возможно полно и красочно осветить темы жизни и творчества» [Земенков 1998, 373] - то и экскурсантам.
Теоретические наработки Земенкова были плодом его практической деятельности исследователя и экскурсовода. И они же, в свою очередь,
становились основой его краеведческих работ - будь то очерки или графические реконструкции литературных мест, и сейчас публикующиеся в научных и научно-популярных изданиях.
Отметим попутно, что Земенков является одним из создателей жанра музейно-усадебного путеводителя в советскую эпоху, столь расцветшего в СССР второй половины XX в. и не утерявшего актуальности и в наши дни. Всестороннее исследование этого жанра (по современной терминологии, принадлежащего к нон-фикшн) - одна из насущных задач литературоведческого усадьбоведения XX в.
В своих опубликованных очерках о подмосковной усадьбе Середни-ково - в книге «Подмосковье: Туристские маршруты» [Подмосковье: Туристские маршруты 1953, 234-237], в ее сильно переработанном втором издании «Подмосковье. Экскурсии и туристские маршруты» [Подмосковье. Экскурсии и туристские маршруты 1956, 217-220], в путеводителе «Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV XIX веков» (1962) - Земенков пытался с разных сторон «раскрыть» Середниково читателю, прежде всего - через его «genius loci», проявляя связи между жизнью М.Ю. Лермонтова в усадьбе и его творчеством. За некоторым идеологическим уклоном (как приметой времени) и, на первый взгляд, общими фразами на деле скрывается глубоко продуманная методология. Приведем лишь несколько примеров из путеводителя 1956 г: «Поэт прожил здесь летние месяцы 1829-1832 годов. Немало стихотворений навеяно обстановкой усадьбы, густым тенистым парком, событиями его жизни здесь. Трудно найти усадьбу, которая бы своим романтическим обликом так отвечала поэтической стихии М.Ю. Лермонтова юных лет, как Середниково. <...> Можно полагать, что именно середниковские встречи юного Лермонтова с крепостной действительностью нашли отражение в его драмах “Люди и страсти” (1830 год) и “Странный человек” (1831 год). В Середни-кове же юный Лермонтов знакомится с народной поэзией <...> Беседы с местными крестьянами дали Лермонтову немало фактического материала для создания “Бородина”: 37 человек из Середникова были в Московском ополчении. <.. .> Немало стихов поэта помечено Середниковом <.. .> Полный романтических настроений, М.Ю. Лермонтов любил ночью бродить по парку, следить за изменчивым лунным светом на зеркальной глади пруда <...> Неясный свет луны особенно поэтизировал пейзаж Середникова и волновал творческое воображение поэта» [Подмосковье. Экскурсии и туристские маршруты 1956, 217-220] и т.д.
Последнее замечание особенно знаменательно. В лекции «Как смотреть литературные места» Земенков пишет о немаловажности времени суток при осмотре памятника: «Определенное состояние дня, состояние погоды - нередко является наиболее отвечающим данному писателю или его отдельному произведению. <...> Мне бы хотелось побывать в Се-редникове ночью. Лунное освещение романтизировало пейзаж старого заросшего парка и тем самым отвечало юношеским романтическим настроениям самого поэта. В середниковской лирике 1830 г. Лермонтов по- стоянно возвращается к теме ночи, постоянно вводит в нее середников-ский пейзаж. Знаменателен выбор названий: “Ночь”, “Ночь I”, “Ночь П”, “Ночь III”» [Земенков 1998, 376-377]. Понимая сложность учета факторов времени дня и погоды, Земенков, тем не менее, настоятельно рекомендует использовать их экскурсионном посещении, поскольку в таком случае появляется возможность взглянуть на окружающий пейзаж глазами самого писателя, воспринять местность сквозь призму его творчества.
В этом отношении любопытна ранее не известная акварель с изображением мостика и пруда в Середникове, которую мы вводим в научный оборот. Она была приобретена нами в 2020 г. на онлайн-аукционе как анонимный пейзаж «Усадьба Середниково. Акварель, СССР, 1947 г». По нашему предположению, сделанному на основании ряда факторов (автограф, почерк, дата, стиль и др.), эта акварель принадлежит руке Земенкова.
Сделанная на обороте надпись простым карандашом гласит: « Середниково / “И сад за дремлющем / прудом”. Стих / Лермонтова, бывшего / здесь, [автограф] / июль 1947 г». Надпись эта вызывает вопросы. Таких строк в поэтическом наследии Лермонтова нет. Очевидно, это некая компиляция образов из стихотворения «Как часто пестрою толпою окружен...» - посвященных, однако, не Середникову а Тарханам: «<...> высокий барский дом / И сад с разрушенной теплицей; / Зеленой сетью трав подернут спящий пруд» [Лермонтов 2014, 311-312]. Нам удалось установить источник этих строк: первый номер журнала «Столица и усадьба» за 1913 г. Приписанные Лермонтову строки: «Старинный барский дом / С полуразрушенной теплицей... / И сад за дремлющим прудом. / М.Ю. Лермонтов» [Столица и усадьба 1913, 2] - помещены на форзаце под фоторепродукцией пруда и мостика в Середникове, а также на следующем развороте, где в качестве эпиграфа предваряют воспоминания А.А. Столыпина «Средниково (из семейной хроники)».
Очевидно, этот номер журнала держал в руках Земенков. Отсюда и надпись на обороте акварели, да и, собственно, сам сюжет. Земенков в 1947 г. намеренно пишет акварель с той же точки, с которой неизвестный фотограф делал снимок в 1913 г. для журнала «Столица и усадьба». Ему, с его острым ощущением времени, усилившимся в годы войны, было интересно зафиксировать облик усадьбы на момент своего пребывания там. Можно, конечно, предположить, что Земенков сделал свой рисунок с фотографии. Однако это представляется маловероятным. Налицо отличия между фотографией и акварелью, фиксирующие изменения, произошедшие за три десятка лет, их разделяющие. Кроме того, в очерке о Середникове, опубликованном в книге «Подмосковье: Туристские маршруты» (1953), Земенков отмечает: «Осенью 1941 года при въезде в санаторий, у ворот, был подбит головной гитлеровский танк с изображением Мефистофеля. В парке сохранились следы окопов и траншей. Это рубежи, дальше которых продвинуться к Москве гитлеровцы не смогли» [Подмосковье: Туристские маршруты 1953, 237]. Эти следы войны на территории усадьбы (с 1946 г. здесь размещался противотуберкулезный санаторий «Мцыри») он, по-
видимому, видел своими глазами. Земенков был скрупулезным исследователем и являлся адептом философии исследования и показа памятника, закрепленной во вступлении к сборнику «Подмосковные» (1946), одним из авторов которого он был: «Статьи, вошедшие в сборник, написаны не только после тщательного изучения литературных источников. Они созданы на основе исследования самих “литературных мест”. Личное посещение подмосковных имеет большое значение для более конкретного и вместе с тем эмоционально окрашенного восприятия образов прошлого» [Подмосковные... 1946, 6].
Любопытно, что есть еще одно звено между акварелью Земенкова и фотографией в журнале. Это книга «Прыжов И.Г. Очерки, статьи, письма», опубликованная в 1934 г, в которую вошла также статья Прыжова «Из деревни. Отрывки из письма» 1861 г, посвященная Середникову, откуда происходил отец Прыжова [Прыжов 1934, 225-235]. В статье на вкладке помещена репродукция этой же фотографии пруда в Середнико-ве с указанием источника (хоть и с ошибочной датой): «Столица и усадьба» 1914 г, № 1. Почти дословные текстуальные переклички (помимо прямых указаний на Прыжова) свидетельствуют о том, что Земенков при подготовке своих материалов о Середникове активно пользовался этой статьей - в частности, историческими и полулегендарными сведениями о строительстве усадьбы, ее владельцах-крепостниках и т.д. (но перепроверяя их, следуя своей любимой мысли о необходимости точного знания о мемориальном месте, важности «исходить к первоисточникам» [Земенков 1997, 629]). Земенков также опирался на исследования П.А. Висковатова [Висковатов 1891], ТА. Ивановой [Подмосковные... 1946, 47-71; Иванова 1959], в работах которых проявлен топографический аспект и проводится четкая связь между жизнью и творчеством, краеведением и литературоведением.
Следуя своей методике, Земенков объемно, насколько дает возможность формат краткого очерка для путеводителя, прослеживает жизнь в усадьбе. Он отмечает связанные с Середниковом важные для дальнейшего творчества Лермонтова эпизоды (в частности, отношения с В.А. Лопухиной), фиксирует посещения соседствующих с Середниковом усадеб и деревень. Так, описывая лежащее неподалеку Большакове, он отмечает, что «на месте усадебных построек находится дом отдыха “Энергия”. О времени Лермонтова здесь напоминают старые величественные тополя, тенистая подъездная аллея, пруд» [Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV XIX веков 1962, 411], сигнализируя, на что необходимо обратить внимание при осмотре. Фиксация состояния сохранности памятника - ландшафта и построек - важна Земенкову и сама по себе, и как отправная точка для оценки того, «в какой мере данное состояние памятника соответствует времени проживания здесь писателя» [Земенков 1998, 374]. И в этой реконструированной реальности, которую видел поэт, начинается новый этап работы - определение личного восприятия автором данной местности, уяснение того, как внешняя обстановка осваива-
лась писателем, как под влиянием тех или иных факторов переосмыслялись фактические данные.
Земенкову важно поставить усадьбу в широкий литературно-краеведческий контекст, подтверждающий его сердечную мысль о тесной связи литературного произведения и места его создания: «Мотивы Середникова мы видим в раннем творчестве Лермонтова, в “Послании к Юдину” Пушкин рисует Захарово, весь ранний цикл Блоковских стихов воспроизводит нам Шахматово» [Земенков 1998, 374].
В своих работах Земенков считает необходимым осветить или хотя бы упомянуть все значимые вехи истории усадьбы Середниково от истоков до современности: от В.А. Всеволожского до В.И. Фирсановой и ее гостей. Как популяризатору, практикующему экскурсоводу, ему важно отметить, что «сейчас окрестности Середникова - любимое место для устройства детских туристских и пионерских лагерей» [Подмосковье. Экскурсии и туристские маршруты 1956, 220] и «сотни туристов, школьников и почитателей таланта Михаила Юрьевича Лермонтова каждое лето посещают эти места» [Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV XIX веков 1962, 405].
Такое стремление к полноте представления усадьбы и вызвало, очевидно, желание написать пейзаж Середникова. Точнее, не просто пейзаж -«рисунок-реставрацию». Если мы внимательно сравним акварель Земен-кова и фотографию из журнала «Столица и усадьба», то увидим принципиальное отличие. Рисунок выглядит более «ночным», в соответствии с той логикой, у которой упомянули выше. Здесь мы наблюдаем то самое «погружение в атмосферу памятника» [Земенков 1998, 373], на котором так настаивал Земенков. Для него было важно создать образ, не справочное, а художественное представление об описываемых усадьбах и их обитателях. Собственно, и выбор сюжета для данной акварели объясним этой же логикой - ракурсом взгляда самого Лермонтова на усадьбу. Середни-ковскому парку и пруду Лермонтов посвятил немало стихотворных строк, многие из которых Земенков приводит в своих очерках о Середникове и в тексте лекции «Как смотреть литературные места»: «В стихах действуют и сам парк: “Высоких лип стал пасмурней навес, / Когда луна вошла среди небес”, его окраина: “Есть место: близ тропы глухой, / В лесу пустынном, средь поляны, / Где вьются вечером туманы, / Осеребренные луной”, и Середниковский пруд - “Все тихо - полная луна / Блестит меж ветел над прудом”» [Земенков 1998, 376] и призывает зачитывать эти строки на месте, поскольку в таком случае «мы как бы смотрим на данную местность глазами самого художника, уясняем, что было близко ему, волновало его, что отстранялось...» [Земенков 1998, 374].
В статье о Середникове (1962) Земенков отдельно останавливается на роли мостов в парковой архитектуре, которые вносят «особый художественный отпечаток в ландшафт усадьбы, выявляя и подчеркивая его характер» [Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV XIX веков 1962, 407]. Таким образом, созданный Земенковым в акварели

образ - мост над вечереющим прудом - «очень романтичен и удивительно соответствует поэтическим настроениям Лермонтова тех лет» [Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV XIX веков 1962, 405]. Есть и еще одна причина, по которой Земенков написал именно пруд. В лекции «Как смотреть литературные места» он сетует, что Середниково, интереснейшая в зодческом отношении усадьба, не имеет детальной строительной истории (к слову, в своих статьях для путеводителей, особенно 1956 г. и 1962 г., Земенков пытался, насколько это возможно, компенсировать недостаток этих сведений, давая не просто факты строительной истории, а объемные, методологические сведения об архитектурно-ландшафтных особенностях усадьбы, например: «Пандус окаймлен вековыми лиственницами. Их мощные стволы составляют естественную колоннаду, создающую как бы переход от архитектурных форм к подлинной природе. В Середникове “строился” даже пейзаж усадьбы» [Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV XIX веков 1962, 407]). И в подобном случае, случае сложной реконструкции облика здания, пейзаж «может быть весьма действенным рассказчиком» [Земенков 1998, 375].
Вводимый нами в научный оборот пейзаж Земенкова интересен как недостающее звено не только в «лермонтовской» серии его акварелей и в «мегасерии» графических работ, запечатлевших литературное Подмосковье, но и в раскрытии Земенковым-краеведом духа усадьбы Середниково, ее бытия через ее «genius loci». В данном пейзаже сошлись важные для Земенкова области - изобразительное искусство, литература и краеведение; мы видим в нем удачную попытку увязать биографию, топографию и художественность Лермонтова воедино, объяснить литературоведческий аспект через краеведческий. Любопытно в этом отношении, что описание пруда в его статьях из путеводителей 1962 г. точно рифмуются с акварелью 1947 г: «<...> пруд - тихий, окруженный тесно подступившими к нему деревьями парка <...> мечтательная гладь пруда <...> и старый, зарастающий парк, и пруд в густой темной листве» [Подмосковье. Экскурсии и туристские маршруты 1956, 219-220], «Берег искусственного большого пруда, спокойная гладь которого замкнута, как в раме, темной стеной обступивших его деревьев. Тишиной и покоем веет от этого пейзажа» [Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV XIX веков 1962, 406].
На примере исследовательской работы с усадьбой Середниково явственно прослеживаются особенности методики Земенкова (в рамках локально-исторического метода в литературоведении) по изучению и демонстрации усадебного наследия. Путь исследователя от библиотеки и архива к статье, акварели, экскурсии и пр. пролегает через непременное посещение мемориального места, где знание, эмоция, интуиция сращиваются воедино и дают значительные научные результаты: памятник начинает жить, превращается в «красноречивого рассказчика» [Земенков 1998, 373]. Решение проблемы отношения местнографической художественной образности к реальному источнику - ландшафту оказывается ступенью в по- знании художественного произведения. Так формируется и закрепляется в отечественной словесности востребованный жанр музейно-усадебного путеводителя, жанр синтетический, вбирающий в себя не только литературный и научный тексты, не только историю места вплоть до современности, но и изобразительный материал с целью создания единого динамичного образа усадьбы.
Список литературы Литературное краеведение и жанр путеводителя (Б.С. Земенков об усадьбе Середниково)
- Висковатов П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М.: Издательство В.Ф. Рихтера, 1891. 454 с.
- Земенков Б.С. Как смотреть литературные места / подг. текста и предисл. Д.А. Ястржембского // Археографический ежегодник за 1996 год. М.: Наука, 1998. С. 369-378.
- Земенков Б.С. Памятные места Москвы. Страницы жизни деятелей науки и культуры. М.: Московский рабочий, 1959. 511 с.
- Земенков Б.С. Работа над мемориальным памятником / подг. текста и предисл. Д.А. Ястржембского // Археографический ежегодник за 1997 год. М.: Наука, 1997. С. 623-636.
- Иванова Т.А. Четыре лета. Лермонтов в Середникове. М.: Государственное издательство детской литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1959. 96 с.
- Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. Стихотворения 18281841. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2014. 774 с.
- Московская Д.С. Локально-исторический метод в литературоведении Н.П. Анциферова: генезис и контексты // Филологическая регионалистика. 2009. № 1-2. С. 6-20.
- Муравьев В.Б. «Поправляйте и продолжайте». Борис Сергеевич Земенков. 1902-1963 // Краеведы Москвы (Историки и знатоки Москвы): Сборник / сост. Л.В. Иванова, С.О. Шмидт. М.: Книжный сад, 1995. С. 260-280.
- Очерки московской жизни / предисл., примеч., сост. и подготовка текста Б.С. Земенкова. М.: Московский рабочий, 1962. 376 с.
- Подмосковные: Авдотьино. Мураново. Середниково. Подмосковные Герцена. Чеховская Истра / под ред. В. Бонч-Бруевича. М.: Гослитмузей, 1946. 127 с.
- Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV-XIX веков. М.: Московский рабочий, 1962. 583 с.
- Подмосковье: Туристские маршруты / сост. Е.В. Годлевская. М.: Профиз-дат, 1953. 368 с.
- Подмосковье. Экскурсии и туристские маршруты / сост. Е.В. Сергеева. М.: Издательство ВЦСПС Профиздат, 1956. 387 с.
- Прыжов И.Г. Очерки, статьи, письма / ред., вводные статьи и комментарии М.С. Альтмана. М.: Academia, 1934. 487 с.
- Столица и усадьба. 1913. № 1. 26 с.