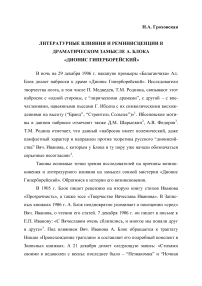Литературные влияния и реминисценции в драматическом замысле А. Блока «Дионис Гиперборейский»
Автор: Гроховская Наталья Анатольевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. История литературы
Статья в выпуске: 1 (2), 2006 года.
Бесплатный доступ
Драма, литературное влияние, реминисценция, александр блок
Короткий адрес: https://sciup.org/14913992
IDR: 14913992
Текст статьи Литературные влияния и реминисценции в драматическом замысле А. Блока «Дионис Гиперборейский»
В ночь на 29 декабря 1906 г. накануне премьеры «Балаганчика» Ал. Блок делает наброски к драме «Дионис Гиперборейский». Исследователи творчества поэта, в том числе П. Медведев, Т.М. Роднина, связывают этот набросок с «одной стороны, с “лирическими драмами”, с другой – с впечатлениями, навеянными пьесами Г. Ибсена с их символическими восхождениями на высоту (“Бранд”, “Строитель Сольнес”)»1. Ибсеновские мотивы в данном наброске отмечают также Д.М. Шарыпкин2, А.В. Федоров3. Т.М. Родина отмечает, что данный «набросок имеет полемический, даже памфлетный характер и направлен против теоретика русского “дионисий-ства” Вяч. Иванова, с которым у Блока в ту пору уже начали обозначаться серьезные несогласия»4.
Таковы основные точки зрения исследователей на причины возникновения и литературного влияния на замысел сонной мистерии «Дионис Гиперборейский». Обратимся к истории его возникновения.
В 1905 г. Блок пишет рецензию на вторую книгу стихов Иванова «Прозрачность», а также эссе «Творчество Вячеслава Иванова». В Записных книжках 1906 г. А. Блок неоднократно упоминает о посещении «сред» Вяч. Иванова, о чтении его статей. 7 декабря 1906 г. он пишет в письме к Е.П. Иванову: «С Вячеславом очень сблизились, и многое мы поняли друг в друге»5. Под влиянием Вяч. Иванова А. Блок обращается к трактату Ницше «Происхождение трагедии» и составляет его подробный конспект в Записных книжках. А 21 декабря делает следующую запись: «Стихами своими я недоволен с весны: последнее было – “Незнакомка” и “Ночная фиалка”. Потом началась летняя тоска, потом действенный Петербург и две драмы, в которых я сказал, что было надо, а стихи уже писал так себе, полунужные… Но, может быть, скоро придет этот новый свежий мой цикл. И Александр Блок – к Дионису»6.
Поэтому утверждения, что в 1906 г. у Блока начинают «обозначаться серьезные несогласия с Вяч. Ивановым» и что набросок «имеет памфлетный характер и направлен против Вяч. Иванова», не соответствуют действительности.
Не совсем точно также истолкование юмористического завершения наброска как «отхода от Ибсена»7. Даже в 1908 г. А. Блок указывает на Ибсена как на «надежнейшего фарватера в море новейшей литературы Европы» («Генрих Ибсен». Т. 5. С. 315), а период написания «Бранда» поэт считает «высшей точкой первого этапа пути Ибсена и самой высшей из доступных нашему зрению» (Т. 5. С. 311).
Основные задачи настоящего исследования – не только указать на творчество Ибсена как на литературный источник, повлиявший на написание «Диониса Гиперборейского», но показать значение этого влияния на формирование мифопоэтического сюжета, образов и мотивов в драматическом замысле А. Блока, проследить развитие данного сюжета, мотивов и образов в дальнейшем творчестве поэта на примере стихотворения «Забывшие Тебя», а также отметить ницшеанские реминисценции, повлиявшие на название драматического замысла.
Увлечение А. Блока в 1906–1910 гг. Ибсеном несомненно: об этом свидетельствуют и многочисленные пометы на собрании сочинений норвежского писателя (в том числе и на драме-поэме «Бранд»), обращения поэта к ибсеновским героям и мотивам в стихотворениях («Сольвейг» (20 февраля 1906 г.), «Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь! (декабрь 1906 г.), а также стихотворение «Забывшие тебя», написанное 1 августа
1908 г., в котором снова звучат брандовские мотивы и которое может служить пояснением к замыслу «Дионис Гиперборейский»).
Набросок «К Дионису Гиперборейскому» является одним из самых ранних отражений литературного влияния творчества Ибсена на А. Блока. В наброске очерчена канва основного сюжета будущей драмы: Дед будит внучку, дитя своей мудрости, и, поднимая, перед ней стену, показывает, как по извилистому пути поднимаются люди в поисках за Дионисом Гиперборейским. Людей этих ведет к вершинам их вождь. «Он – смельчак, ослепленный и сильный (“ГЕРОЙ”, – а эта пьеса – крушение героя)» (ЗП. С. 89). Уставшие люди начинают роптать на тяжесть и бесплотность пути, но он силой своей воли уводит всех еще выше. В ледяных горах остается только юноша, в котором «ПОЕТ какая-то МЕРА ПУТИ, им пройденного (та мера, которою исполняется человек в присутствии божества)» (ЗП. С. 90). Юноша встречает в горах Деву снежных гор, с которой начинает танец. Люди, ушедшие в горы, возвращаются «сытенькими», «розовыми и упитанными» (ЗП. С. 90–91) и смотрят на танец юноши и Девы. Финал драмы юмористичен. Стена опускается и дед, смотря, как юноша с внучкой танцует в поблекшей комнате, говорит, что теперь может спокойно умереть.
Жанр замысла определен поэтом как «сонная мистерия». С одной стороны, такое определение замысла несет смысловую нагрузку основной его идеи (см. ниже). С другой стороны, выбранный жанр во многом объясняет заданную структуру замысла и тему выбранного сюжета.
Обратимся к определению жанра мистерии А.Н. Веселовским в книге «Старинный театр в Европе», которую А. Блок упоминает в Записных книжках: «Мистерия была первоначальным видом духовной драмы и послужила общим нарицательным именем для многочисленных видов ее.… Само слово мистерия, происходя от лат. ministerium – обряд, этим самым указывает на раннюю связь ее с церковным обрядом»8. Мистерии были связаны, прежде всего, и с языческими культами, в первую очередь с элев-синскими празднествами в честь Деметры и Диониса. В «Дионисе Гиперборейском» Блок обращается к мистериальному сюжету о восходящем пути человечества к духовному просветлению.
Жанром мистерии и обусловлено появление в конце замысла юмористического финала, который, как уже говорилось, многие исследователи ошибочно толковали как отход Блока от Ибсена. Дело в том, что для мистерий были характерны комические вставки, интерлюдии в виде народной сатиры. Поэтому своеобразное «приземление» финальных событий замысла вполне отражает общую традицию мистерий.
Влияние «Бранда» Ибсена на написание данного замысла бесспорно. Накануне написания А. Блоком набросков к драме «Дионис Гиперборейский» 20 декабря 1906 г. состоялась премьера драмы-поэмы «Бранд» в московском Художественном театре. В «Дионисе Гиперборейском» Блок обращается к ибсеновскому сюжету восхождения в горы и образу Бранда-вождя, зовущего за собой людей на самые вершины в поисках своего бога. Но финал различен: у Ибсена Бранд гибнет под лавиной, брошенный и отвергнутый толпой. У Блока вождь и толпа, отчаявшись, спускаются к юноше, танцующему с Девой снежных гор.
У Ибсена в центре его драматической поэмы – Бранд, идеальный герой, который поднимается на вершины в поисках Бога; герой, для которого главное – быть цельной личностью, верным самому себе. У Блока же – юноша, «у которого в глазах есть еще что-то, кроме усталости» и в котором «поет мера пути» (ЗП. С. 89). Вождь представлен как «смельчак, ослепленный и сильный», который «силою своей пустой воли уводит за собою всех по извилистому и бесконечному пути» (ЗП. С. 89). У Ибсена Бранд противопоставлен толпе, которая отрекается от него и его пути. У Блока толпе во главе с вождем противопоставлен юноша.
«Бранда» и «К Дионису Гиперборейскому» объединяет тема восхождения, неразрывно связанная с темой пути. На тему пути, выделенную Блоком в «Бранде», указывают сделанные им пометы:
Один из толпы (Бранду) нам многие указывали раньше, каким путем идти, но ты пошел9.
У Ибсена Бранд видит путь к вершинам ценой жертв, а целью – обретение сильной и цельной воли. На вершине Бранд слышит голос Бога и гибнет под снежной лавиной. В «Дионисе Гиперборейском» вождь и люди достигают «вершин красоты мировой» (ЗП. С. 88), но вождь призывает идти еще выше, туда, где в «лучах заката, почивает наш бог» (ЗП. С. 88). Путь юноши иной, чем путь вождя и толпы. Он остается на той точке, «с которой видна в тумане покинутая земля» (ЗП. С. 89), таким образом, обретая «меру» своего пути, потому что, поднимаясь выше, «взор твой уже не различит ничего внизу, и ты забудешь о нашей общей родине» (ЗП. С. 89). Путь юноши противопоставлен тем, кто ушел выше, и тем, кто находится ниже него. «… его страшные соблазны: те, кого он считал лучшими, ушли выше его, и он не имел смелости следовать за ними: отныне они презрели его (его сомнения, не надо ли за ними?). Те простые люди, с которыми он отдыхал, остались глубоко внизу, в мутном пятне города, сквозящего перед его очами из провалов и ущелий. Нисхождение к ним было бы для него бесконечной тоской и проклятием» (ЗП. С. 89).
Таким образом, юноша остается в переходной зоне, между земным и небесным, где происходит его встреча с божеством, при этом, находясь там, он сохраняет верность земле и родине в отличие от Бранда у Ибсена, который сохраняет верность самому себе. Неслучайно А. Блок отмечает слова Вяч. Иванова: «Восхождение – Нет Земле; нисхождение – “кроткий луч таинственного Да”. Мы, земнородные, можем воспринимать Красоту только в категориях красоты земной. Душа Земли – наша Красота. Итак, нет для нас красоты, если нарушена заповедь: “Верным пребудь Земле”»10. Эту же «неразлученность с землей» (Т. 5. С. 16) А. Блок отметит в 1905 г. в статье «Творчество Вяч. Иванова», обратив внимание на его стихотворение «Поэты духа», в котором также звучит тема восхождения и забвения земли.
Не мни: мы, в небе тая, С землей разлучены, – Ведет тропа святая В заоблачные сны.
Впоследствии Блок, противопоставив стихию и культуру, так охарактеризовал «стихийных людей»: «Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли… Земля с ними, и они с землей…» («Стихия и культура». Т. 5. С. 357).
Намеренное подчеркивание Блоком «меры пути», которую обретает юноша, также возвращает нас к особенностям мистериального сюжета и мистериальных посвящений. У Блока «мера пути» символизирует «порог», который необходимо перейти, чтобы вступить на путь мудрости. «Если силы человека не закалены, когда он приступает к “порогу”, то он не ощущает действительности вечных духовных сил, встречающих его на “пороге”. Вместо соединения с высшим миром он отпадает назад, в низший»11. С высшим миром соединяется только юноша, остальные, перейдя меру, отпадают назад и становятся «сытенькими». Такое своеобразное ироничное принижение толпы и их вождя дополнительно подчеркивает ее падение и указывает на «крушение героя».
Картина восхождения к вершинам мировой красоты в «Дионисе Гиперборейском» с «лиловатыми отсветами» на склонах гор, «мировым закатом», который «горит на горах», совпадает с картиной, которую А. Блок представит в 1910 г., говоря об итогах пути, пройденного символизмом и символистами: «Все мы как бы возведены были на высокую гору, откуда предстали нам царства мира в небывалом сиянии лилового заката; мы отдавались закату, красивые как царицы, но не прекрасные как цари, и бежали от подвига. Оттого так легко было броситься вслед за нами непосвященным; оттого заподозрен символизм» («О современном состоянии русского символизма». Т. 5. С. 435).
В переходной зоне юноша встречает Деву снежных гор и гадает: «Кто Она? Бог или демон?» (ЗП. С. 90). Бранд у Ибсена в горах встречает самоотверженную Агнес, а затем безумную Герд, чей «путь дик»12, она зовет его на вершины в «снежную церковь». В отношении переходных зон Ханзен-Леве замечает: «Для Блока и Белого горные высоты – это кульминационные точки мистико-эротических встреч и сублимирующего катарсиса. Здесь открывается та сцена, что возведена на рубеже земли и неба для представления драмы душ в рамках некой космической мистерии…»13.
Наброски А. Блока прерывает «цитата для памяти» от 28.12.1906 г., которая касается Н.Н. Волоховой: «Сегодня я предан Вам. Прошу Вас подойти ко мне. Мне необходимо сказать несколько слов Вам одной. Прошу Вас принять это так же просто, как я пишу. Я глубоко уважаю Вас» (ЗП. С. 90). Просьба к Н. Волоховой о разговоре совпадает с зовом юноши, который призывает божество, предшествуя сцене разговора с Ней: «И, взбегая на утесы, он кличет громко и настойчиво». «Итак: следует сцена переклички двух голосов, еще не нашедших друг друга. Затем, очевидно, он замечает, наконец, Ее. Их разговор» (ЗП. С. 90).
Чувства и отношение поэта к актрисе Н. Волоховой находят отражение в набросках к драме «Дионис Гиперборейский» в изображении сцены встречи юноши и Девы Снежных гор. Стихотворный цикл «Снежная маска», написанный стихийно в начале 1907г. также посвящен ей. Волохова стала для поэта воплощением стихии, поэтому и воплощение дионисийского начала в «Дионисе Гиперборейском» в виде Девы неслучайно. По- пробуем определить истоки названия замысла сонной мистерии «Дионис Гиперборейский».
А. Блок начинает увлекаться учением о Дионисе под влиянием Вяч. Иванова. В 1904 г. в журнале «Новый путь» выходит статья Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога», которая была внимательно прочитана А. Блоком, о чем свидетельствуют многочисленные пометы, сделанные им на данной статье. Также под влиянием Вяч. Иванова А. Блок обращается в конце 1906 г. к трактату Ф. Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки» и составляет его подробный конспект в своих Записных книжках, обращая особое внимание на все, что касается дионисийского и апполинического начал.
Следуя теории Ницше, в замысле Блока дионисийское и аполлиниче-ское начала слиты воедино. О синтезе двух начал говорит уже само определение замысла «К Дионису Гиперборейскому» как сонной мистерии (мистерия – дионисийское действо, сон – относится к Аполлону). Поэт обращает внимание на неразрывность этих начал у Ницше: «Аполлон не мог жить без Диониса» (ЗП. С. 78), но еще ранее выделяет двумя подчеркиваниями у Вяч. Иванова: «… и тогда открылись наши глаза на то, что мир греческой души был “мир души ночной”, и оттого так жадно заслушивалась она порой “любимой повести” и “рвалась из смертной груди” и “с беспредельным жаждала слиться” в дионисических исступлениях – и вновь, чтобы не разбить своего сосуда и не разбудить уже “шевелящегося хаоса” призывала себя к строю и мере и сдержанности аполлинического согласия. Мы постигли, что эллинская мера обусловливалась безмерностью, строй – нестройностью, веселость – скорбью, порыв – безнадежностью, космос – хаосом, Аполлон – Дионисом»14. В «Дионисе Гиперборейском» юноша «узнал МЕРУ, и потому плоть его в гармонии с духом познавшим, и движения его умеренны и так гибки» (ЗП. С. 90). На присутствие Аполлона указывает не только мера, но и танец юноши с Девой Снеж- ных гор. Юноше противопоставлена толпа, которая спускается во главе с вождем; в отличие от него, они обрели только Диониса. «Они БЕЗМЕРНО чем-то гордятся, хвастливы, стали розовыми и упитанными» (ЗП. С. 90). «Сытые (сытенькие) и гордые искатели Диониса Гиперборейского» (ЗП. С. 91). Блок отмечает в конспекте «Происхождения трагедии»: «Чрезмерность (например, самовозвышение) чужда Аполлону» (ЗП. С. 79). Об этом же у Вяч. Иванова: «…Дионисовой стихии более родственно уничтожение и истребление из чрезмерности изобилия»15. Такая гибельная чрезмерность «все или ничего» присуща и ибсеновскому Бранду.
Наряду с этим, все же возникает вопрос, почему у Блока Дионис назван Гиперборейским? Обратимся к толкованию понятия «гипербореи». «Гипербореи – в греческой мифологии народ, живущий на крайнем севере, “За Бореем” и особенно любимый Аполлоном. Также как и Аполлон, гипербореи художественно одарены. <…> вечное веселье и благоговейные молитвы характерны для этого народа – жрецов и слуг Аполлона»16. С одной стороны, «гиперборейский» получается то же, что и апполинический, что еще раз подчеркивает синтез этих двух начал. Но с другой стороны, если учесть то, что в «Антихристианине» Ницше противопоставил Христу и христианству Диониса, это во многом объясняет смысл названия блоковского замысла как богоборческий и мятежный, вне толпы. В «Антихристианине» повествование у Ницше ведется от лица гипербореев, мифического народа, живущего в волшебной стране на далеком Севере, за пределами царства северного ветра при свете вечного дня, в блаженстве, не зная ни болезни, ни смерти: «Обратимся к себе. Мы гипербореи – мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. “Ни землей, ни водой ты не найдешь пути к гипербореям”… По ту сторону севера, льда, смерти – наша жизнь, наше счастье»17.
В статье «Эллинская религия страдающего бога» Вяч. Иванов, говоря о разноликости Диониса, как «бога вечно превращающегося и проходя- щего через все формы»18, указывает на одну из его ипостасей «бог-дева». В «Дионисе Гиперборейском» Блока дионисийское начало представлено в виде Девы снежных гор. Это же касается и выбранного Блоком горного пейзажа, на фоне которого разворачивается сюжет «Диониса Гиперборейского». С одной стороны, снежные горы и утесы – это пейзаж драмы Ибсена, с другой стороны, ледяные горы, крутые склоны и утесы сопутствуют религии Диониса: «Религия Диониса… это – зимняя религия горных высей, снежных стремнин, бесплодных круч и диких ущелий…»19. У Ибсена Блок отмечает дионисийские мотивы, обращая внимание на слова Бранда: «Вакхант, Силен – понятный, цельный образ»20; сам Бранд также стремится стать «личностью цельной и верной себе»21, что указывает на близость этому герою дионисийского начала.
Все указывает на то, что дионисийское божество у Блока представлено женским началом. Здесь примечательной является и соловьевская реминисценция, звучащая в «Дионисе Гиперборейском», когда «внучка», впоследствии «Дева снежных гор», представлена как «дитя мудрости деда». Это, безусловно, отсылает к соловьевскому мифу о ВечноЖенственной ипостаси Бога Софии.
Следует также сказать о возможных влияниях Г. Андерсена на появление в замысле Блока образа Девы снежных гор. Примечательно, что в Записных книжках поэта замысел предваряет запись о чтении первого тома Андерсена, а после текста следует запись: «… буду читать Андерсена» (ЗП. С. 91). Как и в замысле «Дионис Гиперборейский», в сказке «Дева льдов» Андерсена присутствует сюжетная линия встречи с Девой в ледяных горах при восхождении героя.
В 1908 г. Блок пишет стихотворение «Забывшие тебя», которое также обнаруживает много сходного с драматической поэмой Ибсена «Бранд». Общей темой, объединяющей указанные произведения Блока, яв- ляется тема восхождения героя: ею завершается «Бранд» Ибсена, с нее начинаются «Забывшие Тебя» и «Дионис Гиперборейский»:
И час настал. Свой плащ скрутило время,
И меч блеснул, и стены разошлись.
И я пошел с толпой – туда, за всеми,
В туманную и злую высь (Т. 3. С. 66).
Для сравнения, в «Дионисе Гиперборейском»: «Дед, разбудив внучку, … разверзает (поднимает) перед нею стену своего поблекшего жилья и показывает дивное зрелище: … по крутому извилистому пути среди утесов поднимаются в дальние горы люди в поисках за Дионисом Гиперборейским» (ЗП. С. 87).
У Ибсена в «Бранде»: «Крайнее горное пастбище селенья. В глубине ландшафт переходит в скалистые вершины и пустынные горные поля. Идет дождь. Бранд, в сопровождении толпы мужчин, женщин и детей, взбирается по холмам» (Т. 3. С. 66).
Целью этого восхождения и у Ибсена, и у Блока является обретение новой земли и встреча с Богом. Безусловно, данная тема восходит к библейскому сюжету явления Бога сынам Израиля на горе Синайской на их пути в землю обетованную.
Ср. в первоначальной редакции «Забывшие Тебя»:
И у ночных костров, дрожа, мечтали Искать иной, неведомой земли22.
Бранд. Через пустыню жертв ведет дорога В страну обещанную – Ханаан23.
На пути к «неведомой земле» в текстах по-разному выстраиваются отношения героя и толпы: если у Ибсена толпа покидает Бранда и не желает следовать за ним на вершины и терпеть лишения и голод, то у Блока «уставший юноша» в «Дионисе Гиперборейском» и лирический герой сти- хотворения сами покидают толпу. Первый в одиночестве, второй – уже с «толпой сопутников». В отличие от юноши, в котором «поет мера пути» (ЗП. С. 89), ни лирический герой стихотворения, ни его спутники, потеряв путь, не могут его найти, попадая из выси в область хаотическую.
Скитались мы, беспомощно роптали,
И прежних хижин не могли найти,
И, у ночных костров сходясь, дрожали, Надеясь отыскать пути (Т. 3. С. 66).
«Ужас нисхождения в хаотическое зовет нас могущественнейшим из зовов, повелительнейшим из внушений: он зовет нас потерять себя»24, – пишет Вяч. Иванов. И далее о хаотической сфере: «Это царство не золотосолнечных и алмазно-белых подъемов в лазурь и не розовых и изумрудных возвратов к земле, но темного пурпура преисподней»25.
У Блока:
Нам не сияло небо голубое,
И солнце – в тучах грозовых (Т. 3. С. 66).
Еще в 1906 г. в набросках «К Дионису Гиперборейскому», предваряя развитие темы стихотворения «Забывшие Тебя», А. Блок определит нисхождение и попытки вернуться назад, как «бесконечную тоску и проклятие» (ЗП. С. 89). Стихотворение «Забывшие Тебя» уже с точностью изобразит сцену из Откровения, где «напрасные скитания», «утрата пути» и «безрадостность мечтаний» об «иной, неведомой земле» выступят как возмездие «забывшим» и оставившим «первую любовь свою», передавая состояние разлуки с Высшим началом:
Скитались мы, беспомощно роптали,
На месте прежних хижин не нашли
И у ночных костров, дрожа, мечтали
Искать иной, неведомой земли (ППС. Т. 3. С. 265).
Напрасный жар! Напрасные скитанья!
Мечтали мы, мечтанья разлюбя.
Так – суждена безрадостность мечтанья Забывшему Тебя (Т. 3. С. 66).
Как и в «Дионисе Гиперборейском» в стихотворении присутствует ницшеанский подтекст, который до сих пор оставался незамеченным исследователями творчества А. Блока. Всему стихотворению очень созвучны образы «Антихристианина» Ницше: «Мы жаждали молнии и дел, мы оставались вдали от счастья немощных, от “смирения”. Грозовые тучи вокруг, мрак внутри нас: мы не имели пути , формула нашего счастья: одно Да, одно Нет, одна прямая линия, одна цель»26.
Фон «грозовых туч», «молний», «мрака» и «ночи» как признак утраты пути гипербореями Ницше прямо соотносится с фоном действия «Забывших Тебя», так же, как и подчеркнутое указание на личное местоимение «мы», от лица которого ведется сюжет.
Навстречу нам шли грозовые тучи.
Их молний сноп дробил.
Нам не сияло небо голубое,
И солнце – в тучах грозовых (ППС. Т. 3. С. 44).
У Ибсена в «Бранде» тема приобретает другое развитие: герой-вождь смотрит на людей, которые «ушли из строя» (ППС. Т. 3. С. 44), в результате чего и утратили путь:
Бранд
Ночь, непроглядная тьма! Ты людей Черным крылом придавила27.
Там меня встретила черная ночь, Взор мой увидел ничтожных, Сонных людей с раздвоенной душой,
Крепко держащихся только
Воспоминаний отживших своих28.
В первоначальной редакции единый корпус текстов стихотворений «Забывшие Тебя», «О доблестях, о подвигах, о славе» и «Когда замрут отчаянье и злоба…» совпадает с «Брандом» Ибсена не только фоном «сырой ночи», «ночных костров» (ППС. Т. 3. С. 264), но и мотивами сна и воспоминаний:
Когда замрут отчаянье и злоба,
Нисходит сон. – И крепко спим мы оба
На разных полюсах земли.
Ты обо мне, быть может, грезишь в эти
Часы. Идут часы походкою столетий,
И сны встают в земной дали (ППС. Т. 3. С. 264).
Я крепко сплю, и вижу плащ твой синий (ППС. Т. 3. С. 265).
Замысел «Дионис Гиперборейский» также пронизан мотивами сна, само действие представлено как «сонная мистерия». Мотив сна переплетается с мотивом забвения, в «Дионисе Гиперборейском» это забвение земли, «общей родины» (ЗП. С. 89). В «Забывших Тебя» мотив забвения является основным, восходя с одной стороны к Ветхому Завету и Откровению, а с другой – имеет источником творчество Ибсена.
Обращаясь к теме забвения и возмездия в статье «Генрик Ибсен», А. Блок вносит в нее иное звучание как темы пути художника, для которого определяющим началом является Вечно-Женственная сущность Божества: «… истина гласит о том, что человек может достигнуть вершины славы, свершить много великих дел, может облагодетельствовать человечество, но – горе ему, если на своем восходящем пути он изменит юности, или, как сказано в Новом завете, “оставит первую любовь свою”» (Т. 5. С. 317). На соотнесенность стихотворения с «мифом Прекрасной Даме» и Вечно-
Женственным Началом указывают строки первоначальной редакции стихотворения, в которых звучит обращение к героине «первого тома»: «Ни крова, ни свободы, … ни Тебя» (ППС. Т. 3. С. 265).
Неслучайно и у Ибсена Блок выделяет слова Бранда к Агнес, с утратой которой тот вступает на «дикий путь» Герд, ведущей к «снежной церкви» и гибели:
Бранд
Там, где сбиваюсь я, мимо иду,
Ты направленье находишь Ты никогда не сбивалась, Не увлекалась огнями болот29.
Поэт соотносит путь восхождения к божеству с творческим путем художника, а основным критерием правильности выбранного пути – наличие путеводительного начала.
Ты, знающая дальней цели Путеводительный маяк, Простишь ли мне мои метели, Мой бред, поэзию и мрак? (Т. 3. С. 9)
И если восхождение несет в себе «внешнюю гибель и внутреннее торжество человеческого самоутверждения»30, «сверхличное», то хаотическое «безлично», «все формы разрушены, грани сняты, зыблются и исчезают лики»31. Герой погружается в мир-хаос, а художник – символист вступает в период «антитезы».
Напрасный жар! Напрасные скитанья!
Мечтали мы, мечтанья разлюбя.
Так – суждена безрадостность мечтанья Забывшему тебя (Т. 3. С. 66).
Это же Блок скажет в 1910 г. об искусстве и художнике периода «антитезы»: «Искусство есть Ад… По бессчетным кругам Ада может пройти, не погибнув, только тот, у кого есть спутник, учитель и руководительная мечта о Той, которая поведет туда, куда не смеет войти и учитель» («О современном состоянии русского символизма». Т. 5. С. 433).
Таким образом, и у Блока, и у Ибсена32 тема восхождения неразрывно связана с темой творчества и с образом художника, творца. Блок в конспекте «Происхождение трагедии» Ницше фиксирует: «Можно так определить лирического поэта: сначала он, как художник в духе Диониса, совершенно сливается с первобытно- единым, его скорбью и противоречием, снимает с него копию посредством музыки… Затем эта музыка, как бы в символическом изображении, видимом во сне или под властью сна, относящегося к искусству Аполлона, является ему в видимых образах» (ЗП. С. 79–80). В 1909 г. Блок так определит хорошего художника: « Хорошим художником я признаю лишь того, кто из данного хаоса (а не в нем и не на нем)… творит космос» (ЗП. С. 160).
Таким образом, следует сказать о наличии множества подтекстов, присутствующих в замысле сонной мистерии «Дионис Гиперборейский» А. Блока. На внешний ибсеновский сюжет в «Дионисе Гиперборейском» накладываются учение Ницше о Дионисе, ницшеанские реминисценции из «Антихристианина», интерпретация дионисийского учения Вяч. Ивановым, соловьевский миф о становлении мира и блоковский миф о пути. Выявление данных влияний помогло не только установить его связи с другими литературными источниками, но и дать объяснение названию данного замысла, а также показать развитие этих подтекстов в дальнейшем творчестве А. Блока.
-
1 Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала XX века. М., 1972. С. 172–173.
-
2 Шарыпкин Д.М. Блок и Ибсен // Скандинавский сборник. Таллин, 1963, С. 159–174.
-
3 Федоров А.В. Ал. Блок – драматург, Л., 1980. С. 105–108.
-
4 Родина Т.М. Указ. соч. С. 173.
-
5 Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1960–1963. Т. 8. С. 168. Далее ссылки даются в тексте по этому изданию, с указанием номера тома и страницы.
-
6 Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 85–86. В тексте – ЗП; страницы указываются в после цитат.
-
7 Федоров А.В. Указ. соч. С. 108; Шарыпкин Д.М. Указ. соч. С. 166.
-
8 Веселовский А.Н. Старинный театр в Европе. Исторические очерки. М., 1870. С. 39.
-
9 Ибсен Г. Полное собрание сочинений. Т. 3. М., 1904. С. 344.
-
10 Иванов Вяч. Ив. По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., 1909. С. 26–27.
-
11 Штейнер Р. Посвящение и мистерии. СПб., 1992. С. 74.
-
12 Ибсен Г. Указ. соч. С. 329.
-
13 Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. Космическая символика. СПб., 2003.
-
14 Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 2. С. 66–67.
-
15 Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 3. С. 40.
-
16 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1987. С. 304.
-
17 Ницше Ф. Антихристианин. Опыт критики христианства. / Пер. В.А. Флеровой; Под ред. А.Я. Ефименко. СПб., 1907. С. 1.
-
18 Иванов Вяч . Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 9. С. 47.
-
19 Там же. С. 57.
-
20 Ибсен Г . Указ. соч. С. 317.
-
21 Там же. С. 346.
-
22 Блок А.А. Полное (академическое) собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 3. М.,1997.
-
С. 265. Далее – ППС, с указанием тома и страницы в тексте.
-
23 Ибсен Г. Указ. соч. С. 189.
-
24 Иванов Вяч. Ив. По звездам. Статьи и афоризмы. С. 30–31.
-
25 Там же. С. 30.
-
26 Ницше Ф. Указ. соч. С. 1–2.
-
27 Ибсен Г. Бранд // Ибсен Г. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1907. С.192.
-
28 Там же. С. 193.
-
29 Ибсен Г. Полное собрание сочинений. Т. 3. М., 1907. С. 411–412.
-
30 Иванов Вяч. Ив . По звездам. Статьи и афоризмы. С. 24.
-
31 Там же. С. 30.
-
32 Драмы Ибсена «Строитель Сольнес», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся».
Список литературы Литературные влияния и реминисценции в драматическом замысле А. Блока «Дионис Гиперборейский»
- Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала XX века. М., 1972. С. 172-173.
- Шарыпкин Д.М. Блок и Ибсен//Скандинавский сборник. Таллин, 1963, С. 159-174.
- Федоров А.В. Ал. Блок -драматург, Л., 1980. С. 105-108.
- Родина Т.М. Указ. соч. С. 173.
- Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., 1960-1963. Т. 8. С. 168.
- Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 85-86.
- Федоров А.В. Указ. соч. С. 108.
- Шарыпкин Д.М. Указ. соч. С. 166.
- Веселовский А.Н. Старинный театр в Европе. Исторические очерки. М., 1870. С. 39.
- Ибсен Г. Полное собрание сочинений. Т. 3. М., 1904. С. 344.
- Иванов Вяч. Ив. По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., 1909. С. 26-27.
- Штейнер Р. Посвящение и мистерии. СПб., 1992. С. 74.
- Ибсен Г. Указ. соч. С. 329.
- Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. Космическая символика. СПб., 2003.
- Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога//Новый путь. 1904. № 2. С. 66-67.
- Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога//Новый путь. 1904. № 3. С. 40.
- Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1987. С. 304.
- Ницше Ф. Антихристианин. Опыт критики христианства./Пер. В.А. Флеровой; Под ред. А.Я. Ефименко. СПб., 1907. С. 1.
- Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога//Новый путь. 1904. № 9. С. 47.
- Там же. С. 57.
- Ибсен Г. Указ. соч. С. 317.
- Там же. С. 346.
- Блок А.А. Полное (академическое) собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 3. М.,1997. С. 265.
- Ибсен Г. Указ. соч. С. 189.
- Иванов Вяч. Ив. По звездам. Статьи и афоризмы. С. 30-31.
- Там же. С. 30.
- Ницше Ф. Указ. соч. С. 1-2.
- Ибсен Г. Бранд//Ибсен Г. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1907. С.192.
- Там же. С. 193.
- Ибсен Г. Полное собрание сочинений. Т. 3. М., 1907. С. 411-412.
- Иванов Вяч. Ив. По звездам. Статьи и афоризмы. С. 24.
- Там же. С. 30.