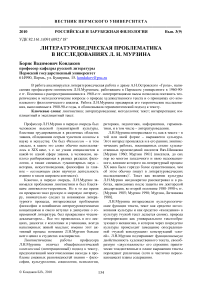Литературоведческая проблематика в исследованиях Л.Н.Мурзина
Автор: Кондаков Борис Вадимович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Памяти профессора Л.Н.Мурзина
Статья в выпуске: 3 (9), 2010 года.
Бесплатный доступ
В работе анализируется литературоведческая работа о драме А.Н.Островского «Гроза», написанная профессором-лингвистом Л.Н.Мурзиным, работавшим в Пермском университете в 1960-90-е гг. Полемика с распространившимися в 1960-е гг. интерпретациями пьесы позволила поставить теоретические и методологические вопросы о природе художественного текста и о принципах его комплексного филологического анализа. Работа Л.Н.Мурзина предваряла его теоретические исследования, выполненные в 1980-90-е годы, и обосновывала герменевтический подход к тексту.
Лингвистика, литературоведение, методология, текст, интерпретация, имплицитный и эксплицитный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14728859
IDR: 14728859 | УДК: 82.161.1(091)(092)"18"
Текст научной статьи Литературоведческая проблематика в исследованиях Л.Н.Мурзина
Профессор Л.Н.Мурзин в первую очередь был человеком высокой гуманитарной культуры, блестяще эрудированным в различных областях знания, обладавшим острым чувством новизны в науке и искусстве. Он был Филологом – в том смысле, в каком это слово обычно использовалось в XIX веке, т. е. не узким специалистом в какой-то одной сфере знания, а человеком, неплохо разбирающимся в разных разделах филологии, а также смежных гуманитарных наук – истории, искусствоведения, философии (а главное – осознающим свою научную деятельность именно в таком широком контексте).
Конечно, в первую очередь, Л.Н.Мурзин занимался проблемами лингвистики и был блестящим лингвистом-теоретиком. Но в то же время он прекрасно знал русскую и мировую литературу, внимательно следил за новинками литературного процесса, интересовался проблемами философии и новейшими литературоведческими концепциями и смело вступал в дискуссии о современной литературе, был прекрасным чтецом-декламатором… Все это проявлялось в его лекциях, диалогах с коллегами и учениками, всегда наполненных живой мыслью; именно этот активный процесс познания Л.Н.Мурзин больше всего ценил в студентах и аспирантах.
Лингвистические работы профессора Л.Н.Мурзина отличал общефилологический комплексный (интеграционный) подход к тексту, предполагавший многочисленные выходы в проблемы смежных разновидностей знания – философии, культурологии, социологии, психологии, риторики, педагогики, информатики, герменевтики, и в том числе – литературоведения.
Л.Н.Мурзина интересовало то, как в тексте – в той или иной форме – выражается культура . Этот интерес проявлялся и в его ранних лингвистических работах, посвященных стилю художественных произведений писателя Вяч.Шишкова [Мурзин 1960; Мурзин 1961] (писателя, до сих пор во многом загадочного и явно недооцененного, влияние которого на литературный процесс XX века было гораздо более существенным, чем об этом обычно пишут в литературоведческих исследованиях)1. Текст как явление культуры Л.Н.Мурзин неоднократно рассматривал и в работах, написанных после защиты им докторской диссертации, во второй половине 1980-1990-х гг. [Мурзин 1985; Мурзин 1990; Мурзин, Литвинова 1988].
Л.Н.Мурзина интересовали культурологические функции текста, текст как средство истолкования культуры и как средство «вхождения» в культуру (чужой текст делается своим), природа интерпретации как универсального текстообразующего механизма, в котором через посредство культуры происходит замещение опосредованной «чужой конструкции» конструкцией «своей». Л.Н.Мурзин подчеркивает функциональную двойственность художественного текста, своеобразную «двухэтажность» его строения: практически тождественные в плане выражения тексты порождают различные (хотя и частично пересекающиеся) планы содержания.
Все эти идеи своеобразно отразились в единственной собственно литературоведческой статье Л.Н.Мурзина «Характер Кулигина с точки зрения Добролюбова («Гроза» А.Н.Островско-го)», подготовленной в соавторстве с М.Лукони-ным [Луконин, Мурзин 1967]. Статья эта была написана предположительно в 1964-1965 гг. (т. е. вскоре после приезда Л.Н.Мурзина в Пермь и защиты им кандидатской диссертации), а опубликована 1967 г. в «Ученых записках Пермского государственного университета» (издательский процесс в те годы протекал весьма медленно, и подготовленные к изданию монографии и сборники обычно по 2-3 года «лежали» в издательском отделе, дожидаясь получения всех необходимых для «выхода в свет» разрешений).
Сам выбор в качестве материала пьесы А.Н.Островского весьма интересен. Пьеса по своему содержанию и особенностям поэтики является как бы «переходной», поскольку она находится на «пересечении» двух этапов деятельности драматурга: с одной стороны, она завершает «купеческий» период (конец 1840-х – 1850е гг.) его творчества; с другой – предваряет «исторический» период (1860-е годы).
Интересен и текст самого произведение. Во-первых, это одно из самых известных, «затертых» произведений писателя (еще со школьных времен окружено многочисленными «жесткими» штампами читательского восприятия); во-вторых, это драма, породившая многочисленные критические, литературоведческие и театральные интерпретации2; в-третьих, это пьеса, содержащая – при всей своей «заштампованности» – многочисленные загадки, до сих пор еще не разгаданные литературоведами и режиссерами. Принципиально неточным оказывается художественное время произведения и историческое время, с которым оно связано (считается, что предположительно это 1820-е гг., но в то же время в тексте могут быть обнаружены отдельные детали, характерные как для периода конца 1850х гг., так и XVIII в.); довольно широким оказывается спектр интерпретаций образов главных и второстепенных персонажей произведения (весьма психологически сложных и неоднозначных). Можно предположить, что интерес, проявленный к драме «Гроза» со стороны Л.Н.Мурзина, мог быть вызван стремлением преодолеть в своей работе некоторые существовавшие в тот период определенные идеологические и эстетические стереотипы, связанные с данным произведением.
Показателен и выбор в качестве объекта исследования статьи характера, обычно не очень понятного для читателей и зрителей пьесы, – изобретателя-самоучки Кулигина, в образе кото- рого соединяются черты как ученого-гражданина, так и «местного сумасшедшего». Интересно и то, что Кулигин – персонаж, связанный через текст (речь идет о его репликах в диалогах с другими персонажами) сразу с несколькими эпохами: в его высказываниях – помимо скрытых цитат из некоторых известных текстов XIX в. – обнаруживаются скрытые аллюзии на сатирические повести XVII в., оды М.Ломоносова и т. п.). Сам Кулигин как персонаж пьесы выступает прежде всего как интерпретатор: он все время либо кого-то обличает, либо проповедует, при этом он сам называет свои речи «болтовней» [Луконин, Мурзин 1967: 186-187]. Он выступает как интерпретатор технических изобретений и научных открытий прошлого, сущности общественного блага и нравственных ценностей, выраженных в Евангелии (как он их понимает), поступков обличаемых им «самодуров» и всего «самодурного царства».
Основным материалом исследования в статье оказывается не столько текст А.Н.Островского, сколько различные его интерпретации – интерпретация школьного учебника по литературе [Зерчанинов 1960], «хрестоматийная» для советского периода интерпретация пьесы Н.А.Добролюбовым (статья «Луч света в темном царстве» [Добролюбов 1952]) и интерпретация литературоведа 1950-1960-х годов А.И.Ревякина [Ревякин 1955].
Статья Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве» интерпретировала пьесу Островского как злободневное произведение, в котором ставятся актуальные общественные проблемы, т. е. существенно осовременивала и политизировала пьесу, вводя ее в контекст общественной жизни России конца 1850-х гг. (кануна значительных политических реформ).
Точка зрения на пьесу Островского, изложенная в книге одного из классиков «советского» литературоведения А.И.Ревякина, к началу 1960х гг. глубоко укоренились в «школьном» и «вузовском» литературоведении. А.И.Ревякин по-своему «творчески развивал» концепцию Н.А.Добролюбова, в свою очередь добавляя в нее некоторые идеологические стереотипы советской эпохи (например, о выразителях «народной точки зрения», «неустанной и светлой народной мысли», о «пламенной вере в народ» и в « обязательное счастье завтрашнего дня»).
В статье М.Луконина и Л.Мурзина содержится полемика с получившей в 1950-1960-е гг. интерпретацией образа Кулигина, в соответствии с которой он в «идейно-образной системе драмы» «занимает почти такое же положение, как главная героиня» («второй луч света»), хотя «такой взгляд на значение образа Кулигина <…> никак не согласуется с основной мыслью статьи Н.А.Добролюбова “Луч света в темном царстве”» [Луконин, Мурзин 1967: 183]. С точки зрения авторов статьи (и Добролюбова – в их интерпретации) «превосходство Кулигина над Катериной» «в отношении сознательной жизни» «лишь относительно, потому что оно касается одной логической стороны дела», он – «та же жертва самодуров» [там же: 185-186].
Возникновение такой интерпретации образа Кулигина в какой-то степени может быть объяснено позицией самого драматурга: «Просветитель-демократ по своим взглядам, Островский обрисовал Кулигина – тоже просветителя – с нескрываемой симпатией и теплотой. По замыслу автора, Кулигин с его альтруизмом, стремлением к знанию, сочувствием к униженным и оскорбленным, должен был быть глубоко положительным героем, противостоящим дикой и мрачной силе самодуров. Но как реалист Островский пошел дальше, раскрыв и отрицательные стороны мировоззрения и характера подобных представителей народа» [Луконин, Мурзин 1967: 190].
Однако однозначная интерпретация образа Кулигина как «второго луча света», с точки зрения авторов статьи, оказывается неправомерна, если исходить из всей системы образов драмы: «…На фоне решительных характеров, людей дела, а не слова, Кулигин предстает в своем истинном свете» [Луконин, Мурзин 1967: 191]. Эта интерпретация оказывается неправомерной и с методологических позиций: «…Нелогично всю систему образов анализировать, так сказать по-Добролюбову, а одно из звеньев этой системы – совершенно с другой точки зрения» [Луконин, Мурзин 1967: 190].
Однако, как можно предположить, главным для Л.Н.Мурзина был не историколитературоведческий интерес к пьесе Островского и не стремление полемизировать с литературоведческими штампами советской эпохи, а внимание к методологическим проблемам комплексного филологического анализа текста и его интерпретаций. С этих позиций данная небольшая работа во многом предвосхищала и реализовывала те подходы к тексту, которые в дальнейшем, в 1980-1990-е гг., будут теоретически обоснованы в исследованиях Л.Н.Мурзина.
В рассматриваемой статье по сути были реализованы представления Л.Н.Мурзина о природе текста вообще и художественного текста в частности: «…Специфику текста художественного произведения следует видеть прежде всего в его функциональной двойственности, своего рода «двухэтажности» построения. Художественный текст отличается от любого другого текста тем, что в нем как бы совмещаются два текста, тож- дественные (или почти тождественные) в плане выражения. Естественно, и планы содержания обоих текстов частично перекрещиваются и строятся параллельно друг другу. С этим связаны и известные трудности, которые испытывает говорящий, создавая художественный текст. Он должен не только владеть данным языком, но и уметь преобразовывать его в другой, специально приспособленный к выражению двойственной сущности данного текста» [Мурзин, Литвинова 1988: 128].
Пьеса Островского и связанные с ней «интерпретационные» (т. е. «преобразованные» к «выражению двойственной сущности») тексты как нельзя лучше подходили для подобного анализа. Как отмечал Л.Н.Мурзин в другой своей работе, «…интерпретация текста существует не иначе, как в форме текста. Поэтому проблему интерпретации можно рассматривать как отношение двух текстов – интерпретируемого и интерпретирующего. <…> Имея в виду, что в интерпретации текста активная роль принадлежит говорящему субъекту, мы предлагаем использовать следующие два противопоставления: имплицитный текст – эксплицитный текст и “свой” текст – “чужой” текст» [Мурзин 1985: 7].
По сути в ситуации с пьесой «Гроза» исследователь имеет дело с несколькими слоями связанных между собой текстов (интерпретаций), т. е. с ситуацией «интерпретации в интерпретации» (позднее Л.Н.Мурзин обозначит ее выражением «текст как интерпретация текста»):
-
1) текст пьесы «Гроза» А.Н.Островского (первичный «интерпретируемый текст»);
-
2) текст известной критической статьи Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве», в которой интерпретируется «первичный» текст пьесы;
-
3) текст «хрестоматийной» литературоведческой работы А.И.Ревякина, в которой интерпретируется пьеса А.Н.Островского и статья Н.А.Добролюбова (а также нескольких других работ, в которых предлагается аналогичная интерпретация образа Кулигина, – включая стандартный для того периода школьный учебник литературы [Зерчанинов 1960: 2]);
-
4) стереотипные представления о пьесе А.Н.Островского и статье Н.А.Добролюбова (признаваемые единственно верными в советскую эпоху), сохраняющиеся в сознании читателя еще со школьных времен;
-
5) интерпретация Л.Н.Мурзиным пьесы А.Н.Островского, статьи Н.А.Добролюбова и книги А.И.Ревякина;
-
6) собственная интерпретация читателем пьесы А.Н.Островского, статьи Н.А.Добролюбова и статьи самого Л.Н.Мурзина;
-
7) славянофильский «миф о “Грозе”», создававшийся и развивавшийся в русской культуре начиная со статьи критика Ап.Григорьева (в той или иной мере повлиявший на национальное культурное сознание XIX-XX вв.)3;
-
8) многочисленные иные театральные, критические и литературоведческие интерпретации пьесы (как «классические», так и «современные»), некоторые из которых – так или иначе – могут быть известны читателям статьи.
Все эти «интерпретирующие» тексты, с одной стороны, тесно связаны друг с другом, а также с самим первичным «интерпретируемым текстом» пьесы Островского; для их адекватного понимания требуются многочисленные контексты. С другой стороны, они существенно различаются выраженным в них историческим содержанием, а также авторскими идеологическими позициями. С третьей стороны, в них представлены все возможные варианты (разновидности) интерпретирующих текстов. Среди этих текстов есть «традиционные» и «полемические» тексты; некоторые из интерпретирующих текстов нацелены на обновление (например, интерпретация Добролюбова) или даже «дописывание» (современные театральные постановки) интерпретируемого текста; другие – на его архаизацию (интерпретация Ап.Григорьева); среди этих интерпретаций есть «свои» и «чужие» тексты; есть «стандартные» и есть максимально «оригинальные»; тексты «развернутые» и тексты «сжатые» (компрессированные или «редуцированные»). Интерпретации А.И.Ревякина, например, в контексте типологии Л.Н.Мурзина может быть отнесена к «редуцированному» типу, в котором «герои превращаются в рупоры классовых и других идеологий» [Мурзин, Литвинова 1988: 125].
Особенно важным для Л.Н.Мурзина было исследование диалектики «имплицитного» и «эксплицитного» интерпретирующего текстов: «С одной стороны, имплицитный текст можно рассматривать как интерпретацию эксплицитного. <…> Следовательно, с одной стороны, имплицитный текст можно считать некоторой переработкой эксплицитного, своего рода творческой редукцией последнего. С другой стороны, эксплицитный текст представляет собой некоторое развертывание имплицитного, то есть в последнем можно видеть своего рода программу, на основе которой реализуется эксплицитный текст. Значит, эксплицитный текст, напротив, есть интерпретация имплицитного. Явное противоречие! Но это противоречие диалектическое. <…> Переработать “чужой” текст, то есть понять его, – значит создать “свой”, фактически имплицитный текст» [Мурзин 1985: 9]. Тексты самого Островского, «интерпретирующие» работы Доб- ролюбова, Ревякина, упрощенные школьные прочтения пьесы демонстрируют разные уровни взаимодействия «имплицитности» и «эксплицитности», «стандартного» и «оригинального», «своего» и «чужого».
Все эти аспекты текста в их взаимодействии могут продемонстрировать глубину и качество интерпретации. Текст А.И.Ревякина, с которым полемизирует Л.Н.Мурзин, с одной стороны, оказывается слишком «стандартным», а с другой стороны – слишком «чужим» относительно интерпретируемого текста Островского; в нем «эксплицитное» начало превалирует над «имплицитным». «“Свой” текст <…> выступает как инструмент саморазвития. “Чужой” же текст в принципе лишен эгоцентрического начала, в нем заключен посторонний для говорящего чужой мир»; “Чужой” текст «всегда предстает как некоторый внешний материал, через овладение которым говорящий приобщается к чужому миру, в конечном счете к миру общечеловеческой культуры», – отмечал Л.Н.Мурзин в своей работе, опубликованной в 1985 г. [Мурзин 1985: 11].
Единственная литературоведческая работа профессора Л.Н.Мурзина о пьесе «Гроза», написанная в 1960-е гг., стала основой для последующих размышлений ученого о природе текста (в том числе художественного), о его связях с культурой, о методологических принципах исследования, сформулированных в его статьях конца 1980 – первой половины 1990-х гг.
Методологически эта статья во многом предвосхищала герменевтические («историкофункциональные») литературоведческие исследования, которые станут популярными в российском литературоведении во второй половине 1970 – начале 1980-х гг. Л.Н.Мурзина всегда интересовало то, как в тексте выражается культура. Процесс возникновения новых текстов-интерпретаций, их функционирование, связанное с перемещением «интерпретирующего» текста из «центра» на «периферию» и наоборот, по сути составляет, с одной стороны, «бытие» культуры, с другой – является основой для создания индивидуально-неповторимых текстов, выводящих культуру на новый уровень: «…Любой текст каждый человек интерпретирует по-своему, потому что для его осмысления он создает свой, в принципе глубоко индивидуальный, неповторимый текст – текст интерпретации» [Мурзин 1985: 13].
-
1 Этой теме была посвящена кандидатская диссертация Л.Н.Мурзина «Состав и стилистические функции форм народной речи в произведении В.Шишкова “Емельян Пугачев” (Просторечно-диалектные и народно-поэтические элементы)», защищенная в Самаре (тогда – Куйбышеве) в 1963 г.
-
2 Пьеса «Гроза» в XX в. всегда вызывала у режиссеров и актеров желание предложить оригинальное прочтение спектакля. Отметим наиболее интересные полемически заостренные постановки последних десятилетий, осуществленные, например, режиссерами Генриеттой Яновской в Московском ТЮЗе, или Львом Эренбургом в Магнитогорском драматическом театре.
-
3 Этот текст в статье М. Луконина и Л. Мурзина не называется, однако он, как названные в следующем пункте многочисленные интерпретации, может присутствовать в сознании современного потенциального читателя или зрителя.
Список литературы Литературоведческая проблематика в исследованиях Л.Н.Мурзина
- Добролюбов А.Н. Луч света в темном царстве ("Гроза". Драма в пяти действиях А.Н.Островского)//Добролюбов А.Н. Избранные философские произведения/под ред. М.Т.Иовчука. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1948. Т. 2. С. 435-522.
- Зерчанинов А.А. Русская литература: учеб. для 9 класса средней школы. М.: Учпедгиз, 1960.
- Луконин М., Мурзин Л. Характер Кулигина с точки зрения Добролюбова («Гроза» А.Н.Островского)//Ученые записки Пермского государственного университета. Пермь, 1967. Т. 155. Вопросы изучения русской литературы XIX -начала XX вв. С. 183-191.
- Мурзин Л.Н. Стилистическая роль форм народной речи в языковой характеристике Пугачева (Историческое повествование В. Шишкова «Емельян Пугачев»)//Вопросы теории и методики изучения русского языка. Казань, 1960. С. 117-129.
- Мурзин Л.Н. Текст как интерпретация текста//Отбор и организация текстового материала в системе профессионально-ориентированного обучения: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1985. С. 7-14.
- Мурзин Л.Н. Язык -текст -культура//Статус стилистики в современном языкознании. Пермь, 1990. С. 113-115.
- Мурзин Л.Н. Язык рассказа Л. Толстого «Три смерти» (Заметки и наблюдения)//Ученые записки/Бирск. пед. ин-т. Уфа, 1961. Вып. 4. С. 48-65.
- Мурзин Л.Н., Литвинова М.Н. Текст как художественное произведение: к проблеме специфики//Функциональные разновидности речи в коммуникативном аспекте: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1988. С. 122-128.
- Островский А.Н. Гроза//Островский А.Н. Полн. собр. соч./сост. А.И.Ревякин. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1960. Т. 2. Пьесы. 1956-1861. С. 210-267.
- Ревякин А.И. «Гроза» А.Н.Островского. М.: Учпедгиз, 1955.
- Фатическое поле языка (памяти профессора Л.Н.Мурзина): межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1998.