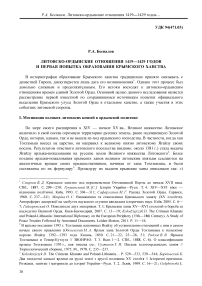Литовско-ордынские отношения 1419-1429 годов и первая попытка образования Крымского ханства
Автор: Беспалов Р.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2013 года.
Бесплатный доступ
Предпосылки к возникновению литовско-крымских отношений сформировались еще к началу правления хана Тохтамыша. Они были обусловлены тем, что в состав Великого княжества Литовского входили русские земли, которые также находились в зависимости от Крымского улуса Золотой Орды. Позже это привело к тому, что во время распада Золотой Орды великие литовские князья приняли активное участие в образовании Крымского ханства. В данном исследовании рассматривается попытка образования в Крыму независимого государства в 1420-1424 гг.
Крымское ханство, великое княжество литовское, бек-суфи, давлет-берди, борак, улу-мухаммед, витовт
Короткий адрес: https://sciup.org/14118083
IDR: 14118083 | УДК: 94(471.03)
Текст научной статьи Литовско-ордынские отношения 1419-1429 годов и первая попытка образования Крымского ханства
В историографии образование Крымского ханства традиционно принято связывать с династией Гиреев, дискутируется лишь дата его возникновения1. Однако этот процесс был довольно сложным и продолжительным. Его истоки восходят к литовско-ордынским отношениям времен единой Золотой Орды. Основной целью данного исследования является рассмотрение первой известной по сохранившимся источникам попытки официального выделения Крымского улуса Золотой Орды в отдельное ханство, а также участия в этих событиях литовской стороны.
-
I. Мотивация великих литовских князей в ордынской политике
По мере своего расширения в XIV — начале XV вв., Великое княжество Литовское включило в свой состав огромную территорию русских земель, ранее подчиненную Золотой Орде, которая, однако, так и не вышла из-под ордынского господства. В частности, когда хан Тохтамыш воссел на царство, он направил к великому князю литовскому Ягайлу своих послов. Результатом ответного литовского посольства (видимо, около 1381 г.) стала выдача Ягайлу ярлыка - пожалования на русские земли Великого княжества Литовского2. Более поздние ярлыки - пожалования крымских ханов великим литовским князьям ссылаются на аналогичные ярлыки своих предшественников, начиная от хана Тохтамыша, и были составлены по их формуляру3. Процедуру их выдачи крымские ханы описывали так: «i
panowie litewscy żądali nas i myśmy na żądanie ich to uczynili». Другими словами, ханские ярлыки - пожалования выдавались «za wielkiemi prośbami panów». В крымских ярлыках - пожалованиях описана основная суть литовско-ордынских отношений: ханы жаловали великим литовским князьям подчиненные Золотой Орде (позже Крымской Орде) русские земли (приводился их перечень), с которых литовская сторона была обязана выплачивать дань. В случае прекращения выплат татары были вправе применить силу. Важен еще один аспект этих отношений. Послами хана Тохтамыша в Литву выступали: наместник Крымского улуса, «дарага Солхата» Кутлу-Буга и сын бывшего крымского наместника Зайнутдина Рамадана (1349—1357 гг.) Хасан4. Следовательно, помимо правителей Золотой Орды и Великого княжества Литовского, вопросы литовско - ордынских отношений находились в ведении крымского наместника хана, который заведовал получением дани с подчиненной Крыму территории.
В 1386 г. Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и принял польскую корону. По договору о брачном союзе (акту Кревской унии 1385 г.) он обещал присоединить к Польше литовские и русские земли5. На великом литовском княжении в качестве наместника был оставлен Скригайло. Затем в 1392 г. литовский престол отошел к Витовту. Однако еще и в 1393 г. Тохтамыш по-прежнему поддерживал с Ягайлом установленные ранее отношения. Письмом от 28 мая через своего посла Хасана татарский хан сообщал о восстановлении своей власти в Золотой Орде, нарушенной после недавнего нападения чагатайского эмира Тимура (1391 г.), а также предписывал Ягайлу собрать и выплатить дань с известных земель, видимо, переданных ему предыдущим ярлыком - пожалованием6. А. Прохаска заметил, что Польша не платила дань татарам, следовательно, речь шла о сборе дани с русских земель Великого княжества Литовского. Ученый предположил, что для этих целей Ягайло должен был перенаправить послов к Витовту. Однако вместе с тем указал, что согласно казначейской книге королевского двора, 13 августа 1393 г. татарские послы выехали назад в Татарию, а вовсе не к Витовту7. На этом основании все же можно думать, что дань они получили именно от Ягайла.
В историографии не раз высказывалось мнение о том, что в конце XIV в. Тохтамыш выдал аналогичный ярлык-пожалование Витовту8. Реконструкцию связанных с этим событий, выполненную ранее рядом исследователей9, можно дополнить и уточнить. После очередного нападения Тимура в 1395 г. положение Тохтамыша сильно осложнилось. В степи появился новый хан Тимур-Кутлуг, который при помощи князя Едыгея согнал Тохтамыша с сарайского престола, а к началу 1397 г. вытеснил его из Крыма10. Примечательно, что в начале XVI в. дипломаты Большой Орды вспоминали о «братстве», то есть о существовании мирного договора между Ягайлом и Тимур-Кутлугом11. По свидетельству крымской стороны, этот договор сопровождался выдачей Ягайлу ярлыка-пожалования, аналогичного более поздним ярлыкам-пожалованиям крымских ханов12. Заключение этого союза в рамках сложившейся традиции литовско-ордынских отношений было возможно в том случае, если к моменту воцарения Тимур-Кутлуга Ягайло сохранял за собой или стремился вернуть себе право сбора ордынской дани в русских землях Великого княжества Литовского. В свою очередь крымская сторона противопоставляла союз Ягайла с Тимур-Кутлугом отношениям Витовта с Тохтамышем. Считалось, что Ягайло предал интересы Крыма так же, как позже их предал Казимир IV, вступивший в союз с ханом Ахматом. Позицию крымской стороны начала XVI в. можно объяснить интересами Ширинов, которые впервые пришли к власти в Крыму именно при Тохтамыше13, и которых затем не устраивала власть ставленников Едыгея и его потомков.
Согласно продолжению хроники Дитмара Любекского (1395—1400 гг.), в 1397 г. Витовт собрал литовцев и тех татар, которые еще были верны Тохтамышу, и одержал победу над его ордынскими соперниками у Каффы14. Также и по сведениям польского историка второй половины XV в. Я. Длугоша († 1480 г.) в этом году Витовт совершил «первый поход на татар». Он перешел за Дон, воевал в Поволжье и разорил главное кочевье татар, называемое «Ордой» (Дешт восточных источников)15. В ярлыках-пожалованиях крымских ханов имеются ссылки на то, что Тохтамыш приезжал к Витовту «на потном коне» (то есть, скрываясь от врагов), и пожаловал литовскому господарю русские земли16. Должно быть, пожалование могло состояться только в то время, когда Тохтамыш с помощью Витовта вернул себе власть в Сарае и в Крыму. Так право на управление русскими землями Великого княжества Литовского полностью перешло к Витовту. Весной 1398 г. польская королева Ядвига напомнила Витовту о подчинении Польше русских и литовских земель и потребовала выплаты какой-то ежегодной дани, на что получила отказ. Литовские и русские бояре заявили, что Польше они никогда ничего не платили, поэтому можно думать, что речь шла о праве Ягайла собирать ордынскую дань в русских землях Великого княжества Литовского. С приобретением ханского ярлыка в этом вопросе Витовт мог обойтись без посредников. В том же году без согласования с Ягайлом он заключил мирный договор с Немецким орденом, а на пиру бояре даже провозгласили Витовта «королем Литвы и Руси», чего, по словам немцев, никогда раньше не было17.
Кроме «первого» и «второго» походов, известных Я. Длугошу, современник событий прусский хронист И. Посильге († 1405 г.) сообщает о походе Витовта на враждебно настроенных татар в низовье Днепра еще и летом 1398 г.18 Однако вскоре Тимур-Кутлуг занял Сарай, а Тохтамыш был вынужден бежать в Киев под покровительство Витовта19. В марте 1399 г. в Немецком ордене стало известно, что Витовт заключил с татарским ханом некий договор о мире20. В Белорусской I (смоленской по происхождению) летописи сохранился наиболее ранний текст, раскрывающий мотивацию Витовта: «Поидем, пленим землю татарьскую, победимь царя Темирь-Кутлуя и возмем царство его, и посадим царя Тохтамыша, а он мя посадить на всеи Рускои земли и на том на всем»21. Речь шла о том, что в случае возвращения царского престола Тохтамышу, тот обещал Витовту выдать ярлык-пожалование или возобновить действие предыдущего ярлыка на те русские земли, которые к концу XIV в. вошли в состав Великого княжества Литовского22. Тем самым должны были возобновиться литовско-ордынские отношения, которые установились во время царствования Тохтамыша. Лишь поражение войск Витовта и Тохтамыша в «новом походе» на татар Тимур-Кутлуга в 1399 г. помешало осуществлению их планов23.
Как известно, глава рода Мангытов великий князь Едыгей был фактическим правителем Золотой Орды. Он держал при себе марионеточных лиц царского рода и поочередно возводил их на трон. С развитием нумизматики последних лет выяснилось, что в 822 г. х. (1419 г.) в Крыму чеканились монеты с именами хана Дервиша и эмира Едыгея, а затем – с именами хана Бека-Суфи и эмира Едыгея30. По сведениям Белорусской I летописи, к Витовту не раз приходили великие ордынские князья «просяще у него царя на царьство». Некогда Витовт дал ордынским старейшинам царя «именемъ Салтана», а позже дал им другого царя «именемъ Малого Солтана»31. К. К. Хромов показал, что согласно польской и русской средневековой историографии, первым «султаном»-ставленником Витовта зимой 1411— 1412 гг. стал Джелал-ад-Дин (султан Зеледин польских или Зелени-Салтан русских источников)32. По Я. Длугошу, после него на престол взошел Керим-Берди (около 1413— 1414 гг.), который нарушил мир с литовским господарем. Тогда в Вильно был коронован некий «Бетсубул», который якобы «сгинул» в борьбе с Керим-Берди33. Однако Бетсубул (Бек-Суфи) остался жив и пришел к власти в Крыму в 1419 г. Исследователь сопоставил надпись на монетах Бека-Суфи «султан сын султана» с летописным «малый Солтаном»34. С учетом имен следующих ставленников Витовта, упомянутых далее в Белорусской I летописи, отождествление К. К. Хромова следует признать справедливым. Однако вопрос о положении Бека-Суфи необходимо уточнить.
Титул «султан», «султан верховный» в мусульманских странах обозначал верховного независимого правителя (зачастую императора) и ставился перед его именем. Титул «хан», по словам Ганса Шильтбергера, соответствовал титулу «король»35, и обычно ставился после имени монарха. В джучидской традиции титулы «султан» и «хан» дополняли друг друга. Не случайно на Востоке Шильтбергер зафиксировал использование титула «король-султан». Титул «султан сын султана» имеет принципиальную особенность. Как известно, эпитеты «отец», «сын», «брат», «меньшой брат» широко использовались в дипломатике для определения старшинства в иерархических отношениях36. Судя по сведениям нумизматики, Бек-Суфи не достиг такого же могущества, как султан Джелал-ад-Дин. Согласно массариям Каффы, власть Бека-Суфи ограничилась Крымом37. Таким образом, его титул «султан сын султана» или «малый султан» указывает на подчиненное положение «Крымского султаната» в иерархии Золотой Орды.
Из-за скудности источников и известной чехарды ханской власти нет ясности, кто царствовал в столице Золотой Орды в 1419 г. после смерти Дервиша. Это явно не мог быть Бек-Суфи, занимавший положение «малого султана» в Крыму. В этой связи интересны несколько смутные воспоминания Ганса Шильтбергера о том, что накануне падения власти Едыгея на сарайском престоле был Чекре, в плену у которого находился сам Шильтбергер: «Едигей сделал моего господина Чегру королем, как и обещал ему, и тот был королем около восьми месяцев. Тогда пришел некто, по имени Мухаммед и сражался с Чегрой и Едигеем; и Чегра бежал в страну, называемую Дешт-и-Кипчак, и Едигей был схвачен, и Мухаммед стал королем» 38. По сведениям нумизматики, Чекре был сарайским ханом около 1413—1415 гг. — более восьми месяцев. Однако Шильтбергер не упоминает о том, что после изгнания Чекре (в 1415—1418 гг.), на ордынском престоле побывали многие другие ханы (Джаббар-Берди, Сеид-Ахмед I, Дервиш) 39, хотя далее излагает довольно связанный рассказ. Поэтому можно предположить, что Шильтбергер пишет не о первом, а о втором периоде царствования хана Чекре в Сарае в 1419 г., не упомянутом в других известных источниках. Его же свидетельство о победе Мухаммед-хана над Едыгеем заслуживает особого внимания.
По сведениям ал-Айни, в 822 г. х. (1419 г.) на Едыгея пошел войной сын Тохтамыша Кадыр-Бирди. В земле мангытов на реке Илек (Урал) между ними произошла большая битва, в которой Кадыр-Бирди погиб, а Едыгей был ранен и бежал. Однако вскоре Едыгей был выдан одним из своих приближенных, а затем убит сторонниками Кадыр-Бирди, после чего Дештом стал править Мухаммед-хан40. Как заметил М. А. Усманов, до деталей схожую историю гибели Кадыр-Бирди и Едыгея на рубеже XVI—XVII вв. записал выходец из Сибирского ханства Кадыр Али-бек, который добавил, что раненого Едыгея выдал некий
Хасан сын Ичкили. Допуская неточность позднего историка, М. А. Усманов сопоставил этого Хасана с реальным персонажем джучидских генеалогий Ичкили-Хасаном — отцом Мухаммеда, впоследствии известного под именем Улу-Мухаммед41. В другом месте своего повествования Кадыр Али-бек называет врагов, убивших Едыгея — это Барын и Сарай. Здесь М. А. Усманов тоже усматривал неточность, поскольку согласно крымской версии эпоса о Едыгее, его убили татарские мирзы Барын и Ширин (слова «Сарай» и «Ширин» близки по написанию арабскими буквами)42. Впрочем, ранее в окружении Едыгея действительно был князь Сарай, сын Урусаха, из рода Ширинов, а позже его сын Усейн Сараевич служил хану Улу-Мухаммеду43. Можно думать, что в результате военных действий Ичкили-Хасан погиб, поэтому Ширины и Барыны сделали ставку на его сына Мухаммеда. Легенда о том, как Улу-Мухаммеду удалось извести Едыгея отразилась и в турецкой историографии середины XVIII в.44
-
III. Новые претенденты на сарайский трон и проблема множества Мухаммедов
Для нас личность Улу-Мухаммеда важна тем, что вскоре он стал претендовать не только на Сарай, но и на Крым. В этой связи он стал активным участником литовско-ордынских отношений. Реконструкция интересующих нас событий осложнена тем, что в рассматриваемый период времени действовало несколько Мухаммедов царского рода, которые претендовали на сарайский престол. В весьма поздних повествовательных источниках они сливаются воедино и с трудом идентифицируются. Не менее сложна и проблема достоверности сохранившихся сведений.
Например, не ранее 1457 г. было составлено «Родословие тюрков», которое затем в первой четверти XVI в. использовал тимуридский историк Хондемир. По нему, после Дервиша правил некий Мухаммед (831 г. х.). Затем якобы уже после смерти последнего правил Давлет-Берди б. Таш-Тимур, затем Борак, затем Гийас ад-Дин б. Шадибек, затем Мухаммед б. Тимур (861 г. х.)45. Исходя из более достоверных источников, о которых пойдет речь далее, вполне очевидно, что анахронизм дат и последовательность событий, изложенная в «Родословии тюрков», не добавляют к ней доверия.
По легенде Кадыр Али-бека, накануне упомянутого выше сражения, Едыгей привлек на свою сторону царевича Хаджи-Мухаммеда (из династии Шибанидов) и обещал ему ханство. После смерти Едыгея его сын Мансур некогда якобы выполнил обещание отца – возвел Хаджи-Мухаммеда на престол, а сам сделался его беком46. Однако по сведениям Абд ал-Гаффара Кырыми (середины XVIII в.), у Мансура были другие кандидаты на сарайский престол. Наследник Едыгея посадил царствовать на Идиль-реке (Волге) Гийас ад-Дина (сына Шадибека), который изгнал Улу-Мухаммеда в Крым. Гийас ад-Дин умер по одним сведениям через два с половиной, а по другим – через полтора года47. Затем Мансур выдвинул на царство еще малолетнего Кучук-Мухаммеда б. Тимура б. Тимур-Кутлуга (Кичи-Махмета русских источников), но в итоге склонился на сторону царевича Борака48, также имевшего власть в отдаленных восточных областях Золотой Орды49. К сожалению, о постоянстве и о полноте власти ставленников Мансура известно крайне мало.
Тема междоусобных войн восточных царевичей и их борьбы за сарайский престол активно обсуждается в последнее время и выходит за рамки данного исследования50. Однако в связи с проблемой множества Мухаммедов необходимо наметить пути надежной идентификации хана Улу-Мухаммеда в источниках. В отличие от восточных царевичей его семейство опиралось на Ширинов и Барынов, имевших наибольшую власть в западной части Золотой Орды, и в частности — в Крыму. Следовательно, появление в источниках рядом с ханом Мухаммедом представителей этих родов или других известных его слуг является одним из аргументов для его идентификации, как Улу-Мухаммеда.
По сведениям Бадр-ад-Дина ал-Айни и Абд ар-раззака Самарканди, в 824—826 гг. х. (1421—1423 гг.) государем Дешта был «Мухаммед-хан»51. Ж. М. Сабитов, вслед за некоторыми своими предшественниками, отождествил этого Мухаммед-хана с Шибанидом Хаджи-Мухаммедом52. Однако сложности такого сопоставления обнаруживаются уже при первом взгляде на проблему. Так, шибанидский историк середины XVI в. Утемиш-Хаджи вовсе не упомянул о связи Хаджи-Мухаммеда с сарайским престолом53. Рассказ же Кадыр Али-бека можно понять и таким образом, что союз Хаджи-Мухаммеда с Мансуром состоялся лишь накануне гибели обоих от рук Борака, то есть к 832 г. х. (окт. 1428 — сен. 1429 гг.).
Более весомым аргументом являются текстологические наблюдения. В своем рассказе о Хаджи-Мухаммеде Кадыр Али-бек ссылается на «сказания узбеков»54. Как установил сам Ж. М. Сабитов, в XV в. этнонима «узбеки» еще не существовало, но так в Тимуридском государстве назывались татары55. В таком случае следует полагать, что сведения Кадыр Алибека восходят к сведениям тимуридских историков, полученных теми от «узбеков» (татар). Абд ар-раззак Самарканди заимствовал свои сведения о Мухаммед-хане из хроники, составленной придворным историком Шахруха (сына Тимура) Хафизом-и Абру († 1430 г.) не позднее 830 г. х. (нояб. 1426 г. — окт. 1427 г.). В том же году предположительно тем же Хафизом-и Абру была составлена генеалогическая роспись Муизз ал-ансаб, в которой упомянут «Хаджи-Мухаммед-оглан»56. То есть при дворе Шахруха не путали оглана (царевича) Хаджи-Мухаммеда с каким-либо ханом (царем) Мухаммедом. В первой четверти XVI в. тимуридский историк Хондемир тоже знал «Хаджи-Мухаммеда» именно под таким именем57. Следовательно, нет оснований для сопоставления «Мухаммеда» тимуридских источников с «Хаджи-Мухаммедом» тимуридских источников и вытекающего из них рассказа Кадыр Али-бека.
Поиски хана Мухаммеда начала 1420-х гг. сужаются до двух персонажей: Улу-Мухаммеда и малолетнего Кичи-Мухаммеда. Обратим внимание на известную в историографии жалованную грамоту некого «султана правосудного Мухаммед-хана», выданную одному из крымских князей в середине апреля 1420 г.58 Она была написана, «когда Орда находилась в благословенном Крыму». Следовательно, пребывавший в Крыму хан Мухаммед позиционировал себя в качестве правителя Орды. В записях массарии Каффы 1420-х гг., перенявших терминологию того времени, сохранились наименования правителя Орды: «император Орды великой Татарии», «император Татарии великой Орды»,
«император великой Орды»59. Так титуловался только правитель Дешта со столицей в Сарае. К жалованной грамоте приложена квадратная печать с изображением тарак-тамги. Такая же тамга отмечена на печати хана Улу-Мухаммеда, приложенной к его письму турецкому султану Мураду II 1428 г., на печатях крымских ханов60, а также – на новом типе монет хана Мухаммеда (Улу-Мухаммеда), исследуемых А. А. Казаровым, и на более поздних монетах крымских ханов61. К сожалению, вопрос о ее использовании изучен еще недостаточно. Например, схожее изображение имеется на булгарских монетах Гийас ад-Дина и Улу-Мухаммеда62.
Вопрос об идентификации правителя Дешта начала 1420-х гг. может разрешиться, если установить личности его послов Алим-Шейх-оглана и Пулада, направленных к правителю Тимуридского государства Шахруху в 1422 г.63 В попытке решить эту задачу исследователи еще не использовали массарии Каффы, по которым в начале 1424 г. послом хана Улу-Мухаммеда (Macomet-cam) в Каффу был некий Пулад (Polat)64. Несмотря на распространенность имен Мухаммед и Пулад, наличие у некого хана Мухаммеда посла по имени Пулад представляется гораздо более редким явлением, что существенно повышает надежность их идентификации в тимуридских источниках под 1421—1423 гг. В этой связи можно думать, что с 1420 г., возможно, с некоторыми перерывами, возникавшими из-за развернувшейся борьбы за сарайский трон, именно Улу-Мухаммед был правителем великой Орды (Дешта). К сожалению, неизвестно как складывались его отношения «малым султаном» Крыма и с великим князем литовским в 1419—1420 гг.
-
IV. Образование Крымского ханства и первые крымские ханы
С августа 1420 г. в массариях Каффы упоминается Бек-Суфи с титулом «императора Солхата». В письменных источниках это первое свидетельство об образовании особого Крымского ханства. В этом и в следующем году к Беку-Суфи не раз приезжали послы от Витовта65. От имени Бека-Суфи чеканились крымские монеты, с датой 822—825 гг. х. (1419—1422 гг.)66. На некоторых из них вместо прежнего титула «султан сын султана» появляется более высокий и суверенный титул «султан». В зависимых от Крыма и плативших ему дань территориях сложилась особая монетарная политика. К. Десимони впервые установил, что начиная с 1420 г. в массариях Каффы содержатся записи об издержках «на починку и покупку железных инструментов для монетного двора»67. На монетном дворе в Каффе стали выпускаться двуименные татаро-генуэзские аспры. Первоначально они несли на одной стороне имя хана Бека-Суфи, а на другой — герб Генуи и регалии ее правителя68. Кроме того, исследования В. В. Зайцева, а также Ю. Л. Борейши и А. А. Казарова показали, что именно с начала 1420-х гг. в русских землях Великого княжества Литовского джучидские монеты стали надчеканиваться знаком «колюмны»69. Думается, что появление этих монет не случайно. Хронологически оно совпадает с
образованием особого Крымского государства и может быть связано со сложившейся системой вассалитетов и субвассалитетов.
Монеты с именем Бека-Суфи, датированные 1422 г. (825 г. х.), не дают уверенного свидетельства для датировки его смерти из-за смешения штемпелей его монет со штемпелями монет следующего хана. Судя по массариям Каффы, Бек-Суфи был жив еще 28 июня 1421 г. 70 К середине сентября 1421 г. в Крым прибыл бургундский дипломат Жильбер де Ланнуа 71. К его приезду умер «друг Витовта», который носил титул «император Солхата». Очевидно, имеется в виду Бек-Суфи. С освобождением крымского трона местные татары вступили в спор о назначении нового императора с татарами великого хана, императора Орды 72. По сведениям Белорусской I летописи, после смерти «малого Салтана» ордынские князья (очевидно, представители крымской знати) в очередной раз послали к Витовту «и просися у него царя. Он же да имъ иного царя, именемъ Давлад-Бердия»73. В массариях Каффы под 12 декабря 1422 г. и 26 марта 1423 г. упомянут император, имя которого не названо. Затем под 28 мая, 13 и 28 июня 1423 г. императором назван «Dolatberdi»74.
Новый правитель Крыма был полным преемником Бека-Суфи. В частности, у него на службе находился господин Солхата Тенгриберди, который служил еще Едыгею, затем Беку-Суфи и имел сношения с послами Витовта75. В массариях Каффы Давлет-Берди назывался просто «императором», но делалось это для упрощения письма. Титул «император Солхата» уже прочно вошел в генуэзскую дипломатическую переписку. В частности, 1 февраля 1424 г. губернатор Генуи (Франческо Буссоне) писал консулу и чиновникам Каффы: «в настоящее время и пока мы ясно видим, вы будете в мире с императором Солхата»76. Сам факт избрания Давлета-Берди на царство говорит о том, что солхатцы позиционировали Крым в качестве особого государства. Они претендовали на очень большое наследие. Политическое влияние Крыма уже давно не ограничивалось территорией одноименного полуострова. В частности, денежный рынок крымских монет Бека-Суфи и Давлета-Берди распространялся на пограничные земли Великого княжества Литовского, а на севере доходил до верховьев Оки77.
На крымских монетах Давлета-Берди был начертан титул «султана». Они чеканились с датой 824—825 гг. х. (1421—1422 гг.). Однако штемпели обратных сторон этих монет с нанесенной на них датой ранее использовались еще при чеканке монет с именем Бека-Суфи. Также известны монеты, одна сторона которых была чеканена лицевым штемпелем с именем Бека-Суфи, а другая сторона — лицевым штемпелем с именем Давлета-Берди78. В частной переписке исследователь этих монет К. К. Хромов пояснил, что монеты переходных типов довольно редки. Основная масса монет Давлета-Берди приходится на 825 г. х. (1422 г.), но их известно на порядок меньше, чем более ранних монет Бека-Суфи. Таким образом, нумизматические данные не дают возможности уточнить время прихода к власти Давлета-Берди. Его можно датировать лишь приблизительно периодом с осени 1421 г. до конца 1422 г. Пока не выявлено ни одной крымской монеты Давлета-Берди 1423 г. (826 г. х.) и более поздней, когда он достоверно занимал крымский престол. Это обстоятельство заставляет сомневаться в устойчивости его власти.
-
V. Борьба сарайских ханов за влияние в Крыму в 1423—1424 гг.
17 мая 1423 г. в Каффу прибыли гонцы, которые принесли какую-то новость об императоре Орды (Дешта). Ни его имя, ни сама новость в опубликованном источнике не приведены79. Можно лишь заметить, что это было время борьбы Борака и его сподвижника Мансура с великим ханом Улу-Мухаммедом за сарайский трон. Судя по сведениям Абд-ар-раззака Самаркани, Борак захватил «Орду Мухаммед-хана» к весне 1423 г.80 Примечательно, что 27 марта 1423 г. в Каффе пребывал некий господин Солхата Сеит Мансур (Sait Mansor). Затем 27 июля того же года ему был сделан подарок81. Не следует ли сопоставить Сеита Мансура с сыном Едыгея? Ведь отпрыски Едыгея позиционировали себя в качестве потомков одного из первых сподвижников пророка Мухаммеда, представителей святого рода — «сеитов»82. В последнее время выявлена редкая крымская монета, на которой
В. П. Лебедев прочитал имя хана Борака. Однако ее датировка остается под вопросом83. Во всяком случае, в это время в Каффе «императором» называли Давлета-Берди. Его титул отличали от титула «великого императора Орды», а сам Давлет-Берди, судя по всему, мирно соседствовал с сеитом Мансуром, который был одним из старших князей (господ Солхата), представлявших свой род в иерархии крымской власти.
Вскоре Бораку и Мансуру пришлось отступить. В 1423 г. в Египет пришло сообщение, согласно которому, «государем земель Дештских, столица которых Сарай, был султан Мухамед-хан»84. Именно этот император великой Орды стал стремиться сместить Давлета-Берди с крымского престола. 18 октября, 9 и 22 ноября, 16 и 20 декабря 1423 г. в массариях Каффы упомянуты лица, пришедшие в Каффу от «господина императора Татарии», имя которого не названо. Тем не менее, его личность можно установить. 18 октября в Каффе пребывал господин Солхата Католло (Catollo), который затем 1 января 1424 г. снова прибыл в Каффу в качестве посла «господина императора Татарии великой Орды Мухаммед-хана»85. Под 16 декабря 1423 г. упомянут господин Солхата, посланный императором. В этот же день «Taulacberdi» (Давлет-Берди) упомянут уже без титула в качестве «брата императора»86. Согласно Муизз ал-ансаб, Давлет-Берди б. Баш-Тимур, б. Джаниса приходился двоюродным братом Мухаммеду б. Хасан, б. Джаниса (Улу-Мухаммеду)87. Очевидно к середине октября 1423 г. Давлет-Берди был смещен с крымского престола, но поскольку в конце года он все еще находился в Крыму, можно думать, что его отстранение от власти произошло мирным путем. С 1 по 7 января 1424 г. в Каффе его послам и дарагам «императора Орды великой Татарии Мухаммед-хана» преподносились подарки, а в Солхате находился представитель великого императора. Однако Давлет-Берди, видимо, не смирился с потерей власти. 11 января из Солхата в Каффу пришла весть о том, что недавно он снова был избран императором88.
Должно быть, Давлет-Берди рассчитывал на помощь своих прежних союзников, но планы Витовта к этому времени существенно изменились. По Белорусской I летописи, «Давлад-Бердию немного время побывши». Когда Витовт находился в Киеве, некие ордынские старейшины (видимо, противники Давлета-Берди), пришли к литовскому господарю и тоже просили царя, «он же дал им царя именем Магмета»89. Примечательно, что упоминая об отношениях Витовта с ордынскими князьями, Белорусская I летопись каждый раз фактически говорит о его отношениях с крымской знатью. Нового претендента на крымский престол уверенно можно отождествить с Улу-Мухаммедом – великим императором Орды. Согласно поздней легенде крымских Ширинов, хан Улуг-Мегмет Гирей пришел к власти
(был избран) при помощи главы их рода великого князя Тегене90. Эта легенда подтверждается и ранними источниками. Тегене (Тягиня русских источников) был двоюродным или троюродным братом князя Сарая, который по Кадыр Али-беку участвовал в казни Едыгея 91. В начале января 1424 г. именно Тегене-бей (Tegen-bi) был представителем императора великой Орды Мухаммед-хана (Macomet-cam) в Крыму92.
Точная дата киевской встречи Ширинов с Витовтом не сохранилась. Возможно, она состоялась еще во второй половине 1423 г. и предполагала мирное отрешение Давлета-Берди от власти, но затем его мятеж потребовал силовых действий. 12 июня 1424 г. в Каффу пришло известие о наступлении хана Улу-Мухаммеда (Macomet-cam) и бегстве хана Давлета-Берди. Когда же Улу-Мухаммед занял Крым, солхатцы избрали его своим императором93. В письме гроссмейстеру Немецкого ордена Павлу фон Русдорффу от 22 июня 1424 г. Витовт сообщал: «татарский царь по имени Махмет, наш друг, теперь, что вполне достоверно, полную власть вместе со всем царством из нашей земли занял и овладел; и теперь у нас пребывает его почтенное посольство; и в течение короткого времени пошлет к нам своего единственного сына с некоторыми господами из царского рода и именитыми князьями, усердно благодаря нас за наше содействие и помощь, которую мы ему из нашей страны для [завоевания] царства осуществили и оказали»94. Должно быть, под «всем царством» Витовт понимал полноту власти великого хана Улу-Мухаммеда, которая была достигнута подчинением ему Крыма.
Необходимо подчеркнуть важную особенность сложившейся ситуации. В массариях Каффы речь идет о том, что императора великой Орды солхатцы избрали своим императором и тем самым преподнесли ему второй императорский титул! По сути, Крымское ханство (малый султанат) оказалось в подчинении великого сарайского хана (султана) Улу-Мухаммеда, но особый статус Крыма сохранился.
VI. Борьба хана Улу-Мухаммеда за Сарай и Крым в 1425—1428 гг.
Успех Улу-Мухаммеда был очень значительным, но осуществление его планов по объединению Золотой Орды продвигалось непросто. С востока ему снова стал угрожать царевич Борак, объединившийся с Мансуром. В сочинении тимуридского историка Мирхонда († 1498 г.) сохранилось известие о том, что зимой 828 г. х. (видимо, в конце 1424 г.) к маверанахрскому мирзе Улугбеку (сыну Шахруха), находившемуся на реке Сырдарье, пришло сообщение от Борака, который незадолго до этого воссел на престол в Дешт-и-Кипчаке95. Краткое сообщение о завоевании Бораком «орды Мухаммед-хана» под тем же 828 г. х. также сохранилось у другого тимуридского историка Абд-ар-раззака Самарканди96. Сведения о двух нападениях Борака отразились и в сочинении Ганса Шильтбергера, который в это время находился при дворе бывшего хана Чекре «в некоей стране, называемой Дешт-и-Кипчак»: «Пришел некто по имени Борак, изгнал Мухаммеда и стал королем. И затем Мухаммед собрался [с силами] и изгнал Борака, и снова стал королем. Затем пришел некто по имени Давлет-Берди, изгнал Мухаммеда и стал королем, и был королем только три дня. Затем пришел вышеназванный Борак, изгнал Давлета-Берди и снова стал королем»97.
Свидетельство о кратковременном царствовании Давлета-Берди вызывает ряд вопросов. Имел ли он силы для «изгнания» Улу-Мухаммеда из Сарая, если ранее не мог удержать за собой даже Крым? Разве что он занял Сарай, пока великий хан был отвлечен на борьбу с Бораком? Вспоминая о пребывании некого сеита Мансура у Давлета-Берди в Крыму в марте и июле 1423 г., стоит задаться вопросом: не объединялись ли тогда Борак и Давлет-Берди для борьбы с Улу-Мухаммедом? Во второй раз эта пара вновь появляется вместе. По массариям Каффы выходит, что после изгнания Давлета-Берди из Крыма (июнь 1424 г.) Улу-Мухаммед ушел в Сарай. Однако к концу августа Давлет-Берди снова занял Крым 98. Затем, судя по запискам Шильтбергера, Давлет-Берди пошел войной на Сарай, после чего столица великой Орды перешла в руки хана Борака. Не исключено, что их почти одновременное нападение на Сарай было согласовано и хорошо спланировано.
Степи, лежащие к западу от Волги, пришли в расстройство. Осенью потерпевший поражение от Борака хан Куйдадат (двоюродный брат Улу-Мухаммеда и Давлета-Берди) напал на Новосильско-Одоевское княжество и восточные окраины Великого княжества Литовского (Тулу и ее окрестности), где был разбит войсками коалиции феодалов Верхнего Поочья99. Тем временем Улу-Мухаммед был вынужден укрыться у своего союзника Витовта. В письме гроссмейстеру Немецкого ордена от 1 января 1425 г. Витовт писал: «мы даем Вам знать, что империя в Татарии находится в таком большом раздоре и разделении, что теперь там пребывают шесть благородных царей, каждый добивается царства и наследует [его]. Один из тех самых царей по имени Махмет пребывает у нас, а другие живут там, в земле, один в одном месте, другой в другом, так как их страна особенно большая и обширная»100.
По неопубликованным сведениям массарий Каффы А. Л. Пономарев установил, что весной следующего года Улу-Мухаммед снова возвратился в Крым, и 14 мая 1425 г. солхатцы признали его императором101. Затем он вновь включился в борьбу за первенство в Деште. Согласно летописи ал-Айни, в 828 г. х. (нояб. 1424 — нояб. 1425 гг.) в подчиненных Сараю землях происходила «великая неурядица, вследствие отсутствия старшего, который бы взялся за дела; одерживало там верх несколько знатных лиц из рода ханского и других. Каждый из них правил своим краем и ни у одного из них дело не шло на лад, как бы следовало, но перевес между ними одерживал Мухаммедхан»102. Поскольку осенью-зимой 1424—1425 гг. Улу-Мухаммеда еще не было в Деште, то с поправкой на путь до Египта это сообщение следует датировать приблизительно весной–летом 1425 г. В ноябре 1425 г. Улу-Мухаммед находился в Крыму103. В следующем 829 г. х. (должно быть, весной 1426 г.) он сразился с Бораком и Мансуром и обратил их в бегство104. При этом, видимо, распространились слухи о гибели Борака, которые были зафиксированы Гансом Шильтбергером в качестве якобы установленного факта. Вскоре господин Шильтбергера Чекре тоже пошел войной на хана Мухаммеда, но потерпел поражение и был убит105.
Восточные дела сильно отвлекали Улу-Мухаммеда от Крыма. Весной 1426 г. сюда снова прибыл Давлет-Берди. Впрочем, положение последнего было очень шатким. Он стремился возобновить отношения с Витовтом и заручиться его поддержкой, однако, видимо, не имел с ним прямого сообщения. На основании более поздних источников можно предположить, что сухопутная дорога из Крыма в Великое княжество Литовское была блокирована крымскими сторонниками Улу-Мухаммеда. Она проходила через ту область на Днепре, где к концу XV в. располагался Тягинин городок106. По всей видимости, он получил название по имени своего первого владельца главы рода Ширинов великого князя Тегене (Тягини) — главного сторонника Улу-Мухаммеда в Крыму. 2 мая 1426 г. в Каффе Ованес — священник церкви Святого Франциска в качестве посредника написал рекомендательное письмо Витовту о том, что император Давлет-Берди вступил в Солхат и пребывает там, взывая к его милости; что ранее только по навету плохих людей он действовал вопреки литовскому господарю107. Однако, несмотря на попытки Давлета-Берди завязать переговоры с Витовтом, тот оставался верным союзу с Улу-Мухаммедом, и в августе того же года даже использовал его войска в походе на Псковскую землю108. К сожалению, не ясно, где в это время находился сам Улу-Мухаммед, который, видимо, не принимал участия в Псковском походе.
Зиму 1426—1427 гг. великий хан провел в низовьях Днепра109. Думается, это был удачный плацдарм для похода на Крым. Не позднее осени 1426 г. хан Давлет-Берди направил из Крыма в Египет послание, которое прибыло ко двору султана в марте 1427 г.
Доставивший письмо сообщил, что «в землях Дештских большая неурядица и что три царя оспаривают царство друг у друга; один из них, по имени Даулетбирди, овладел Крымом и прилегающим к нему краем; другой, Мухаммедхан, завладел Сараем и принадлежащими ему землями, а третий, по имени Борак, занял земли, граничащие с землями Тимурленка»110. К тому времени эти сведения устарели, поскольку в «прилегающем к Крыму крае» (в низовьях Днепра) уже определенно находился Улу-Мухаммед. В письме гроссмейстеру Немецкого ордена от 17 марта 1427 г. Витовт сообщал: «теперь в Татарской степи пять ханов, особенный тот, который с нашей помощью завладел Ордой (победил Орду), и [его] сын теперь у нас, тот могущественный, и держит Орду с силой»111. Очевидно, имелся в виду Улу-Мухаммед. Выше на примере сведений Белорусской I летописи и письма Витовта от 22 июня 1424 г. было показано, что в предыдущих случаях литовские источники, хотя вроде бы и сообщали об ордынских событиях вообще, но на самом деле повествовали о том, как Витовт помогал «своим» ханам именно в крымских делах112. Это важное свойство источников литовского происхождения не было замечено предыдущими исследователями. На его основании можно полагать, что к марту 1427 г. Улу-Мухаммед с литовской помощью вновь овладел Крымом, и это был удачный момент для посольства его сына в Литву.
Летом 1427 г. во время поездки по русским землям Великого княжества Литовского по пути в Смоленск Витовт снова встречался с послами татарского императора113. В августе 1428 г. в Смоленске был окончен сохранившийся до наших дней список Слов Исаака Сирина. В рукопись также был переписан текст, который в более поздней летописной традиции получил название «Похвала Витовту». В нем сообщается, что Витовту служили многие независимые от великого литовского княжения государи, «и тако же слоужаху емоу и въсточные великии ц(а)ри татарьскии»114. Не случайно именно смоленское летописание середины XV в., отразившееся в Белорусской I летописи, включило в себя список «Похвалы Витовту», по окончании которого раскрыт перечень этих «великих татарских царей» и описаны обстоятельства их воцарения.
Зиму 1427—1428 гг. Улу-Мухаммед вновь провел в низовьях Днепра115. Его соперник Давлет-Берди был человеком, склонным к псевдоучености116, и при этом, видимо, весьма недальновидным, поскольку в свое время не уберег дружбу с Витовтом. По большей части он спасался от Улу-Мухаммеда бегством, и имел силы лишь на то, чтобы время от времени занимать пустующий трон. Тем не менее, он опирался на какую-то часть татарской знати, которая делала на него ставку. В 831 г. х. (окт. 1427 г. — окт. 1428 г.) он чеканил монету в Хаджи-Тархане 117. На основании сведений нумизматики еще А. Г. Мухамадиев выявил факт борьбы между Давлетом-Берди и Улу-Мухаммедом в 1420-х гг. В том числе, она протекала в области нелокализованных монетных дворов, чеканивших монету по сарайской весовой норме118. Однако в Крым Давлет-Берди больше не вернулся. Интересно, что прежде губернатор Генуи рекомендовал консулу и чиновникам Каффы жить в мире с императором Солхата и стремиться устранять все поводы для скандалов и войн119. Давлет-Берди мог пользоваться этим, и находил в Каффе помощь и поддержку. Может быть, именно в этой связи в конце 1420-х гг. отношения Каффы с Улу-Мухаммедом и Витовтом существенно осложнились, и чуть было не переросли в открытую вражду120. В скором времени Давлет-Берди окончательно сошел с политической сцены. По сведениям ал-Айни, к концу 1428 г.
Улу-Мухаммед вновь стал «государем Дешта и Крыма»121. 9 сентября 1429 г. Витовт писал гроссмейстеру Немецкого ордена: «из новых известий извольте знать, как мы сообщали вам с вашими послами, что царь Махмет, наш друг, написал нам, что он теперь обладает всем царством и Ордой, об этом он нам также (вторично) сообщил через свое подобающее посольство»122.
* * *
В итоге можно заключить, что мотивация Витовта в его ордынской политике была основана на отстаивании своего права на управление русскими землями, вошедшими в состав Великого княжества Литовского, но административно подчиненными Крымскому улусу Золотой Орды. Еще в конце XIV в. союз с Тохтамышем позволил Витовту освободиться от влияния в этом вопросе польской короны. В 1420-х гг. литовский господарь продолжал бороться за политическое влияние в Крыму, однако обособление Крымского улуса для него, видимо, не было самоцелью. К 1419 г. Крым выделился в особый султанат. В его главе стал джучид, который носил титул «султан сын султана» (иначе «малый султан») и подчинялся султану (великому хану) великой Орды (Дешта). Впрочем, подчиненное положение Крыма было возможно только при наличии сильной и устойчивой власти в Сарае. В 1420 г. укрепление крымского суверенитета стало возможным, видимо, вследствие столичных смут, а также вследствие разрастания местного сепаратизма, который, однако, поддерживался лишь частью крымской знати. В свою очередь хан великой Орды стал стремиться вернуть Крым в свое подчинение или утвердить там удобную для себя власть. Так в Крыму в очередной раз пересеклись интересы Великого княжества Литовского и великой Орды (Дешта).
Во время правления хана Бека-Суфи литовско-крымские отношения развивались успешно, но с приходом к власти хана Давлета-Берди в Крыму стали происходить неурядицы. Отчасти они были связаны с усилением партии великого хана Улу-Мухаммеда, а отчасти с внутренней борьбой крымской знати за власть. По всей видимости, Давлет-Берди стал искать союзников для борьбы с Улу-Мухаммедом, и, вероятно, нашел их в лице Борака и Мансура. Во всяком случае, его самовольные действия перестали соответствовать надеждам Витовта. Тем более литовской стороной не приветствовалось появление в Крыму такого постороннего и непредвиденного хана, как Борак. Основой успеха великого хана Улу-Мухаммеда в Крыму стали: его союз с Витовтом и поддержка, полученная им от некоторых представителей крымской знати, главным образом от Ширинов во главе с великим князем Тегене, а также от Барынов. Казалось бы, в западной части Золотой Орды дипломатическое и военное преимущество оказалось на стороне Улу-Мухаммеда, но в то же время ему постоянно угрожали восточные претенденты на сарайский трон. По этой причине осуществление планов Улу-Мухаммеда по объединению Дешта и Крыма под своей властью растянулось на несколько лет. В итоге Витовт, видимо, получил ярлык - пожалование на русские земли Великого княжества Литовского не от особого крымского хана (малого султана, стремившегося стать самостоятельным султаном), а от хана великой Орды (султана) Улу-Мухаммеда, овладевшего «малым султанатом» Крымом123. По своему статусу этот предполагаемый ярлык был равен аналогичному ярлыку хана Тохтамыша 1397 г.
Судя по Белорусской I летописи, в Великом княжестве Литовском первые крымские ханы считались ставленниками Витовта. Действительно, его успехи можно сопоставить с прежними достижениями Едыгея. Литовскому господарю удалось достичь того, что в Крыму «свои» ханы в конечном итоге побеждали, а «чужие» непременно терпели поражение. Однако он вполне осознавал величие ханской власти, от которой получал право на управление «Русской землей». Поддерживая одного из кандидатов на трон, он мог рассчитывать на дружественные отношения с ним в будущем. При этом согласно сохранившимся ярлыкам крымских ханов, литовская сторона, видимо, по-прежнему была обязана выплачивать в Крым обычную дань с русских земель Великого княжества Литовского. Отказ от выплат на законных основаниях вел к суровым санкциям со стороны татар. Так закладывались основы для будущего развития литовско-крымских отношений и для дальнейшего обособления Крымской Орды под властью сына Бека-Суфи — Сеид-Ахмеда II, а затем и преемника Улу-Мухаммеда в Крыму – Хаджи Гирея124.
Резюме
Список литературы Литовско-ордынские отношения 1419-1429 годов и первая попытка образования Крымского ханства
- Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVII века. СПб., 1887. С. 209-250
- Грушевський М. [С.] Iсторiя України-Руси. Т. 4: XIV-XVI вiки -вiдносини полїтичш. Київ, 1993. С. 304-311
- Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960. С. 237-241
- Маврiна О. С. Виникнення та становлення Кримського ханату (XV столiття). Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата iсторичних наук. Київ, 2005. С. 6-7
- Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. I: Крымские ханы XV-XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. Киев-Бахчисарай, 2007. С. 13-19
- Kolodziejczyk D. The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th-18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents. Leiden-Boston, 2011. P. 11-16.
- Оболенский М. А. Ярлык хана Золотой Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392-1393 года. Казань, 1850. С. 21-22, 25-26, 51
- Радлов В. В. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга//ЗВОИРАО. Т. 3. Вып. 1-2. СПб., 1888. С. 6).
- Султанов Т. И. Письма золотоордынских ханов//Тюркологический сборник, 1975. М., 1978. С. 235-237.
- Kolodziejczyk D. The Crimean Khanate and Poland-Lithuania. P. 529-533, 539-544
- Барвiньский Б. Два загадочнi ханьскi ярлики на рускi землi з другої половини ХV столїтя//Iсторичнi причинки. Розвiдки, замiтки i материяли до iсториї України-Руси. Т. 2. Львiв, 1909. С. 16-21
- Gołębiowski Ł. Dzieje Polski za panowania Jagiełłonow. Т. 3: Dzieje Polski za panowania Kaźmiera, Jana Olbrachta i Alexandra. Warszawa, 1848. S. 230-233.
- Григорьев А. П., Григорьев В. П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции. СПб., 2002. С. 173-174
- Григорьев А. П. Золотоордынские ярлыки: поиск и интерпретация//Тюркологический сборник, 2005. М., 2006. С. 86-87
- Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XVе siècle. T. I./Publiés par N. Jorga. Paris, 1899. P. 15
- Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды в переводах В. Г. Тизенгаузена. М., 2003. С. 203
- ИКАИ. Т. 1. Алматы, 2005. С. 325.
- Барбашев А. И. Витовт и его политика до Грюнвальдской битвы (1410 г.). СПб., 1885. С. 32-33
- Kolankowski L. Dzieje Wielkiego Ksiçstwa Litewskiego za Jagiellonow. T. 1. Warszawa, 1930. S. 32-34.
- Оболенский М. А. Ярлык хана Золотой Орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392-1393 года. С. 51
- Радлов В. В. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга. С. 6.
- Prochaska A. Z Witoldowych dziejow//Przegld historyczny. T. XV. Zesz. 3. Warszawa, 1912. S. 262-263
- Rachunki dworu krola Wtadystawa Jagiehy i krolowej Jadwigi z lat 1388 do 1420. Krakow, 1896. S. 162.
- Грушевський М. [С.] Iсторiя України-Руси. Т. 4. С. 85-87, 457-462
- Петрунь Ф. [Е.] Ханськi ярлики на українськi землi//Схiдний свiт. Харкiв, 1929. № 2. С. 170-187
- Шабульдо Ф. [М.] Чи iснував ярлик Мамая на україньскi землi? (до постановки проблеми)//Синьоводська проблема у новiтнiх дослiдженнях. Київ, 2005. С. 100-110.
- Prochaska A. Dzieje Witolda Welkiego Ksiçcia Litwy. Wilno, 1914. S. 78-81
- Греков Б. Д., Якубовский A. Ю. Золотая Одра и ее падение. М.-Л., 1950. С. 377-381
- Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987. С. 145-149
- Русина О. В. Україна пiд татарами i Литвою. Київ, 1998. С. 86-88.
- Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды. С. 175-176, 178-179
- Крамаровский М. Г. Джучиды и Крым: XIII-XV вв.//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. 10. Симферополь, 2003. С. 521.
- Lietuvos metrika. Kniga Nr. 5 (1427-1506): Uzrasymq knyga 5. Vilnius, 1993. P. 170. №102.2
- Stosunki z Mendli-Girejem chanem tatarów perekopskich (1469-1515). Akta i listy./Wydał i szkicem historycznym poprzedził Kazimierz Pułaski//Stosunki polski z tatarszcsyzną od połowy XV wieku. T. I. Kraków-Warszawa, 1881. S. 256. № 53.
- Lietuvos metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514): Užrašymų knyga 8. Vilnius, 1995. P. 59. №24
- Stosunki z Mendli-Girejem chanem tatarów perekopskich (1469-1515). S. 293. № 78.
- Сборник документов по истории крымско-татарского землевладения/Под ред. Ф. Ф. Лашкова//ИТУАК. №23. (Год девятый). Симферополь, 1895. №55. С. 124.
- Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Preussischen Vorzeit bis zum untergange der Ordensherrschaft. Bd. 3. Leipzig, 1866. S. 216.
- Jana Dlugosza kanonika krakowskiego Diejów polskich/Perzeklad Karoła Mecherzyńskiego. T. III. Krakow, 1868. S. 491.
- Барвiньский Б. Два загадочнi ханьскi ярлики на рускi землi з другої половини XV столїтя. С. 16, 18-19
- Gołębiowski Ł. Dzieje Polski za panowania Jagiełłonów. Т. 3. S. 230-232.
- Барбашев А. И. Витовт и его политика до Грюнвальдской битвы (1410 г.). С. 74-75, 84-87
- Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 3. S. 219, 222, 224
- ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 3-4
- Napiersky C. E. Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae. Th. 1: 1198 bis 1449. Rigae und Dorpat, 1833. S. 135-136. №532, 533
- Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów. T. 1. Wilno, 1860. S. 317. №700
- ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 31, 52
- Чамярыцкi В. А. Беларускiя летапiсы як помнiкi лiгаратуры. Мiнск, 1969. С. 28-40.
- Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. Историко-географическое исследование. М., 1951. С. 28-32
- ПСРЛ. Т. 17. СПб., 1907. Стб. 417
- CEV. № 1298. S. 780
- Приселков М. Д. История русского летописания XI-XV вв. СПб., 1996. С. 222
- Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. 2-е издание. СПб., 2002. С. 450
- ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. М., 2000. Стб. 516
- ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 31, 52
- ПСРЛ. Т. 3. М., 1950. С. 394-395
- Jana Dtugosza kanonika krakowskiego Diejów polskich. T. III. S. 494-497
- Lietuvos metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514). P. 53. №11
- Stosunki z Mendli-Girejem chanem tatarow perekopskich (1469-1515). №76. S. 290.
- Schiltberger H. Reisebuch//Nach der Nurnberger Handschrift hrsg. von Valentin Langmantel I Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart. Bd. 172. Tübingen, 1885. S. 42
- Шильтбергер И. Путешествие по Европе, Азии и Африке. Баку, 1984. С. 36
- Jana Długosza kanonika krakowskiego Diejów polskich I Perzeklad Karoła Mecherzyńskiego. T. IV. Kraków, 1869. S. 203-204.
- Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XVе siècle. T. I. P. 303
- Хромов К. К. Правление ханов в Крымском улусе Золотой Орды в 1419-1422 гг. по нумизматическим данным//Iсторико-географiчнi дослiдження в Українi. Зб. наук. праць. Число 9. Київ, 2006. С. 371. Рис. 1, 2.
- ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 59, 76, 108-109.
- ПСРЛ. Т. 11. М., 2000. С. 215, 218-219.
- СРЯ. Вып. 1. М., 1975. С. 319
- СРЯ. Вып. 13. М., 1987. С. 236
- СРЯ. Вып. 29. М., 2011. С. 134.
- Рева Р. Ю., Казаров А. А., Клоков В. Б. Новые нумизматические данные для реконструкции истории Золотой Орды в 817-819 гг. х.//Пятнадцатая всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. М., 2009. С. 78-80
- Усманов М. А. Татарские исторические источники XVII-XVIII вв. Казань, 1972. С. 78-79
- Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. Алма-Ата, 1984. С. 233-234.
- ПСРЛ. Т. 18. М., 2007. С. 155, 171-172, 189
- Негри А. Извлечения из турецкой рукописи Общества, содержащей историю крымских ханов//ЗООИД. Т. 1. Одесса, 1844. С. 381
- Зайцев И. В. Крымская историографическая традиция XV-XIX веков. М., 2009. С. 113-126
- Defrémery M. Fragments de géographies et d'historiens arabes et persans inédits//Journal Asiatique. Février-Mars 1851. Paris, 1851. P. 119
- Евстратов И. В. Гийас ад-Дин Сар (?) хан -новый золотоордынский эмитент XV в.//Одиннадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. СПб., 2003. С. 91-93
- Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. Алма-Ата, 1992. С. 209-210
- Langlès L. M. Voyage du Bengale à Pétersbourg: à travers les provinces septentrionales de l'Inde, le Kachmyr, la Perse, sur la mer Caspienne, etc. T. 3. Paris, 1802. P. 393-394.
- Ускенбай К. З. Арало-Каспий в первой трети XV века: упадок Ак-Орды и начало возвышения мангытов//Материалы международной научной конференции «Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии». 25-27 мая 2006 года. Ч. 2. Актобе, 2006. С. 21-25
- Маслюженко Д. Н. Ханы Махмуд-Ходжа и Хаджи-Мухаммед, или «Улус Шибана» в первой четверти XV в.//Вопросы истории и археологии средневековых кочевников и Золотой Орды. Астрахань, 2011. С. 88-101
- Сабитов Ж. М. Восточный Дашти-Кипчак в 20-е годы XV века//Иран-намэ. 2012. №1(21) С. 266-275
- Парунин А. В. Смерть Барак-хана: опыт реконструкции//Проблемы этнической истории тюркского населения Западной Сибири. Сборник научных трудов. Астана, 2012. С. 225-236
- Сабитов Ж. М. Чекре-хан и Мухаммед-хан//Зертеушi. 2011. № 3-4. С. 98-103.
- ИКПИ. Т. 4. Алматы, 2006. С. 373-374
- Сабитов Ж. М. Источники появления генеалогий джучидов в Муизз ал Ансаб//Вестник Евразийского Национального Университета. №5 (84). 2011. С. 100-103.
- Валиди Тоган А-З. История башкир. Уфа, 2010. С. 40
- Сабитов Ж. М. О происхождении этнонима узбек и кочевых узбеков//Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Вып. 4. Казань, 2011. C. 166-173.
- ИКПИ. Т. 3. Алматы, 2006. С. 6, 42.
- Березин И. Н. Ярлыки крымских ханов Менгли-Гирея и Мухаммед-Гирея//ЗООИД. Т. 8. Одесса, 1872. Прибавление к сборнику материалов. С. 16-23
- Усманов М. А. Жалованные акты Джучиева улуса XIV-XVI вв. Казань, 1979. С. 61-62
- Мухамадиев А. Г. Булгаро-татарская монетная система XII-XV вв. Табл. XX. Рис. 2-5; Табл. XXI. Рис. 5, 7, 8
- Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII вв. (извлечения из персидских и тюркских сочинений). Алма-Ата, 1969. С. 37
- Юргевич В. Замечания на статью о генуэзских монетах, помещенную в VIII томе Записок Общества, сделанные итальянским ученым К. Десимони//ЗООИД. Т. 8. Одесса, 1872. С. 466
- Ретовский О. Ф. Генуэзско-татарские монеты//ИИАК. Вып. 18. СПб., 1906. С. 16-18; Табл. I. № 1-5
- Борейша Ю. [Л.], Казаров А. [А.] О надчеканках «колюмн» Витовта Кейстутовича и Свадригайлы Ольгердовича. Минск, 2009. С. 41
- Зайцев В. В. О находке трех кладов джучидских монет с литовскими надчеканками//Средневековая нумизматика Восточной Европы. Вып. 3. М., 2009. С. 190-193.
- ПСРЛ. Т. 11. М., 2000. С. 173
- ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 458-459
- ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. М., 2000. Стб. 516-518
- ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 31, 52
- ПСРЛ. Т. 3. М.-Л., 1950. С. 394-395
- Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI-XVII веков. М., 1980. С. 146-148
- ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Стб. 458-459
- Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. М., 2005. С. 256-260
- Барбашев А. И. Витовт, последние двадцать лет княжения. СПб., 1891. С. 143-161.
- Пономарев А. Л. Хан Крыма Бек-Суфи, его законные данги и Лже-Едигей//Нумизматические чтения 2013 года/ГИМ. М., 2013. С. 77
- Брун Ф. [К.] Voyagеs et ambassades de messire Guillebert de Lannoy, 1339-1450//ЗООИД. Т. 3. Одесса, 1853. С. 442.
- ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 59, 76, 108-109.
- Мыц В. Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симферополь, 2009. С. 110
- Беспалов Р. А., Казаров А. А. Клады и денежные комплексы первой трети XV века, обнаруженные в верховьях Оки, Дона и Десны в 2008-2011 годах (по результатам предварительного исследования)//Город Средневековья и раннего Нового времени: Археология. История. Тула, 2013. С. 73, 75, 77
- Лебедев В. П., Ситник В. Г. Комплекс серебряных джучидских монет из Нижнего Джулата (Кабардино-Балкария)//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 13. Армавир-Краснодар, 2012. С. 195, 204, 207, 210. № 218
- ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 59, 76, 109
- ПСРЛ. Т. 18. М., 2007. С. 155, 172
- Беспалов Р. А. Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом осенью 1424 года//Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 4. Тула, 2009. С. 205-208
- Султанов Т. И. Письмо золотоордынского хана Улуг-Мухаммада турецкому султану Мураду II//Тюркологический сборник, 1973. М., 1975. C. 54
- Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец XV -начало XVI в. М., 2001. С. 89
- Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М., 2010. С. 85-86.
- CEV. №1223. S. 721
- ПСРЛ. Т. 25. М., 2004. С. 247
- Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 40-41.
- CEV. №1270. S. 759
- Kronika polska, litewska, zmodzka i wszystkiéj Rusi Macieja Stryjkowskiego. T. 2. Warszawa, 1846. S. 175
- Улащик Н. Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985. С. 82-129
- CEV. №1329. S. 799
- Беспалов Р. А. Источники о поездке Витовта в область Новосильского и Рязанского княжеств в 1427 году//Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 3. Тула, 2008. С. 257
- Беспалов Р. А. К вопросу о времени запустения южной части Новосильско-Одоевского княжества//Город Средневековья и раннего Нового времени: Археология. История. Тула, 2013. С. 86-88.
- ПСРЛ. Т. 17. СПб., 1907. Стб. 417-418
- Френ Х. М. Монеты ханов Улуса Джучиева или Золотой Орды. СПб., 1832. С. 35. Таб. VIII. № 266
- Лебедев В. П. К нумизматике Крыма золотоордынского периода//Нумизматический сборник Московского нумизматического общества. Вып. 9. М., 2002. С. 148
- Мухамадиев А. Г. Два клада татарских монет XV века//Советская археология. М., 1966. №2. С. 272-273.
- Карпов С. П. Регесты документов фонда Diversorum Filze секретного архива Генуи, относящиеся к истории Причерноморья//Причерноморье в средние века. Вып. 3. М.-СПб., 1998. С. 36
- Беспалов Р. А. Хан Улу-Мухаммед и государства Восточной Европы: от Белёва до Казани (1437-1445)//Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Вып. 5. Казань, 2012. С. 53-70.
- ПСРЛ. Т. 11. М., 2000. С. 167-168