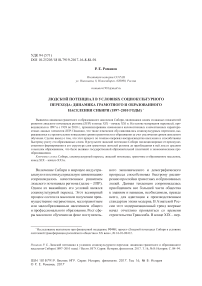Людской потенциал в условиях социокультурного перехода: динамика грамотного и образованного населения Сибири (1897-2010 годы)
Автор: Романов Роман Евгеньевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Выявлена динамика грамотного и образованного населения Сибири, являющаяся одним из важных показателей развития людского потенциала региона (ЛПР) в конце XIX - начале XXI в. На основе материалов переписей, проводившихся в 1897 и с 1939 по 2010 г., проанализированы изменения в количественных и качественных характеристиках данных элементов ЛПР. Показано, что такие изменения обуславливались социокультурным переходом, выражавшимся в стремительном повышении уровня грамотности и образования за счет увеличения сроков школьного обучения. Сделан вывод о том, что этот процесс по темпам опережал воспроизводство населения и способствовал быстрому росту его образованных слоев. В результате людской потенциал Сибири эволюционировал от преимущественного формирования в его структуре слоя грамотных жителей региона до преобладания в ней лиц со средним и высшим образованием, что было вызвано государственной образовательной политикой и экономическими преобразованиями.
Сибирь, социокультурный переход, людской потенциал, грамотное и образованное население, конец xix - начало xxi в.
Короткий адрес: https://sciup.org/147219837
IDR: 147219837 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-8-84-94
Текст научной статьи Людской потенциал в условиях социокультурного перехода: динамика грамотного и образованного населения Сибири (1897-2010 годы)
Включение Сибири в мировую индустриальную и постиндустриальную цивилизацию сопровождалось качественным развитием людского потенциала региона (далее – ЛПР). Одним из важнейших его условий являлся социокультурный переход. Этот всемирный процесс состоял в массовом получении преимущественно неграмотным, малограмотным или малообразованным населением общего и профессионального образования. Рост сферы массового обучения на фоне поступатель- ного экономического и демографического прогресса способствовал быстрому расширению прослойки грамотных и образованных людей. Данная тенденция сопровождалась приобщением все большей части общества к знаниям и навыкам, необходимым, прежде всего, для адаптации к производственным стандартам эпохи модерна. В Азиатской России этот модернизационный тренд впервые начал отчетливо проявляться со времени строительства Транссиба. В конце XIX – пер- вой трети XX в. социокультурный компонент сибирского ЛПР 1 формировался в основном за счет людей, овладевших чтением и письмом, второй трети XX в. – окончивших начальную и неполную среднюю, последней трети XX – начале XXI в. – неполную и / или полную среднюю школу. В Сибири данные тенденции сохраняли особую актуальность в силу необходимости хозяйственного освоения региона на фоне его слабой заселенности и отставания в просвещении от европейской России.
Первые отечественные исследования, посвященные выявлению уровня грамотности и образования, начались в дореволюционной России. Их авторы анализировали степень просвещенности в отдельных социальных группах (рабочие) в европейских [Козьминых-Ланин, 1912] и сибирских [Мерха-лев, 1915] регионах. В дальнейшем данный аспект был более обширно и детально проработан в советской историографии. В центре внимания исследователей оказались сравнительная динамика грамотного и образованного населения в Российской империи и СССР [Богданов, 1964], изменения в образовательном уровне жителей страны Советов [Томин, 1981] и ее восточных районов [Лукинский, 1982]. Реконструировалась картина роста общих и профессиональных знаний в среде рабочего класса и крестьянства Советского Союза [Окладной, 1958; Подъем…, 1961] и, в частности, Сибири [Московский, 1979].
В современной научной литературе сохраняется высокий интерес к изучению процесса повышения грамотности и образования в традиционном сельском социуме [Миронов, 2015], в том числе в его отдельных региональных подсистемах 2. Одновременно этот процесс рассматривался в контексте эволюции социокультурного облика российских рабочих [Постников, 2009], западносибирских крестьян 3 и т. д. В целом в новейшей российской историографии остается свободной ниша для «сквозного» изучения влияния социокультурного перехода на сибирское общество в конце XIX – начале XXI в. В связи с этим цель данной статьи – выявление численной динамики грамотного и образованного населения, отражавшей изменение роли этого фактора в развитии людского потенциала региона.
Методологической основой исследования является авторская концепция трех стадий социокультурного перехода. Ее суть заключается в том, что в ходе эволюции традиционного общества в современное происходило последовательное движение людских масс от неграмотности к всеобщей грамотности и начальному, неполному среднему, а затем среднему образованию. В каждой стране или регионе данный процесс имел специфику, зависевшую от взаимодействия образовательной сферы с демографической и экономической подсистемой общества. Особенности этого взаимодействия определяли количественные и качественные параметры социокультурного компонента ЛПР.
Источниковой базой исследования являются переписи населения, проводившиеся в 1897 и с 1939 по 2010 г. Эти источники содержат статистические сведения, за счет использования которых было установлено число грамотных и образованных жителей Сибири на момент проведения той или иной переписи. Данные за 1897 г. в совокупности охватывают территорию Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской губерний, Забайкальской и Якутской областей, 1926 г. – Сибирского края, Бурятии и Якутии, 1939 г. – Алтайского, Красноярского краев, Омской, Новосибирской, Иркутской, Читинской областей, Бурятии и Якутии, 1959–2010 гг. – Алтайского, Красноярского краев, Омской, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Читинской областей, Горного Алтая, Тувы, Бурятии и Якутии. Подвижность административно-территориальных границ, в которые в то или иное время была «помещена» Сибирь, хотя и вносит некоторые ис- кажения в общую картину развития ЛПР, но не оказывает на нее превалирующего влияния. В связи с этим динамические ряды полученных показателей могут служить основой для анализа качественной трансформации людского потенциала в межпереписные периоды. Результаты анализа соотносились с изменениями в численности населения, государственной образовательной политике и с экономическими тенденциями. Благодаря этому удалось выявить некоторые закономерности в эволюции ЛПР в условиях социокультурного перехода.
В рассматриваемый период в регионе на фоне демографического роста существенно повысился уровень грамотности и образованности населения. Если в 1897 г. общая численность жителей Сибири составляла 5,8 млн чел., в том числе грамотных в возрасте от 10 лет и старше – 0,7 млн, то в 2010 г. – 23,6 и 22,3 млн чел. (табл. 1). В конце XIX в. среди умевших читать и писать сибиряков было очень мало образованных людей. К началу XXI в. данный слой вырос почти до 17 млн чел. (табл. 2). Столь кардинальные перемены были вызваны социокультурным переходом, происходившим в России и ее азиатской части на протяжении более ста лет.
С учетом особенностей этого процесса, зависевших от конкретной исторической эпохи, в качественной динамике людского потенциала Сибири в конце XIX – начале XXI в. можно выделить четыре этапа:
-
• конец 1890-х – 1920-е гг. – развитие ЛПР в условиях господства традиционного общества (начало первой стадии социокультурного перехода);
-
• 1930-е – конец 1950-х гг. – развитие ЛПР в условиях становления индустриального общества (завершение первой и начало второй стадии социокультурного перехода);
-
• конец 1950-х – 1980-е гг. – развитие ЛПР в условиях зрелого индустриального общества (завершение второй и начало третьей стадии социокультурного перехода);
-
• 1990-е – 2000-е гг. – развитие ЛПР в условиях формирования постиндустриального общества (завершение третьей стадии социокультурного перехода).
Таблица 1
Количественная динамика грамотного населения Сибири
в конце XIX – начале XXI в., млн чел. *
Перепись населения, год
Все население
В том числе грамотное (от 10 лет и старше)
абс.
%
абс.
%
1897
5,8
100,0
0,7
12,1
1926
11,0
100,0
2,6
23,6
1939
14,1
100,0
8,8
62,4
1959
18,0
100,0
11,3
62,8
1970
20,3
100,0
нет данных
нет данных
1979
22,0
100,0
нет данных
нет данных
1989
25,3
100,0
нет данных
нет данных
2002
24,3
100,0
21,8
89,7
2010
23,6
100,0
22,3
94,5
* Примечание. Табл. 1–3 составлены по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_age_97.php?reg=11 (дата обращения 14.01.2017); Всесоюзная перепись населения 1989 г. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_edu_89.php (дата обращения 14.01.2017); Всероссийская перепись населения 2002 г. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_edu_02.php?reg=70 (дата обращения 14.01.2017); Всероссийская перепись населения 2010 г. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_edu_10.php (дата обращения 14.01.2017); [Всесоюзная перепись..., 1999. С. 88–89, 105, 107–111; Итоги Всесоюзной переписи..., 1963. С. 114–115; Итоги Всесоюзной переписи..., 1972. С. 92–95; Итоги Всесоюзной переписи..., 1989. С. 136, 139, 256, 266].
Количественная динамика образованного населения Сибири в конце XIX – начале XXI в., млн чел.
Таблица 2
Перепись населения, год
Все население
В том числе образованное *
абс.
%
абс.
%
1897
5,8
100,0
нет данных
нет данных
1926
11,0
100,0
нет данных
нет данных
1939
14,1
100,0
0,87
6,2
1959
18,0
100,0
4,1
22,8
1970
20,3
100,0
7,3
36,0
1979
22,0
100,0
11,5
52,3
1989
25,3
100,0
14,9
58,9
2002
24,3
100,0
18,0
74,1
2010
23,6
100,0
19,4
82,2
* Примечание. В переписях 1939, 1959, 1970 и 1979 гг. учитывалось население в возрасте от 10 лет и старше, в переписях 1989, 2002 и 2010 гг. – от 15 лет и старше.
Темпы прироста грамотного и образованного населения Сибири в конце XIX – начале XXI в. (коэффициент)
Таблица 3
Межпереписные периоды, годы
Все население
В том числе
грамотное
образованное
1897–1926
1,9
3,71
нет данных
1926–1939
1,28
3,38
нет данных
1939–1959
1,28
1,28
4,71
1959–1970
1,13
нет данных
1,78
1970–1979
1,08
нет данных
1,58
1979–1989
1,15
нет данных
1,3
1989–2002
–1,04
нет данных
1,2
2002–2010
–1,03
1,03
1,07
В конце XIX в. регион начал втягиваться в первую стадию социокультурного перехода, связанную с распространением грамотности. В 1897–1926 гг. грамотное население Сибири увеличилось с 0,7 до 2,6 млн чел. (с 12,1 до 23,6 %, см. табл. 1). Количественная динамика людей, освоивших навыки чтения и письма, почти в два раза превосходила демографический прирост (табл. 3). Данная тенденция была связана с вовлечением сибирского общества в модернизационный процесс. Развитие сельскохозяйственной кооперации, железнодорожного строительства, промышленности, торговли и сферы обслуживания побуждало местные власти к расширению сферы народного просвещения. Накануне Первой мировой войны в крупных городах Сибири предпринимались первона-
- чальные попытки по введению всеобщего начального образования. Горожане и выходцы из села, окончившие не менее трех–четырех классов, составляли качественную основу людского потенциала, за счет которой формировались отряды квалифицированных рабочих, специалистов и служащих. Но в целом рассматриваемый элемент ЛПР находился в зачаточном состоянии, так как уровень грамотности и образованности населения повышался медленно. Юные уроженцы края и новоселы осваивали преимущественно элементарную грамотность – чтение по слогам, написание собственной фамилии и т. п.
В 1917–1922 гг. процесс социокультурного перехода на востоке страны временно прервался из-за революции и гражданской войны. Эти события не только резко затруднили просветительскую работу, но и привели к потере многими сибиряками полученных навыков чтения и письма. Переход победивших большевиков к НЭПу способствовал развертыванию в Сибири борьбы за ликвидацию неграмотности. Организованный в начале 1920-х гг. ликбез не успел существенно сказаться на количестве грамотных к моменту проведения переписи 1926 г. Поэтому более чем трехкратный прирост данной категории населения приходился в основном на предреволюционное двадцатилетие. Но низкое качество ЛПР не позволяло решать задачи грядущей индустриализации. Такое явление обуславливалось господством в регионе традиционного общества, которое оставалось слабо затронутым модернизацией. В то же время образовательная политика советской власти привела во второй половине 1920-х гг. к возобновлению в Сибири социокультурного перехода, который с этого времени стал исторически необратимым процессом.
В годы довоенных пятилеток первый социокультурный переход вступил в регионе в завершающую фазу, обусловленную введением всеобщего начального образования. Это общегосударственное мероприятие являлось следствием реализации программы форсированной индустриализации, охватывавшей, в частности, и Сибирь. В 1926–1939 гг. грамотное население региона выросло с 2,6 до 8,8 млн чел. (с 23,6 до 62,4 %, см. табл. 1). К концу 1930-х гг. среди лиц в возрасте от 9 до 49 лет грамотность достигла почти 86 % [Всесоюзная перепись..., 1999. С. 82]. Ее рост превысил динамику демографического воспроизводства в 2,6 раза (см. табл. 3). Такие изменения были вызваны курсом советского государства на полную ликвидацию неграмотности и повышение образовательного уровня граждан. В 1930 г. в СССР повсеместно ввели четырехлетнее обучение. К 1933 г. в городах и рабочих поселках обязательной стала уже семилетняя школа. На ее базе расширялась сфера подготовки рабочих в школах фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и специалистов – в техникумах и рабочих факультетах вузов.
В начале 1930-х гг. при незавершенности в Сибири первой стадии социокультурного перехода, в ее городских поселениях фактически началась вторая. Данная ситу- ация весьма противоречиво повлияла на качественный уровень людского потенциала региона. По переписи 1939 г. численность сибиряков, окончивших от семи до десяти классов, средние специальные (ссузы) и высшие учебные заведения (вузы), достигла 0,87 млн чел. (6,2 %, см. табл. 2). Быстрое наращивание образованного ядра ЛПР дало возможность комплектовать рабочие и инженерно-технические кадры, обладавшие необходимой квалификацией для создания и развития на востоке страны запасной угольно-металлургической базы и предприятий оборонного значения. Но в целом социокультурный компонент ЛПР состоял в основном из уроженцев сельской местности, овладевших грамотностью или знаниями в объеме начальной школы, которых не хватало для освоения производственных профессий. Для решения этой проблемы осенью 1940 г. были учреждены училища и школы гостру-дрезервов, ориентированные на выпускников соответственно седьмых и четвертых классов. Параллельно в старших классах, техникумах и вузах Совнарком СССР установил платное обучение, сделавшее среднее и высшее образование еще менее доступным.
В годы Великой Отечественной войны средне- и высокообразованные элементы людского потенциала способствовали кадровому обеспечению военно-промышленного комплекса (далее – ВПК) сибирского тыла. Вместе с тем условия военного времени, вызвавшие сокращение числа школьников, замедлили социокультурный переход. Его ускорение в 1946–1959 гг. привело к полному завершению первой фазы данного процесса. В 1939–1959 гг. число грамотных жителей Сибири увеличилось с 8,8 до 11,3 млн чел. (с 62,4 до 62,8 %, см. табл. 1). В возрастной группе от 9 до 49 лет их доля выросла до 98– 99 % [Итоги Всесоюзной переписи..., 1963. С. 114]. По этой причине темпы распространения грамотности сравнялись с динамикой численности населения.
Одновременно в послевоенной Сибири продолжался второй социокультурный переход, чему способствовали новый подъем производительных сил и государственная образовательная политика. Начало «холодной войны» привело к дальнейшему витку развития ВПК и смежных с ним отраслей, требовавших образованных рабочих и специалистов. В связи с этим в 1949 г. советское правительство установило обязательный семилетний всеобуч. В 1954 г. Совет Министров СССР отменил плату за обучение в старших классах, техникумах и вузах. Численность сибиряков, окончивших от семи до десяти классов, ссузы и вузы, увеличилась с 0,87 млн чел. в 1939 г. до 4,1 млн чел. в 1959 г. (с 6,2 до 22,8 %, см. табл. 2). Рост образованных слоев населения превысил демографическое воспроизводство в 3,7 раза (см. табл. 3). В конце 1950-х гг. в их структуре выпускники неполной средней школы составляли 63,4 %, средней школы и техникумов – по 14,6 %, институтов и университетов – 7,3 % (табл. 4). Благодаря этому в регионе осуществлялось пополнение категорий работников средней и высшей квалификации в военном и гражданском машиностроении, находившемся в состоянии технологической модернизации, в складывавшихся территориально-производственных комплексах (далее – ТПК) и т. д. Но качественный уровень ЛПР не совпадал с требованиями наступавшей научно-технической революции (далее – НТР). Данная ситуация обуславливалась тем, что на рубеже 1950–1960-х гг. в СССР сложилось зрелое индустриальное общество. В новых реалиях завершение второй и начало третьей стадии социокультурного перехода были связаны с увеличением продолжительности неполного и введением всеобщего среднего образования.
В ходе развернувшейся НТР, связанной с применением электронно-вычислительной техники, высшее руководство СССР повысило сроки обязательного школьного обучения. В 1958 г. правительство сделало его восьмилетним и на этой базе реорганизовало учебные заведения гострудрезервов в профессионально-технические училища (далее – ПТУ). Кроме того, оно продекларировало переход от 10- к 11-летней школе с элементами производственной подготовки. В 1966 г. на фоне возврата к «десятилетке» был провозглашен курс на охват ее программой всей учащейся молодежи. Во второй половине 1960-х гг. Сибирь, как и СССР в целом, при завершении второго социокультурного перехода вступи- ла в фазу третьего. В 1959–1970 гг. население региона, окончившее от восьми до десяти классов, ссузы и вузы, выросло с 4,1 до 7,3 млн чел. (с 22,8 до 36,0 %, см. табл. 2). Социокультурная динамика людского потенциала превышала его демографический прирост в 1,57 раза (см. табл. 3). В структуре образованной части ЛПР доля выпускников неполной средней школы сократилась с 63,4 до 54,8 %, средней школы – увеличилась с 14,6 до 20,5 %, средних специальных учебных заведений – с 14,6 до 15,1 %, высших учебных заведений – с 7,3 до 9,6 % (см. табл. 4). Приращение наиболее качественных звеньев ЛПР обеспечивало комплектование квалифицированного персонала, как в высокотехнологичном ВПК, так и ориентированных на добычу и переработку сырья ТПК.
В 1970-е гг. советскому государству удалось создать условия для того, чтобы основная масса подростков могла продолжить учебу в полной средней школе. «Восьмилетка» окончательно превратилась в трамплин для поступления в старшие классы или профтехучилища. В ПТУ юное поколение осваивало рабочие специальности только после завершения всего курса школьного обучения. В 1970–1989 гг. число жителей Сибири с образовательным уровнем от восьми классов и выше выросло с 7,3 до 14,9 млн чел. (с 36,0 до 58,9 %, см. табл. 2). Рост образованного населения региона опережал демографическое воспроизводство в 1,6 раза (см. табл. 3). В его структуре доля лиц, получивших аттестаты неполной средней школы, сократилась с 54,8 до 26,8 %, полной средней школы – увеличилась с 20,5 до 34,9 %, дипломы ссузов – с 15,1 до 24,8 %, вузов – с 9,6 до 13,4 % (см. табл. 4). Если в конце 1960-х гг. выпускники техникумов, институтов и университетов, претендующие на вакансии специалистов средней и высшей квалификации, составляли около четверти качественного ядра людского потенциала, то в конце 1980-х гг. – свыше трети. Эти позитивные изменения создавали условия для формирования широкого слоя технической интеллигенции, занятого в региональных научных центрах по формированию фундаментальных знаний и технологий, научно-производственных объе-
Таблица 4
Структура образованного населения Сибири в 1939–2010 гг. (млн чел.) *
|
Перепись населения, год |
Всего |
В том числе |
||||||||
|
абс. |
% |
Образование |
||||||||
|
неполное среднее |
среднее |
среднее специальное |
высшее |
|||||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
абс. |
% |
|||
|
1959 |
4,1 |
100,0 |
2,6 |
63,4 |
0,6 |
14,6 |
0,6 |
14,6 |
0,3 |
7,3 |
|
1970 |
7,3 |
100,0 |
4,0 |
54,8 |
1,5 |
20,5 |
1,1 |
15,1 |
0,7 |
9,6 |
|
1979 |
11,5 |
100,0 |
4,7 |
40,9 |
3,2 |
27,8 |
2,1 |
18,3 |
1,3 |
11,3 |
|
1989 |
14,9 |
100,0 |
4,0 |
26,8 |
5,2 |
34,9 |
3,7 |
24,8 |
2,0 |
13,4 |
|
2002 |
18,0 |
100,0 |
2,9 |
16,1 |
6,1 |
33,9 |
5,6 |
31,1 |
3,4 |
18,9 |
|
2010 |
19,4 |
100,0 |
2,5 |
12,9 |
5,0 |
25,8 |
6,6 |
34,0 |
5,3 |
27,3 |
* Примечание. Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1989 г. URL: http://demoscope.ru/weekly/ ssp/rus_edu_89.php (дата обращения 14.01.2017); Всероссийская перепись населения 2002 г. URL: http://demoscope . ru/weekly/ssp/rus_edu_02.php?reg=70 (дата обращения 14.01.2017); Всероссийская перепись населения 2010 г. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_edu_10.php (дата обращения 14.01.2017); [Итоги Всесоюзной переписи..., 1963. С. 114–115; Итоги Всесоюзной переписи..., 1972. С. 92–95; Итоги Всесоюзной переписи..., 1989. С. 136, 139, 256, 266].
динениях, опиравшихся на достижения НТР. Однако концентрация научно-технического прогресса преимущественно в ВПК и смежных с ним отраслях, чрезмерно выросшая роль топливно-энергетического комплекса, реализация крупных инфраструктурных проектов, побочный характер развития сферы нематериального производства вели к снижению возможностей для эффективного применения труда работников, обладавших высокими профессиональными качествами. К началу перестройки образовательные и квалификационные характеристики значительной части ЛПР переросли технологический и организационно-управленческий уровень региональной экономики. Возникшее противоречие, свойственное всему советскому обществу, являлось одной из причин срыва позднеиндустриальной модернизации в СССР. Ее неудачный финал отсрочил завершение третьей стадии социокультурного перехода, что негативно отразилось на процессе постиндустриальной трансформации в постсоветской России.
Радикальный отказ нового российского государства от накопленного ранее модернизационного опыта оказал отрицательное влияние на систему образования. В 1992 г. высшие органы власти РФ установили в качестве базовой образовательной ступени неполную среднюю школу. На фоне продекларированных девяти классов обязательное обучение вновь стало восьмилетним 4. Эта реформа противоречила логике как третьего социокультурного перехода, так и постиндустриального развития, требовавшего повышения сроков школьной учебы до 11–12 лет. В 1989–2002 гг. число жителей Сибири со средним (в том числе неполным) и высшим образованием увеличилось с 14,9 до 18,0 млн чел. (с 58,9 до 74,1 %, см. табл. 2). Данные слои населения росли в условиях отрицательной демографической динамики (см. табл. 3). В их структуре доля выпускников девятых классов сократилась с 26,8 до 16,1 %, одиннадцатых классов – с 34,9 до 33,9 %, ссузов – выросла с 24,8 до 31,1 %, вузов – с 13,4 до 18,9 % (см. табл. 4). В начале 2000-х гг. дипломированные специалисты средней и высшей квалификации составляли половину образованных сибиряков. С одной стороны, эта новая веха в качественной эволюции людского потенциала обесценивалась в результате массовой безработицы, вызванной деградацией индустриального производства, оттока его кадров в топливно-сырьевой сектор и торгово-посреднический бизнес, стихийного «экспорта» за рубеж интеллек- туальных ресурсов. С другой стороны, она адекватно вписывалась в тренды наступавшей глобальной информационной эпохи, связанной с преобладанием сферы обслуживания и компьютерных технологий.
В начале XXI в. частичное восстановление отраслей индустрии, расширение сервисной экономики, зарождение сферы IT-технологий актуализировали проблему возврата к всеобщей средней школе. В 2007 г. в РФ, включая ее восточные районы, было введено обязательное одиннадцатилетнее обучение. Данные меры способствовали завершению в Сибири во второй половине 2000-х гг. третьей стадии социокультурного перехода. В 2002–2010 гг. население региона со средним (в том числе неполным) и высшим образованием выросло с 15,1 до 19,4 млн чел. (с 62,1 до 82,2 %) (см. табл. 4). Наращивание высококачественного людского потенциала продолжалось на фоне дальнейшего сокращения демографических ресурсов. В его структуре доля выпускников 9-х классов снизилась с 16,1 до 12,9 %, 11-х классов – с 33,9 до 25,8 %, колледжей и техникумов – увеличилась с 31,1 до 34,0 %, университетов – с 18,9 до 27,3 % (см. табл. 4). На рубеже 2000–2010-х гг. более 60 % образованных представителей сибирского общества составляли лица, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения. В то же время эффективное использование высококвалифицированных трудовых ресурсов осложняется сохраняющимся доминированием в хозяйственной структуре Сибири топливно-сырьевых монополистов, отсутствием слаженного взаимодействия между наукой и производством, слабым внедрением технологических новаций, продолжающейся потерей интеллектуального богатства и т. д. Данная ситуация свидетельствует о сохранении и углублении кризисных тенденций, истоки которых скрыты в позднеиндустриальной эпохе 1970–1980-х гг. Перспективы преодоления кризиса связаны с взятой на вооружение руководством страны идеей реиндустриализации при условии ее полноценной реализации в масштабах всей России и Сибирского региона в частности.
В конце XIX – начале XXI в. одним из важнейших факторов качественного развития людского потенциала Сибири являлся социокультурный переход. Его сущность заключалась в динамичном повышении уровня грамотности и образования населения, главным образом, за счет увеличения сроков всеобщего школьного обучения. Данное явление было связано с поэтапным распространением 4-летнего, 7–8-летнего и 10–11-летнего всеобуча. В 1900–2000-х гг. государственная образовательная политика в восточных районах России эволюционировала от введения начальной (в городах) до установления в качестве базовой полной средней школы. В результате за сто лет регион, как и страна в целом, прошел через все три стадии социокультурного перехода. И если в начале этого процесса основная масса жителей Сибири не владела даже элементарной грамотностью, то к его завершению обладала средним и высшим образованием.
Следует отметить, что за фасадом данного модернизационного процесса скрывалось сложное и противоречивое взаимодействие демографической, образовательной и экономической подсистем регионального общества. В рассматриваемый период динамика численности грамотных и образованных сибиряков заметно превосходила темпы формирования населения в целом. Отсутствие давления его избыточной массы, прежде всего, на систему школьного обучения способствовало быстрому росту качественных характеристик людского потенциала. Данные тенденции позволили Сибири (как и СССР в целом) избежать судьбы многих развивающихся стран и макрорегионов, где демографический взрыв существенно затруднял социокультурный переход, что в итоге приводило к выпадению значительной части общества из процесса модернизации.
Вместе с тем проанализированный исторический опыт показал, что опережающее развитие социокультурного компонента людского потенциала являлось благом лишь только при его тесной взаимосвязи с экономическими преобразованиями. В конце 1890– 1920-х гг. качество этого компонента в Сибири существенно отставало от требований технического прогресса, что могло привести к его затуханию и срыву. Но срыва не произошло, поскольку слом традиционного общества в начале второй трети XX в. обусловил полное совпадение двух модернизационных трендов – индустриализации и «культурной революции». В 1930–1950-е гг. грамотное и образованное население региона, увеличивавшееся взрывными темпами, подпитыва- ло столь же форсированное индустриальное освоение востока страны квалифицированными кадрами. К концу этого периода около четверти сибиряков получили среднее (в том числе неполное), среднее специальное или высшее образование. Более половины из них закончили только семь классов, что свидетельствовало о недопроизводстве высококачественного ЛПР на фоне большого технологического скачка. В 1960–1980-е гг. при снижении количественной динамики он значительно вырос как в удельном, так и структурном выражении. Накануне распада СССР уже почти три пятых жителей Сибири обладали средним и высшим образованием при более чем полуторакратном увеличении в их составе выпускников вузов и ссузов. В условиях ограниченного распространения в экономике достижений НТР столь быстрые позитивные сдвиги в социокультурном компоненте ЛПР привели к перепроизводству специалистов средней и высокой квалификации. В 1990–2000-е гг. эта тенденция заметно усилилась на фоне дальнейшего роста доли и улучшения структуры образованного населения при отстающем от него уровне развития регионального хозяйства и демографическом кризисе.
Таким образом, в конце XIX – начале XXI в. роль социокультурного перехода в эволюции людского потенциала Сибири кардинально изменилась. В условиях господства традиционного общества данный процесс способствовал в основном интенсивному формированию грамотного населения. В ходе становления индустриального общества этот фактор оказал мощное стимулирующее воздействие на распространение в молодом и среднем поколениях жителей региона всеобщей грамотности, а также расширение в них прослойки лиц с начальным и неполным средним образованием. В рамках зрелого индустриального общества развитие социокультурного перехода привело к тому, что сибиряки со средним и высоким образовательным уровнем стали массовым явлением и одной из предпосылок последующего включения Сибири в современную глобально-информационную эру. В настоящее время образованное население составляет более чем три пятых регионального людского потенциала, что обуславливает необходимость продолжения модернизации на востоке России в современных условиях.
Список литературы Людской потенциал в условиях социокультурного перехода: динамика грамотного и образованного населения Сибири (1897-2010 годы)
- Богданов И. М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР (Ист.-стат. очерки). М.: Статистика, 1964. 195 с.
- Козьминых-Ланин И. М. Грамотность и заработки фабрично-заводских рабочих Московской губернии. М., 1912. 97 с.
- Лукинский Ф. А. Народное образование в Сибири (1928-1941 гг.). Историко-статистическое исследование. Новосибирск: Наука, 1982. 223 с.
- Мерхалев Д. Рабочие Ленских золотопромышленных приисков: районы выхода, возрастной состав и грамотность (Сравн.-стат. очерк по данным 1912 г.). Иркутск, 1915. 60 с.
- Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015. Т. 3. 992 с.
- Московский А. С. Рост культурно-технического уровня рабочих Сибири (1920-1937). Новосибирск: Наука, 1979. 239 с.
- Окладной Г. М. Рост культурно-технического уровня колхозного крестьянства. Харьков: Обл. изд., 1958. 360 с.
- Подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса. М.: Соцэкгиз, 1961. 551 с.
- Постников С. П. Социокультурный облик промышленных рабочих России в 1900-1941 гг. М.: РОССПЭН, 2009. 366 с.
- Томин В. П. Уровень образования населения СССР. М.: Финансы и статистика, 1981. 192 с.