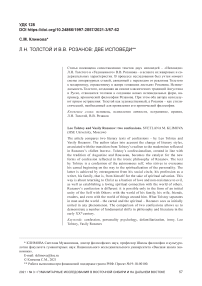Л.Н. Толстой и В.В. Розанов: две исповеди
Автор: Климова Светлана Мушаиловна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Василий Розанов: Мыслить уединенное. К 165-летию со дня рождения философа
Статья в выпуске: 3 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сопоставлению текстов двух исповедей - «Исповеди» Л.Н. Толстого и «Уединенного» В.В. Розанова - в аспекте их жанровых и содержательных характеристик. В процессе исследования был учтен момент смены литературных стилей, связанный с переходом от реализма Толстого к модернизму, отраженному в жанре «опавших листьев» Розанова. Испове-дальность Толстого, созданная на основе классических традиций Августина и Руссо, становится толчком к созданию новых исповедальных форм, например, иронической философии Розанова. При этом оба автора используют прием остранения: Толстой как художественный, а Розанов - как стилистический, необходимый для проявления его иронической философии.
Исповедь, психология личности, остранение, ирония, л.н. толстой, в.в. розанов
Короткий адрес: https://sciup.org/170191393
IDR: 170191393 | УДК: 128 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-3/57-62
Текст научной статьи Л.Н. Толстой и В.В. Розанов: две исповеди
Л.Н. Толстой и В.В. Розанов многие годы находились в общем жизненном и социокультурном пространстве, хотя были людьми разных поколений и по возрасту, и по убеждениям. Они были скорее антиподами, чем единомышленниками. Поэтому правомерно утверждать, что «Исповедь» (1879–1882) Толстого и «Уединенное» (1912) Розанова – две исповеди-откровения – хотя и написаны в общем-то современниками, людьми, лично знавшими друг друга, но как будто бы в совершенно разные эпохи – настолько за 30 лет, которые пролегли между двумя произведениями, изменились и эпоха, и литература, и отношение к исповедальной искренности, выраженное в художественных и философских текстах. Между тем, Б.М. Эйхенбаум, определяя «Исповедь» Толстого как руссоистскую по стилю, но не по содержанию, точно заметил, что Толстой был не только завершителем эпохи Просвещения, но и зачинателем новой. Недаром его имя стало путеводной звездой для русских формалистов начала XX в. Идеи формализма нашли отражение в интерпретации учения Толстого у В.Б. Шкловского (остранение) и Б.М. Эйхенбаума (теория литературного быта). М. Деннер показал, как «мастер реалистического романа» Толстой был «захвачен авангардизмом», к которому ученый свел как толстовский поиск «наивной формы» искусства для народа, так и его требование эстетического опрощения. Уточним, что хотя Толстой и был «зачинателем» эпохи модернизма, это не равносильно тому, что он был его сторонником или «приверженцем авангардного искусства» [8, с. 370–388].
В промежутке между появлением двух указанных исповедей произошла кардинальная смена литературных форм, нарушившая логику «школьной» преемственности развития от одного эстетического направления к другому. Теперь оно шло «не от отца к сыну, но от дяди к племяннику» [7, с. 322]. В этом нарушении разговора об интимной прозе как движения от Руссо к Толстому и от Толстого к Розанову и рождается новый тип литературы – «опавшие листья», исповедальный текст Розанова, связанный и не связанный как с традициями толстовской «Исповеди», так и с поиском новых форм описания внутренних переживаний авто-ра/героев.
Сознательно или бессознательно, но Розанов, как и практически вся русская интеллигенция в конце XIX – начале XX вв., находился под влиянием учения и эстетики Толстого. Прямым доказательством можно считать его многочисленные статьи о писателе [3] и непрерывную полемику с ним, главным образом на страницах тогдашней российской периодики. Известно и о его посещении Ясной Поляны в марте 1907 г., об их взаимном неприятии и недопонимании друг друга – как после этой поездки, так и в ходе заочного обмена мнениями об идеях и убеждениях друг друга.
Так или иначе, Толстой был важен для Розанова и как писатель, и как религиозный мыслитель, и как «совесть нации». Он был тем берегом, отталкиваясь от которого Розанов оттачивал свой уникальный взгляд на философию пола, семьи и религии и создавал новую литературу.
Сопоставляя две исповеди, мы должны указать на их жанровую общность. В жанровом смысле оба автора нарушили канон использования слова «исповедь», отсылающий к религиозному контенту и традициям ее рассмотрения как важнейшего таинства, имеющего место в литургической практике. Литературная исповедь обоих очень условно может быть названа религиозным «таинством», ведь она полностью открыта, десакрализована для любого желающего к ней прикоснуться. Литературная исповедь начиная с XVII–XVIII вв. воспринимается как автономный (художественный, публицистический и даже религиозный) текст, направленный на выражение интимного мира переживаний его героев, а не на покаяние, прощение или причащение по церковному типу.
В обоих случаях перед нами литературные исповеди, насыщенные элементами автобиографизма. Для обоих биография – это лишь повод к самообнажению. Ни «Исповедь» Толстого, ни «Уединенное» Розанова нельзя считать биографическим текстом в традиционном смысле слова «биография». Несмотря на то, что оба текста наполнены фактами из жизни их авторов, понимать их биографичность следует лишь условно, как прием для описания психологии саморазоблачения и покаяния. Биография здесь уже обработана критической мыслью автора, литературна по сути, и каждый биографический факт неразрывно связан с покаянной логикой исповедующегося автора. Не понимая этого, читатель и впрямь может подумать, что Толстой «убивал людей», как разбойник, а не как воин, «учил, сам не зная чему» в своих великих произведениях; или читатель вдруг наивно начинает передавать приветы милой жене Розанова, не понимая условности образа «друга» в его тексте и разницы между ней и той Варварой Дмитриевной Бутягиной, которая была женой писателя [2, с. 53–65].
В исповедальных текстах Толстого и Розанова есть обязательные для данного жанра элементы интимности, откровения, покаяния; многие из них связаны с генеральной идеей – направлены на саморазоблачение исповедующихся авторов. Исповедующийся автор – некий психологический тип личности, находящийся в пограничном состоянии экзистенциального кризиса («остановки жизни», по словам Толстого), разлада между собой и миром до такой степени отторжения, что единственным способом его преодоления становится настоятельная потребность выговориться – то есть озвучивание своего внутреннего мира миру внешнему. Такое состояние Розанов назвал «святой проституцией», когда «самое интимное – отдаю всем», добавив иронически, что за такое сравнение можно и убить, а можно и «бесконечно задуматься» [4, с. 44], то есть сделать основой новой философской рефлексии.
Разница же исповедей в том, что Толстой разоблачается всерьез, он открывает миру не только себя в «преступных состояниях» войны, тщеславия или учительства. Одновременно он открывает миру и преступность войны как таковой, уже безотносительно к самому себе, и пустоту позиции любого современного ему писателя, и иллюзорность многих ценностей, которыми так дорожит человек и которые основаны на эксплуатации и присвоении плодов чужого труда. Розанов же ироничен в своих разоблачениях от начала до конца. В его творчестве четко различаются Розанов-автор и Розанов-герой. Впервые в русской философии появился герой-обыватель и герой-философ обывательской жизни. Розанов-философ добровольно создает миф о Розанове-герое, вводя читателя в искушение непонимания этого различия и одновременно принципиально меняя направление исповедальной литературы в XX в.
Оба автора делятся своими откровениями не только с читателем, но и со всем миром. «Исповедальный текст всегда замкнут и разомкнут одновременно, что позволяет воспринимать его и как становящееся внутри себя единство, и как универсальное обращение к человечеству, послание последующим поколениям» [5, с. 116]. Однако, если универсализм Толстого ясно отра- жен в его обращении к своим современникам, и в этом смысле он, подобно Ж.-Ж. Руссо, пишет для современников, то Розанов сразу же уточняет безадресную и вневременную логику своего текста, указывая на то, что читатель как адресат его давно не волнует («К черту» читателя). Его текст обращен к вневременному миру идеальных собеседников, написан для всех времен и народов и ни для кого конкретно. Главный герой и «другой» этого текста – сам В.В. Розанов во всей красе откровений, порой «интимных до оскорблений» (Шкловский), полностью само-обнажающих душу исповедующегося. «Слова у него не символы мысли, а плоть и кровь» [1, с. 349]. В этом аспекте важно подчеркнуть, что ницшеанская тенденция писать «для всех и ни для кого» – квинтэссенция исповедального текста Розанова, «биологического и полнокровного» (Н. Бердяев) по сути.
Сравнивая исповедальные тексты Толстого и Розанова, следует сказать и об их принципиальных отличиях. Исповедь Толстого развивает прежде всего религиозные традиции Августина и просветительские взгляды Руссо. Важнейшим здесь является экзистенциальный кризис, отраженный в неверии в себя, свою прежнюю жизнь, материальное благополучие, семью и т.д., то есть – потеря смысла жизни, а по сути – потеря веры в Бога как в основание жизни. Одновременно это и поиск способов и путей его обретения, то есть возвращение к смыслу жизни. В «Исповеди» Толстой сделал самого себя почти типичным примером возможного перерождения человека, преодолевшего свое животное Я на пути к Я духовному или всечеловеческому. Толстой показал свой путь остранения от самого себя социально-политического (активного члена общества: офицера, писателя, семьянина) к себе «простаку», религиозному человеку «народного типа мировоззрения», услышавшему голос Бога в себе и поверившему в Его Слова, прямо, буквально воспринимая смысл им сказанного. «Христос ничего не преувеличивает и не требует никаких страданий для страданий, а только очень определенно и ясно говорит то, что говорит… и мне стало удивительно, как мог я так навыворот понимать ясные, определенные слова» [6, с. 311].
Остранение как художественный прием срастается здесь у Толстого с исповедальной формой письма – искренностью выражения чувств и мыслей, не позволявшей его уму и сердцу лгать перед лицом очевидного противо- речия: между тем, что он видел, и тем, что он чувствовал и понимал (или не понимал) в происходящем. Исповедь – это и есть остранение от себя внешнего (животного), живущего по законам общепринятого. Она помогла Толстому услышать в себе иного – духовного человека, который есть подлинное Я, находящееся внутри каждого из нас.
Главная задача его исповеди – привести любого человека к духовному перерождению, понятому многими его современниками как вульгарный призыв к опрощению. Способность перевести регистр интересов с себя (своего эгоистического и животного Я) и своей дворянской культуры как лучшей (на самом деле – ширмы для поддержания своего животного Я) на другого есть первый шаг на пути выхода в иное измерение общей жизни. Но чтобы выйти из автоматизма своей культурной бессознательной жизни, наполненной любовью к себе, нужна рефлексия и душевная эмпатия, то есть нужно еще более мощное основание для обнаружения в себе другого. Этим универсальным Другим для Толстого стала его религиозная вера и практика жизни по Христу. Вера и практика религиозной жизни требуют усиленной работы сознания – силы жизни и разумного понимания ее законов.
В этом пункте Толстой и Розанов – принципиальные антиподы. Толстой пытается преодолеть свой субъективизм в идее универсального духовного Я. Розанов, напротив, настоятельно выступает с апологией плотского, вещного, материального, семейного человека. В отличие от Толстого он не разделяет, а соединяет плотское и духовное, феноменальное и ноуменальное в человеке, защищая те «две капли меда», от которых так истово отрекался Толстой. Для него Бог-Друг-Другие – это единый неразрывный семейный мир, куда попадает и мир вещей. Благодаря этому приему «рюшечки и слоники» семейного обывательского дома не опошлились, как у А.П. Чехова, не высмеивались, как у М.М. Зощенко, а обретали подлинное духовное наполнение, очеловечивались, войдя в космос жизни – в круг его религии семьи. Внутри мира вещей происходит борьба памяти со смертью за человека1, к ним прикасавшегося или их но- сившего; борьба семьи против мертвого слова интеллигенции, церкви или псевдокультуры о правах матери, ребенка, Бога.
С этой точки зрения Толстой и Розанов представляют два разных типа оппозиции и связи Я и Бога. Толстой – один на один с проблемой животного страха смерти, психологией восприятия своей жизни как греха, этикой потерь и экзистенцией обретения подлинного смысла жизни. Он переживает глубочайший экзистенциальный кризис разрыва своей связи с миром. Метафорой его безосновности в этот период стал описанный в «Исповеди» сон: «Вот этот сон: Вижу я, что лежу на постели. … Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело, и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе» [6, с. 57–58]. Из этого висения Толстой может выйти только сам, один, с помощью такого же единичного Бога, который – Все для него – его Другое.
Розанова одного как будто бы и нет вовсе в его исповедальной прозе, несмотря на слова о страшном вечном одиночестве и утробности духовного существования. Его одиночество, как и кризис, не совсем экзистенциальные. Он боится не себя потерять в мире, а потерять мир вне себя. Поэтому страх смерти для него – это страх не за себя, а за другого – за свою жену, за ее возможный преждевременный уход. Боязнь потери Бога – это боязнь потери семьи с ее миром людей и вещей, с ее возможной потерей памяти, личных писем, «листьев воспоминаний» о голосе, жесте, интонаций – важных составляющих любви, которые бесследно исчезают в цивилизационных жерновах монстра Гуттенберга, появлении пластинок для записей и других убивающих мелочах цивилизации. Без этого круга шуршащей интимности нет вселенского мира: нет Бога, нет истории, нет мира людей. Называя Варвару Дмитриевну своим другом, он тотчас намекает на другого Друга – на Бога и показывает равнозначность единичной и всеобщей жизни и смерти, друга и Другого. В этой равнозначности заключена и вера в Воскресение, и тождество Бога и Человека – единство плотского и духовного, земного и небесного. Жить, умирать и воскресать ни без друга, ни без Бога, ни без шума вентилятора он не может и не хо- чет. Для него, как и для Толстого, Бог – это основание и столп, но не его самого, а всего космоса семьи, совпадающего с религией жизни.
В логике изложения Розанова также используется прием остранения, но как иронический, как способ самообнажения, резко контрастирующий с толстовским. Толстой откровенен всерьез, например, разоблачая себя как воина, писателя или как семьянина, а Розанов, обнажаясь, раскрывая свои «пошлые интимности», словно ерничает над миром в своей всеразрушающей самоиронии, насмешке. Тем самым происходит подмена самокритики на самовосхищение и са-моодобрение, открываемое в его самых одиозных пассажах. Ирония исповедальных текстов Розанова обрушает и всю серьезность классики, в том числе – толстовской исповеди. На исповедальный трагизм самообнажения русского гения Розанов накладывает иронически-обы-вательский скепсис трудящегося, философа, думающего о насущном хлебе, а не о высоких идеях. Таким образом Розанов выражает и недоверие к уже завершившей свой классический круг литературной исповеди: его жанр – это оппозиция всей исповедальной литературе в принципе. Разрушить оказалось легко, вместо слез выставляя саркастическую улыбку, боль разбавляя «цинизмом», который, по словам Розанова, и есть новая форма выражения страдания [4, с. 83]: без фальши культурных ширм и серьезно-умного отношения к обсуждаемому. Толстой мечтал о литературе вне фальши иллюзорных ценностей, Розанов показал изнаночную сторону этой мечты.
Вспомним Розанова: «Толстой прожил собственно глубоко пошлую жизнь» [4, с. 161]. Эта фраза стала квинтэссенцией вульгарного принципа поведения толпы, на котором было построено всеобщее шельмование великого человека всей сворой дельцов и обывателей – «Добчин-ских» от философии, прессы, литературы, религии. Почти не заметна циническая боль автора, заключенная в этой фразе. На самом деле эта фраза – не убеждение автора, а собирательное мнение толпы, схваченное им в ней. Розанов лишь маркирует общую для модерна тенденцию иронического разрушения образа Толстого, превращения мира его искренних страданий и саморазоблачения в бульварный способ посмеяться над великим человеком, заработать себе славу на его имени, «хайпануть», как сказали бы сегодня. Это Добчинские, которые кричат на всех углах о слабостях и пороках других, зарабатывая очки даже на чужих смертях, но лишь для того, чтобы о них узнали, как великолепно заметил писатель [4, с. 107]. Розанов указывает нам, что эпоха принципиально изменилась. Толки сменились толковищем; на смену критике пришли пиар-технологии начала XX в.: анекдоты, вульгарные заметки в прессе, бесконечное тиражирование фотографий Толстого, выставленных в окнах модных магазинов для «рекламы» одежды, например; скандальное поведение папарацци около Ясной Поляны и любых публичных мест, где бывали Толстые, и тому подобные штучки стали тем миром, который в модернизме и постмодерне оказывается тождественен трем словам: «Лев Николаевич Толстой».
В иронической философии Розанова была изменена сама природа исповедального слова в литературе, изменен статус русского писателя. Напомним, что эта тема задевала и Толстого, и Розанова с одинаковой силой; оба жаждали критического преображения русского писателя. Однако Толстой отрекается от своего писательства и встает на точку зрения народа, пытаясь подражать ему не только в практике жизни, но и в жанровом смысле, создавая сказки, простые поучительнее рассказы, житийные истории и т.д. Он остраняется от своей сути ради приближения к народу – умения говорить его языком. Розановская форма письма иная. Она уроднена ему без всякого отречения; при этом он утверждает новое слово о литературе и ее героях. Розанов стремится сделать героями обывателей, и в этом он и его герои совпадают. Его мир – это мир обывателей, мещан, людей, выучившихся на медные деньги и вставших на путь трудового преображения жизни. Жанр «опавших листьев» – единственный на то время позволявший говорить о частном человеке-труженике, у которого и языка-то своего для разговора не было в отличие от русского мужика. Розанов неоднократно описывает оппозицию проституирующего слова писателя и святого молчания рядовых тружеников как базовую в современной ему культуре. Его цель – дать им язык, заговорить от их имени о жизни как она есть – с ее радостью, болью, кисеей на подушках и т.д. и показать, что Бог живет в каждом уголке не только сердца, но и дома, мира вещей, несущих память об этих молчаливых святых тружениках.
Если Толстой ищет Бога как опору для всеединства и разумного соединения всех в единый океан любви, то для Розанова Бог – это максимально близкий и родной образ, он – почти то же самое, что и его личные вещи, его семья и друзья. Мир вещей, жизнь, труд, семью он соединяет через единство феноменального и ноуменального в свою религию пола и семьи.
Список литературы Л.Н. Толстой и В.В. Розанов: две исповеди
- Бердяев Н.А. Собрание сочинений: в 3-х т. Т. 3. Париж, 1989.
- Климова С.М. Проблемы поэтики До-стоевского-Розанова-Бахтина // Человек. 2004. № 3. С. 53-65.
- Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 4. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995.
- Розанов В.В. Полное собрание "опавших листьев". Кн. 1. Уединенное. М.: Русский путь, 2002.
- Салманова И.Ф. Переписка как исповедально-диалогическое пространство русской культуры // Н.Н. Страхов в диалогах с современниками. Философия как культура понимания / Под ред. С.М. Климовой. СПб: Алетейя, 2010. С. 116-135.
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 23. М.: Государственное издательство "Художественная литература", 1957.
- Шкловский В.Б. Розанов // Розанов В.В.: pro et contra. Кн. 2. СПб.: РХГА, 1995. С. 321343.
- Denner, M.A., 2008. Dusting off the couch (and discovering the Tolstoy connection in Shklovsky's "art as device"). The Slavic and Eastern European Journal, Vol. 52, no. 3, pp. 370-388.