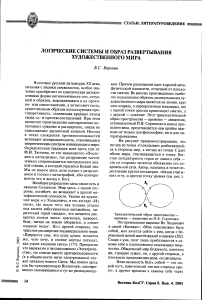Логические системы и образ развертывания художественного мира
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14975067
IDR: 14975067
Текст статьи Логические системы и образ развертывания художественного мира
В поэтике русской литературы XX века, начиная с лирики символистов, особое значение приобретает не классическая дизъюнктивная форма антиномичности тем, ситуаций и образов, выражающаяся в их проти-во- или сопоставлении, а антиномичность, существенным образом использующая противоречивость, сливающая крайние члены своих со- и противопоставлений. При этом хронотоп произведения одновременно испытывает сужение и расширение, никак не описываемое двузначной логикой. Иногда в точке схождения противоположностей возникает неопределенность, становящаяся энергетическим центром возникающего мира. Определенная традиция идет здесь еще от Ф.И. Тютчева, от его знаменитого «Последнего катаклизма», где разрушение частей земных сопровождается наступлением водной стихии, в которой отразится Божий лик. Мы не имеем здесь дела только с разрушением и только с катастрофой, ибо одновременно это и выход к Богу.
Всеобщее разрушение здесь также есть и явление Создателя. Мир здесь, с одной стороны, погибает, но возникает в другой метафизической плоскости. Таково же крушение мира и у Ходасевича, в его взгляде «Из окна», где после того, как человек угодил под колеса взбесившегося автомобиля, лирический герой ожидает, что начнется раскрутка колеса хаоса: «раскачка, выворот, беда, звезда на землю оборвется, и станет горькою вода»'. Нос другой стороны, это чудесное расширение индивидуального мира: «Прервутся сны, что душу душат, начнется все, чего хочу, и солнце ангелы потушат, как утром лишнюю свечу» (177). Прекрасно это выражено в гиппиусовском «Электричестве», где слитые вместе протавоположности (а в обыденности нити электролампы) служат началом нового Света. Мы имеем здесь как бы пульсирующую Вселенную, одновременно сжимающуюся и тут же расширяющу юся. Причем расширение идет в другой метафизической плоскости, отличной от плоскости сжатия. Во многих произведениях наиболее подходящим образом развертывания художественного мира является не линия, круг или спираль, а перекрученная восьмерка, где с одной точки зрения происходит сжатие, а с другой — сужение. Этот триалектический образ пространства — времени — движения, установленный П.Я. Сергиенко в конце прошлого века, представляется нам крайне важным не только для философии, но и для литературоведения.
На рисунке продемонстрировано, что взгляд из точки А показывает разбегающийся в стороны мир, а взгляд из точки С дает облик мира, стягивающегося в точку. Бегство литературного героя от самого себя — это со стороны читателя обнажение его сокровенной сути. Автор, находясь в точке пересечения кругов восьмерки, обязан учитывать и ту, и другую точку зрения (см. рис.).
Триалектический образ пространства — времени — движения по П.Я. Сергиенко
Это превосходно выразил Вл. Ходасевич в своей «Балладе»: «Мне невозможно быть собой, мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет безрукий в синема» (282). Сходя с ума, поэт лишь приближается к самому себе в платоновском понимании творчества. Обыденный мир безрукого, конечно же, страшно сужен, но, с другой стороны, в плоскости продолжения рода, он расширен.
Невозможность быть собой — это порой путь, намеченный «во все стороны сразу», в другие времена к самому себе через другие измерения мира. Так у Гумилева в его «Прапамяти»:
И вот вся жизнь! Круженье, пенье, Моря, пустыни, города, Мелькающее отраженье Потерянного навсегда2.
Как видим, лирический герой пребывает в ложном расширяющемся мире, тогда как по сути он «простой индеец, задремавший в священный вечер у ручья» (318) и переживающий свое далекое будущее в некий мистический момент истины давнего настоящего. В «Прапамяти» отчетливо явлены лишь два противоположных полюса истины и лжи, а на том, что происходит между ними, автор не останавливается.
Иначе у лирического героя Брюсова, совершающего свое путешествие по воде:
Скользя в свободной гондоле, Себя я чувствую в склепе, Душа томится по воле
И любит звучные цепи 3.
Как видим, и в поэтической реальности, и в в воображении герой свободен и не свободен, стремится к воле и к рабству. Существование противоречия как раз и говорит о том, что в художественном мире действуют законы многозначных логических систем. Можно сказать, что между свободой (истиной, обозначаемой как I) и рабством (ложью, обозначаемой как 0) находится некое неопределенное состояние (обозначаемое как */2), которое в зависимости от контекста может проясняться, утверждаться и отрицаться в художественном мире.
Поэтому можно говорить о трехзначной логической системе этических ценностей лирического героя. О неопределенности положения самого человека между духом и плотью поэтами, теологами и философами написано достаточно много. Отметим лишь, что итальянский мистик XIII века Иоахим Флор-ский считал это положение основной характеристикой эры Христа перед наступлением царства Святого Духа.
Все это приводит к тому, что в художественной литературе XX века все большую роль начинает играть система неопределенностей, связанная, с одной стороны, с безнадежным реальным положением дел, а с другой стороны, со страстной надеждой, что ухудшение мира перейдет в его преображение. Логически этот «цикл преображения» можно выразить формулой (Л z> 1Л) а (14 => Л), то есть: «Л влечет не-А и не-А влечет Л», а на житейском языке поговоркой: «Нет худа без добра, а добра без худа». Этот цикл преображения многократно обыгрывался литературой предыдущих веков, но в высших достижениях литературы XX столетия прозвучало сомнение в его бесконечности. В классической двузначной логике вышеуказанная формула ложна, поговорка же иногда оказывается истинной, и это значит, что реальная жизнь подчиняется многозначной логике, находящей отражение и в литературе. В простейших трехзначных логиках Гейтинга и Лу-касевича вопрос о бесконечном чередовании упадка и возрождения может быть увязан с отрицанием неопределенности. Если такое отрицание ложно, то ложен и «цикл преображения». Если же такое отрицание — снова неопределенность, то «цикл преображения» сохраняет вероятность бесконечного существования. Формула цикла удивительно универсальна, она схватывает существенные черты и теории пульсирующей Вселенной, и христианской судьбы человечества. Обращаясь к вышеназванной поговорке, мы видим, что она в известном смысле приравнивает противоположности. Но в двоичной логике представить себе равенство противоположностей невозможно. В ней только два значения истинности: да или нет, ложь или истина, Вселенная расширяется или сужается. Но в действительности, равно как и в отражающей ее литературе, огромную роль играет неопределенность. Общеизвестна оценка будущего Онегина, данная Белинским: «Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию?»4. Казалось бы, можно привести некоторые доводы в пользу того или иного варианта решения проблемы и выбрать наиболее убедительный из них. Однако критик настаивает на принципиальной неопределенности ответа: «Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца?»5. В логике Лукасевича матрица отрицания дается в следующем виде:
|
X |
Лх |
|
1 |
0 |
|
% |
*/2 |
|
0 |
1 |
Как видим, в одном из трех случаев система Лукасевича допускает равенство про- тивоположностей (X = 1¥= */2). Можно показать, что в этом случае достигается истинность цикла взаимопереходов противоположностей. Более того, допустимо бесконечное повторение таких циклов, мир не окончателен, поскольку обладает неопределенностью, отрицание которой есть тоже неопределенность («золотая середина» нашей матрицы).
В трехзначной логике Гейтинга отрицание неопределенности ложно, и она имеет следующую матрицу отрицания:
|
X |
1Л- |
|
1 |
0 |
|
‘/2 |
0 |
|
0 |
1 |
В этом случае нет равенства противоположностей и невозможно существование цикла.
Мир художественного произведения, разумеется, выходит за рамки двухзначной, трехзначной и даже многозначной логики. Но сам этот выход за пределы оказывается знаковым и интересным, демонстрирует многообразие художественной неопределенности, ее отрицания и цикла взаимопереходов. Проследим за тем, как в стихотворении В. Брюсова «З.Н. Гиппиус» многозначность истины оборачивается гармонией творчества и свободы: «Неколебимой истине / Не верю я давно, / И все моря, все пристани, / Люблю, люблю равно. / Хочу, чтоб всюду плавала / Свободная ладья, / И Господа, и Дьявола / Хочу прославить я»6. Мы видим, что прославление Господа не переходит в хулу Дьявола и обратно. А и не-А сосуществуют. А это логика Лукасевича, предполагающая цикл. Поэт вправе оборвать течение строк где угодно, но любопытно, что завершающим образом становится именно цикл. Видимо, художественная логика тоже требует этого: «Когда же в белом саване / Умру, пускай во сне, / Все бездны и все гавани / Чредою снятся мне» (1, 355). Бесконечное чередование бездн и пристаней воспринимается автором оптимистически. Эго пульсирующая Вселенная, где неопределенность жизни и смерти, явленная во сне, ею и остается. О младших символистах этого не скажешь. А. Белый («Умрешь — проснешься, в сон от сна»), А. Блок («Ночь. Улица. Фонарь. Аптека») чередование смертей и рождений будут переживать как дурную бесконечность, как один и тот же круг, из которого нет выхода.
Разумеется, трехзначные логические системы текста связаны с той внетекстовой реальностью, в которой происходит поляриза ция сил, а автор, его центральный персонаж или лирический герой оказывается в промежуточном состоянии, в ситуации выбора. Показательным является в этом отношении стихотворение З.Н. Гиппиус «Между», помеченное 1905 годом: «На лунном небе чернеют ветки, / Внизу чуть слышно шумит поток, / А я качаюсь в воздушной сетке, / Земле и небу равно далек»7. Несколько необычно время, избранное лирическим героем для «качаний в воздушной сетке». Неопределенность среднего положения героя подчеркивается многократно. Он не только над землей, но еще и над потоком — этой аллегорией непрерывного движения. Небо обездвижено, а сам герой движется, но очень своеобразно: это покачивание относительно положения равновесия, «движение на месте». Таким образом, не только по отношению к земле и небу, но и по отношению к движению и покою лирический герой занимает срединное положение. Далее перечисляются неприемлемые крайности: «Внизу — страданье, вверху — забавы, / И боль и радость — мне тяжелы. / Как дети, тучки тонки, кудрявы... / Как звери, люди жалки и злы» (155). Лирический герой пространственно — в воздушной сетке, между небом и землей. Он подвешен между тучами и людьми, первые напоминают ему детей, вторые — зверей. Понятно, что небу, верху и детям можно здесь приписать высшую истинность, земле, низу и зверям — ложность, а положению самого героя — неопределенность. И он признается: «Людей мне жалко, детей мне стыдно, здесь — не поверят, там — не поймут, внизу мне горько, вверху — обидно, и вот я в сетке — ни там, ни тут» (155).
В двузначной логической системе нельзя быть ни там ни тут, поскольку эта оппозиция исчерпывает в заданном смысле все пространство. С другой стороны, если мы можем отнести слово «там» к месту, удаленному от лирического героя, то «тут» указывает на то, что рядом, и может относиться и к самой сетке. Отрицание этой неопределенности произойдет на рассвете, и лирический герой знает, что его сожжет солнце. Но, вероятно, возможность ускользнуть существует, ибо лирический герой задается вопросом, останется ли он в сетке до восхода солнца. Таким образом, положение в сетке не является истинным. Можно сказать, что отрицание неопределенности заключает в себе смерть и потому является ложным. Цикл гибели и возрождения здесь не предвидится. Художественный мир поэтому исчерпывается одним кругом бытия.
Творческим истоком повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского» стал рассказ Горького о фанатиках веры, в которых мучительно уживается несовместимое равенство истины и лжи: «Рассказывал о моих личных наблюдениях над людьми догмата, — они часто являются добровольными пленниками слепой, жесткой веры и тем более фанатически защищают истинность ее, чем мучительнее сомневаются в ней»8. Леонид Андреев тоже не остался в долгу, заметив Горькому, что тот «говорит, как атеист, а думает, как верующий». И сейчас же пообещал «написать о попе»9. В появившейся повести четко представлены два круга бытия священника, соприкасающиеся в сакральном месте — в церкви, в которой он служит. И в то время как круг обыденного бытия под воздействием целой серии несчастий, обрушивающихся на отца Василия, неизмеримо сужается, рвутся все связи с родными людьми, воцаряется отчужденность между ним и прихожанами, ему кажется, что происходит неизмеримое расширение его внутреннего мира, что именно на нем остановил свой выбор Бог. В художественном пространстве возникает два главных центра — дом и церковь. После гибели сына в ясный солнечный день для попадьи, для домашних отца Василия внешняя яркость мира надолго отождествится с внутренней темнотой дома, радость — с горем. Своеобразным знаком совпадения противоположностей является реакция попа на пьянство жены: «Когда о. Василий в первый раз увидел пьяную жену и по мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда, — он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки»10. Здесь противоречиво не только внутреннее состояние отца Василия и его жены, но и образ времени, возникающий здесь: настоящее «первый раз» соединяется с будущим, данным «навсегда».
Равенство противоположностей света и тьмы должно бы было предполагать логическую систему Лукасевича и возможность цикла. И эта возможность как будто бы намечена новой беременностью попадьи, однако рожденный ею сын оказался идиотом. В солнечный яркий день сгорает дом отца Василия и смертельные ожоги получает его жена. Новый дом оказался недостроенным. Несовер-шество этих циклов реального мира не подвергает сомнению веру отца Василия в возможное совершенство небесного. Аскетичес- кое служение Богу даже в несчастьях уподобляет отца Василия библейскому Иову, достойно несущему свой тяжкий крест.
Расширение внутреннего мира почувствует и антагонист героя — церковный староста Иван Порфирыч. Погиб его работник, и вот теперь он требует ответа: «Где Семен, говори!» (546). Староста убежден, что поп приперт к стенке неопровержимыми уликами его нечестивости. Но, по мысли попа, Семен до сих пор находится в точке пересечения бытия и небытия, из которой еще можно вернуться. Бунтующий староста вынужден подчиниться отцу Василию, ибо на него «смотрели бездонно-глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота, и чья-то могучая жизнь билась за ними, и чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч» (546). За «кругами глаз» священника становится ощутимым круг сверхбытия. В момент схождения кругов бытия и небытия, во время отпевания погибшего Семена Мосягина и происходит катастрофа.
Какие-то неясные толки, ожидание чуда привлекают в церковь «людей из дальних сел», и в храм набивается столько народа, что «уже трудно было дышать от тесноты, а сзади напирали все новые молчаливые ряды» (546). Однако это только один круг сжимающегося мира. Через церковь проходит и другой круг — бесконечного расширения. Автор так говорит об этой пространственной абсурдности взаимодействия реального и кажущегося: «локоть прикасался к локтю, а казалось, что человек стоит один в безграничной пустоте» (546).
Таким образом, в данном локальном месте сходятся единство и множество, ограниченность и безграничность, плотность и пустота. То же происходит и в природе. Небольшая тучка, появившаяся на светлом небосклоне, затмевает солнце, темнота вползает в церковь, собирается в ней: «И всю, казалось, темноту, впитали в себя черный гроб и черный священник» (549). Автор говорит и о переходе противоположностей друг в друга. Избыток темноты готов обернуться светом: «Уверенно и спокойно двигался он, и чернота его одежд казалась светом среди ослепленной позолоты, пепельно-серых лиц и высоких окон, сеявших тьму» (549). Опыт воскресения оказался неудачным, и во время его проведения люди начинают разбегаться из церкви, а отцу Василию, выбежавшему последним, кажется, что рушится целый мир, в то время как горизонты его реального видения расширяются. И упав на бегу, умерев, он и мертвый продолжает лежать в позе, запечатлевшей стремительность бега. Здесь мы имеем взаимопереход противоположностей, есть все намеки на цикл, но самого цикла гибели и возрождения не происходит. Мы сталкиваемся здесь с двумя типами отрицания неопределенности пограничного состояния.
В трехзначной логике Поста мы имеем два типа отрицания: циклическое и симметричное. При этом истина обозначается цифрой 1, неопределенность — 2, ложь — 3, а логическое умножение — как максимум значений сомножителей. В многозначной логике Поста опять же истине соответствует единица, а другие значения истинности: 2, 3, 4,... п — все более полные заблуждения. Нас не должно удивлять то, что истине приписано меньшее значение. По известному замечанию Пушкина, «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».
В притчах Евангелия от Матфея можно встретиться с еще более странной логикой: «Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся. И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более нежели о девяноста девяти не заблудившихся» (Мф. 18:12—13). Можно видеть, что в отношении радости девяносто девять и одна имеют противоположные значения, и высшая истинность закрепляется за единицей. Циклическое отрицание со-ответсвует круговому течению времени, ритмическому повторению вдоха и выдоха, ночи и дня, сезонов года и т. п. Здесь каждое последующее состояние отрицает предыдущее. Симметричное отрицание действует так же, как и в логической системе Лукасевича. Таблица истинности для закона непротиворечия в трехзначной логике Поста с учетом двух типов отрицания имеет вид:
|
X |
ХлДхХ |
2Га122Г |
||
|
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
|
3 |
1 |
1 |
3 |
3 |
Как видим, в логической системе Поста в статусе неопределенности допустимо существование противоречия в двух из шести вариантов. Можно показать, что цикл упадка и возрождения не достигает истины ни при каких значениях в логике Поста, но в половине всех случаев остается неопределенностью.
Круговое и линейное течение времени сталкиваются в стихотворении И. Анненского «Листы»: «На белом небе все тускней / Златится горняя лампада, /Ив доцветании аллей / Дрожат зигзаги листопада. / Кружатся нежные листы / И не хотят коснуться праха... / О, неужели это ты, / Все то же наше чувство страха»11. Здесь сразу подразумеваются трипластии положения листа (на ветке, между веткой и землей, земля) и его движения (круг, зигзаг, линия). Наделение листьев чувством страха позволяет автору поставить вопрос о бесконечности человеческого сознания: «Иль над обманом бытия / Творца веленье не звучало, / И нет конца, и нет начала / Тебе, тоскующее я?» (58). С кругом реальности взаимодействует круг некоторого природного сознания. Звучит сомнение в Творце и в возможности перевоплощения. Неопределенность между живыми и мертвыми листьями отрицается так, что они становятся прахом (циклическое отрицание), а симметричное отрицание неопределенности положения человека между жизнью и смертью сохраняет эту неопределенность. Это отвечает логической системе Поста. Парадоксальным образом сужающийся круг бытия листьев служит для лирического героя прорывом в расширяющуюся вселенную сознания.
Художественные миры могут быть принципиально однозначными. Однозначная логика соответствует тому положению вещей, когда все заранее предопределено. Лирический лапласовский детерминизм часто связан с такими разными вещами, как любовь и смерть. Именно так заявлена единственность любви у З.Н. Гиппиус («Любовь — одна»):
Мы негодуем, иль играем,
Иль лжем — но в сердце — тишина.
Мы никогда не изменяем:
Душа одна — любовь одна (90).
Конечно, негодование или игра — существенно разные вещи. Высшая истина принадлежит сердцу, которое попросту не реагирует на ложь, здесь нет альтернативы, нет выбора, поэтому логическая система здесь однозначна, имеет одно истинное значение. Стихотворение открывается образом одинокой волны, накатывающейся на берег: «Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна» (90). Множество волн создает многообразную изменчивую картину прибоя, но одна волна, выхваченная из этого пейзажа, имеет однократную и конечную судьбу. Мерами изменяющемуся прибою волна никак не про- тивопоставлена. История индивида и история человечества совершаются уникально и однократно. Выбора нет, ибо он заранее задан начальными условиями. Перед нами метафизический образ неизменного и вечного круга любви, жизни и смерти.
Ничего постоянного нет на этом свете. Поэтому то, что не изменяется, — вне пространства и времени этого мира. Отсюда и вывод поэтессы: «Лишь в неизменном — бесконечность, лишь в постоянном глубина. И дальше путь, и ближе вечность...» (90). Время здесь не противопоставляется вечности, оказывающейся вполне достижимой. Таким образом, однозначная логика предполагает известный абсолют, неизменное при всех отклонениях следование в одном направлении. И не случайно завершает стихотворение сравнение любви и смерти в их единственности. Итак, высший смысл существования оказывается за пределами земного пути.
Может возникать и бесконечномерная система логического заблуждения с истиной только в своем сверхъестественном звене — Боге. Так в гиппиусовской «Мере». Мир лишен гармонии, и в нем все идет само собой, но этот ход вещей и явлений не представляет собой чего-то твердо выверенного, раз и навсегда установленного. Впрочем, в первой строфе поправки для нахождения меры очевидны: убавить то, чего много, прибавить того, чего пока нет. Но во второй строфе положение дел меняется:
Свершится ли что — не так, Некстати, непрочно, зыбко... И каждый не верен знак,
В решенья каждом — ошибка (264).
По существу, это уже совершенно другая логическая система, резко отличающаяся от изложенной в первой строфе, где истина почти достижима. Во второй строфе мир таков, что исправлению не подлежит. Каждое принятое человеком решение не улучшает мир, а умножает число ошибок. Каждый шаг лишь удаляет человека от истины. Это система бесконечномерного заблуждения. Но своеобразный предел заблуждающегося мира дал Брюсов в стихотворении «К олимпийцам». Если у Гиппиус мерой обладает Господь, то у Брюсова нет и этого критерия истинности: «Все — обман, все дышит ложью, / В каждом зеркале двойник, / Выполняя волю божью, / Кажет вывернутый лик» (421).
Как видим, даже воля Бога проявляется не в том, чтобы обнаружить истину, а в том, чтобы скрыть ее.
В поэзии И. Анненского свет и тень, жизнь и смерть, миг и бесконечность представляют собой полярные противоположности, которые в определенных условиях не исключают друг друга, а сливаются вместе в некоторое исключенное третье. В ситуации хрупкого равновесия даже малое усиление одной из противоположностей становится роковым для их парного сосуществования. Так, в стихотворении «Свечку внесли», в час, «когда сумерки ходят по дому», рядом располагается «иная среда, где живем мы совсем по-другому» (86). В этой среде мягких слившихся теней люди особенно близки друг другу, ибо соединены «лучами незримыми глаз» (86). Но вот, по-видимому, в комнате становится темно, и вносят свечку. Казалось бы, что теперь тени совершенно отчетливо проявятся на стенах, полу или потолке помещения, как это всегда и бывает в мире физической реальности. Но происходит обратное. Пугливый мир теней «уступает без боя», тени сами сбегают в голубое пламя. Пограничное состояние дня и ночи, света и тьмы прекращает свое существование когда, с одной стороны, наступает ночь, а с другой стороны, появляется свет, который, будучи очень слабым, ведет себя по отношению к теням как солнечный полдень. Двуликость большого и малого мира теней (это вся «иная среда» и то, что умещается в пламени свечи) подана здесь в скрытом виде, но с явным осознанием катастрофы, случившейся только что и из-за пустяка. Размерности теневого пространства свертываются, и оно исчезает в пламени. Теневой мир здесь — безусловно положительная сфера бытия, сфера незримого единства людей, единства вне слов и движений, это как бы бессветный свет незримых лучей, рожденных человеческими глазами и убегающих в пламя свечи по лучам другого света. Следует отметить, что в данном случае поэт соприкасается с одной из древних теорий света и зрения, согласно которой мы видим, благодаря лучам, испускаемым нашими глазами. В силу фольклорной и мифологической традиции можно именно свету приписать значение истины, тьме — значение лжи, и тогда значение бессветного света можно считать неопределенным, полуправдой, вполне соответствующей времени своего появления: ни дню, ни ночи, а их границе — сумеркам. Отрицание этой неопределенности есть ночь за стенами дома и слабый свет внутри него. В сущности, мир Анненского в этом стихотворении подчиняется трех-
; СТАТЬИ: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ =~ значной логике с двумя типами отрицания: циклическим и симметричным. Но приближенно можно считать, что отрицание бессветного света есть новая неопределенность. Важно также, что свою свертываемость мир теней, которому поэт готов приписать высшую истинность, обнаруживает при внесении света, частицы истины и блага, что в общем-то делает возможным и третий тип отрицания неопределенности.
Восьмистишие «Среди миров» в качестве базовой системы отсчета выбирает то, что, по мнению Канга, наиболее достойно удивления — «звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас»12. Чувства лирического героя далеки от определенности зримой реальности, хотя выбор звезды-избранницы вполне логичен. Из всего небосвода вычеркиваются все звезды, с которыми он томится, и тогда остается одна Единственная. Очевидно, она должна светить, иначе ее попросту не заметишь. Однако оказывается, что разрешение тяжелых сомнений последует «не потому, что от Нее светло, а потому, что с Ней не надо света» (153). Итак, путеводная звезда лирического героя обладает неким «бессветным светом», просветляющим душу. Между светом и тьмой заключено некое третье состояние, не требующее света. Более того, сумеркам души, как и теневому миру из стихотворения «Свечку внесли», излишний свет может оказаться вредным для единения и уединения героя и звезды-избранницы. Отметим, что и само название стихотворения означает не только место, где герой производит свой выбор, а некое междуцарствие света и тьмы, «я» и «не-я», природы и человека.
«Миг перехода к небытию или инобытию запечатлен Анненским в стихотворении «оо». Бесконечность здесь абсолютно не страшна, а буднична, похожа «на опрокинутое 8» (абсурд типа «Л как не-А»). Но подтекст, конечно, присутствует и здесь, ввиду символики числа восемь: именно такое количество людей начинало свою новую жизнь после библейского потопа. Поэтому «опрокинутое 8» — это и конец послепотопной цивилизации, необходимость ее нового исправления или обновления, поскольку уже оказалось, что бесконечность — «отраднейшая ложь, из всех, что мы в сознаньи носим». И человек, и человечество почти всегда уверены в том, что все беды поправимы, что все еще можно переделать, что время еще есть. Сознание оценивает себя как бесконечно длящееся, ибо оно все время что-то отражает. Но миг смерти неотвратим, и в этот миг умещается вся бесконечность. Отраднейшая ложь пере ходит в беспощадную правду, будничность «опрокинутого 8» сменяется торжественной литургией конца:
Но где светил погасший лик Остановил для нас теченье, Там бесконечность — только миг, Дробимый молнией мученья (55).
То, что в название стихотворения автор вынес математический символ бесконечности, заставляет предположить особенную активность ассоциаций именно такого плана. Тогда получается бесконечность, равная не всему целому мигу, а лишь его части, тем меньшей, чем больше человеческое страдание, должное свести «отраднейшую ложь» к «моменту истины».
Как видим, отрицание неопределенности пограничного состояния между жизнью и смертью является здесь новой неопределенностью и не кончается нулевым временем. Человеческое страдание раздвигает точки жизненного пути в самом конце жизни, подобно микроскопу, и последняя точка оказывается не поставленной.
Поиск некоторого промежуточного состояния между жизнью и смертью, бытием и небытием нашел свое выражение в известных лермонтовских строчках:
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь |3.
Лермонтовское забытье — это жизнь, преодолевающая смерть навсегда. Это вечное бодрствование после смерти; и ночью, и днем поэт желает слышать голос, поющий о любви.
У Анненского — жажда совершенно иного забытья — бессильного и неподвижного: «Когда б не смерть, а забытье, чтоб ни движения, ни звука... ведь если вслушаться в нее, вся жизнь моя — не жизнь, а мука» (189). Умирающая природа тающих дней и увядающих листьев соответствует этому состоянию, тогда как фоном лермонтовского забытья выступает вечно зеленеющий дуб. В лермонтовском тираничном состоянии слышен голос любви, а лирического героя И. Анненского всюду сопровождает мука; в первом случае жизнь преобладает над смертью, во втором — наоборот. Можно сказать, что между жизнью и смертью располагаются «жизнесмерть» Лермонтова и «смертожизнь» Анненского, то есть мы имеем как бы четырехзначную логику оценок воли к жизни.
Впрочем, многозначной логики И. Анненскому иногда не хватает. В его «Двойнике» мы сталкиваемся с логикой переменного основания:
Не я, и не он, и не ты, И то же, что я и не то же: Так были мы где-то похожи, Что наши смешались черты (56).
«Аналитик “сумеречных” состояний современной души»14 изобретает гибрид единственного и множественного числа, некое новое лицо, но тоже в глубинной своей подоплеке родственное месту. В самом деле, если «я» соотносимо со «здесь», «ты» — с близко лежащим, а «он» — с определенным пространством, то «где-то» может быть соотнесено с любым из этих местоположений. И хотя речь все-таки идет о двойнике, последний тоже двоится: «Горячешный сон волновал обманом вторых очертаний» (56).
От абсурда в трехзначной логической системе лирический герой переходит к противоречию в рамках двузначной логики, и «полог ночи немой» отражает «мое и другое дыханье, бой сердца и мой и не мой» (56). Поэтому можно сказать, что в данном стихотворении осуществляется переход от многозначной логики к двузначной и, наконец, к однозначной, соответствующей полному отщеплению двойника от лирического героя. Но к чему это приведет, совершенно неизвестно. Второе «эго» героя — «и то же, что я, и не то же», но вместе эта незримая чета составляет третье лицо со смешанными чертами. Поэтому-то это смиренное «я» и не знает, каково оно одно, само по себе: «Когда наконец нас разлучат, каким же я буду один?» (56).
В ряде стихотворений 3. Гиппиус действует трехзначная логическая система Рейтинга, исключающая цикл. Любопытно, что цикл исключается при этом и художественно.
В ее стихотворении «Часы стоят» остановка мирового времени сопряжена с будничными деталями, в которых бессмертие кажется смертью:
На скатерти холодной неубранный прибор, Как саван белый, складки свисают на ковер (127).
Удивительно, но остановку времени 3. Гиппиус связывает с увеличением силы тяжести, с коллапсом, что вполне соответствует современным физическим теориям.
Ничто не изменилось, ничто не отошло, Но вдруг отяжелело, само в себя вросло (127).
Этот обратный рост в самого себя и есть катастрофическое сжатие тела под действием собственной силы тяжести. Выхода из этого состояния нет: это «конец, но без конца». Вековая мечта человечества, грань, отделяющая людей от богов, достигнута. Но это не чудо, а выход в другую вселенную:
И все, чем мы за краткость,за легкость дорожим Вдруг сделалось бессмертным, и вечным, и глухим (128).
Циклом без просветления представляется поэтессе вся человеческая история еще в «Сообщниках», адресованных В. Брюсову. История — неизменяемая и вечная Голгофа:
Вчера, и завтра, и до века, оба —
Мы повторяем казнь — Ему и нам (137).
В «Августе» дождь сводит воедино небо и землю, и в этой «дождевой пустыне» царят «дневная ночь», «ночные дни». Выход из этого пространственно-временного абсурда вполне фантастичен и эсхатологичен: солнце уравнивается с Богом, и оно должно помочь плененной душе тем, что просияет, коснется и сожжет ее. Как видим, и здесь отрицание неопределенности оказывается ложным.
«Земля» начинается опустошением земного мира, Солнечной системы и Вселенной:
Пустынный шар в пустой пустыне, Как Дьявола раздумие...
Висел всегда, висит поныне. Безумие! Безумие! (171).
Взгляд очень издалека, из космоса, безусловно, увидит так Землю, но куда-то исчезли другие космические объекты. А если это так, то вечное существование земного шара — чистейшее «безумие», и здесь поэтесса права.
Знаменательно, что в «Земле» отрицается возможность чередования мук ада и спасения и открыто декларируется именно троичная логика: «ни лжи, ни истины не надо...» (171). В роли неопределенности выступает забвение, отрицаемое в следующей и последней строфе. «Забыть» превращается в «не быть», а перед этим опустошаются даже глаза человека:
Сомкни плотней пустые очи
И тлей скорей, мертвец.
Нет утр, нет дней, есть только ночи... Конец (172).
Третья строчка последней строфы полностью характеризует отрицание в логичес- кой системе Рейтинга, отрицание пограничного состояния между днем (традиционным временем истины) и ночью (традиционным временем лжи) является ночью. Система Рейтинга логически исключает цикл, и то, что художественная система 3. Гиппиус, наделяющая цикл признаками безумия и смерти, использует логику Рейтинга — закономерно.
«Верила ли Гиппиус в дьявола?» — спрашивает А. Пайман. И отвечает: «Поскольку она видела в падшем ангеле, в падшей твари отражение собственного страдания и унижения, — да»15. В «Земле» оказывается, что земной шар — это не реализованный замысел Бога, а лишь раздумие Дьявола. В целом отрицательные начала: дьявол, хаос и нелюбовь — проявляют в творчестве 3. Гиппиус заметно большую активность, чем их противоположности. Так же активна и ночь, могущая быть и положительным полюсом бытия, когда, как в стихотворении «Ночью», «соприкасаются начала и концы» (146), и отрицательным, когда она знаменут собой один «конец».
В тяжелые дни гражданской войны ночь становится нескончаемой, ее бессилен отменить и человек (в своей душе), и природа (в окружающем мире):
Не рассветает, не рассветает... На брюхе плоском она ползет. И все длиннеет, все распухает... Не рассветает, не рассветет (240).
Ночь уподобляется мифическому чудовищу (возможно, змее). Третья строчка вводит такой закон абсурда, как совпадение противоположностей: должное происходить укорочение оказывается лишь удлинением и распуханием. Ночь, проходя, все еще приходит, и чтобы помыслить это в реально-фантастическом аспекте, мы должны вообразить змею (или газовое облако), опутывающую земной шар и заслоняющую солнце. Сопротивление обстоятельствам в такой системе отсчета невозможно.
Для 3. Гиппиус не было деления времени на плохое и хорошее; в ее художественной концепции истории преобладающую роль играет не изменение, а развитие уже существующих потенций. Зерна настоящего посеяны в прошлом, и поэтому худший урожай заложен в самом качестве посева: «Не отдавайся никакой надежде и сожаленьям о былом не верь. Не говори, что лучше было прежде... Ведь, как в яйце змеином в этом Прежде таилось наше страшное Теперь» (370). Стихотворение написано в 1940 году. Поэтессе есть, вроде бы, что вспомнить, но она предпочитает отказаться от любых упований на будущее и заодно разоблачить сказку о том, что раньше было лучше. Если в этом «раньше» находятся все причины худшего положения вещей, то это «раньше» нельзя считать хорошим. Такая концепция исторического процесса считает его однолинейным и лишенным воздействия случайностей. Течение времени — только раскрытие тех или иных следствий из давно заложенных начальных условий и причин. Прошлое время связывается поэтессой со змеиным яйцом, а следствия из него — со змеенышами, исторический процесс теперь — нашествие гадов, но не на Москву, как у М. Булгакова, а на всю планету. Умножается количество змей — расширяется пространство, захвытываемое ими: «Ползут они скользящей чередою, ползут, ползут за первою змеею, свивая туго за кольцом кольцо...» (370). Рост змеиного царства быстро достигает возможного предела: «Ах, да и то, что мы зовем Землею, — не вся ль Земля — змеиное яйцо?» (370).
Вопрос вполне логичен и для библейской версии изгнания Адама и Евы из рая, и для реальной концепции развития жизни на Земле как исходном начальном условии будущей истории человечества. Во многих мифологиях мира змей — «извечный враг солнца и мирового порядка, воплощение мрака и небытия»16. Но того, что поэтесса хочет доказать, она не доказывает, ибо изображает нарастающее «озмеение» Земли. Раньше змееныши дремали в яйце, и поэтому тогда было лучше, чем сейчас, а теперь все еще терпимо, но будущее — наихудшее. Поэтому на будущее нельзя надеяться, но сожаленьям о былом можно верить. Все это опять-таки отвечает трехзначной художественной логике. Прошлое — истина, будущее — ложь, настоящее — неопределенность: «змея головку только показала» (370), еще не отпала скорлупа, и еще существует случайность другого порядка событий. Художественное сравнение пришло в противоречие с заявленным с самого начала утверждением, согласно которому прошлое, будущее и настоящее одинаково ложны.
Связанная в глубинных своих основах с христианским миросозерцанием и троичностью бытия русская литература XX века, представляя жизнь как систему неопределенностей, неизбежно затрагивает и вопрос об отношении к этой системе. И у авторов, и у их персонажей отношение к неопределенности оказывается двойственным. Но чаще всего можно говорить о том, что отрицание неопределенности ложно, и «цикл преображения» невозможен, однако в ряде случаев дело обстоит так, как в стихотворении И. Анненского «Свечку внесли», когда отрицание неопределенности может быть даже истинным, но только в физическом мире, тогда как в нравственном, в духовном мире отрицание неопределенности ложно. Поэтому физический мир сохраняет надежду на спасение и обновление, тогда как в нравственном смысле такого цикла и не предвидится.
Таким образом, глубинный результат троичной логики бытия и ее литературного преломления парадоксален: мир и человек могут быть спасены материально, но духовных предпосылок к этому нет.
Список литературы Логические системы и образ развертывания художественного мира
- Ходасевич В.Ф. Стихотворения. Л., 1989. С. 177.
- Гумилев Н.С. Избранное. М., 1989. С. 348.
- Литературное наследство. Т. 85. М., 1976. С. 40.
- Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1981
- Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. М, 1973. С. 355.
- Гиппиус З.Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 155.
- Горький М. Леонид Андреев//Поли. собр. соч.: В 25т. Т. 16. М., 1973. С. 320.
- Андреев Л.Н. Собр. соч.: В6 т. Т. 1. М., 1990. С. 491
- Анненский И. Стихотворения и трагедии. М., 1990. С. 58
- Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. I. M., 1965. С. 499.
- Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4т. Т. 1. Л., 1979. С. 488.
- Громов П.А. Блок, его предшественники и современники. Л., 1986. С. 208.
- Пайман А. История русского символизма. М., 1998. С. 48.
- Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 468.