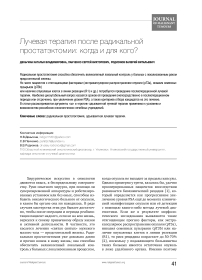Лучевая терапия после радикальной простатэктомии: когда и для кого?
Автор: Деньгина Наталья Владимировна, Панченко Сергей Викторович, Родионов Валерий Витальевич
Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors
Рубрика: Диагностика и лечение опухолей. Состояние проблемы
Статья в выпуске: 1 (5), 2013 года.
Бесплатный доступ
Радикальная простатэктомия способна обеспечить великолепный локальный контроль у больных с локализованным раком предстательной железы.Но части пациентов с отягощающими факторами (экстракапсулярное распространение опухоли (pT3a), инвазия семенных пузырьков (pT3b)или наличие опухолевых клеток в линии резекции (R1) и др.) потребуется проведение послеоперационной лучевой терапии. Наиболее дискутабельный вопрос касается сроков её проведения (непосредственно в послеоперационном периоде или отсроченно, при увеличении уровня PSA), а также критериев отбора кандидатов на это лечение.В статье рассматриваются аргументы «за» и «против» адъювантной лучевой терапии применимо к условиям и возможностям российских онкологических лечебных учреждений.
Радикальная простатэктомия, адъювантная лучевая терапия
Короткий адрес: https://sciup.org/14045445
IDR: 14045445
Текст научной статьи Лучевая терапия после радикальной простатэктомии: когда и для кого?
ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, г. Ульяновск. Ульяновский государственный университет, кафедра онкологии и лучевой диагностики.
Хирургическое искусство в онкологии движется ввысь, к беспредельному совершенству. Руки опытного хирурга, при помощи ли суперсовременной аппаратуры и роботизированных установок или без оных, способны избавить онкологического больного от опухоли, в каком бы органе она ни находилась. В ряде случаев мастерства этих рук бывает достаточно, чтобы после операции и периода реабилитации пациент надолго, если не на всю жизнь, вернулся к своему привычному образу жизни и активной деятельности. В частности, это касается лечения «святая святых» мужского малого таза — предстательной железы. Радикальная простатэктомия уже довольно давно и прочно вошла в нашу жизнь; она способна обеспечить великолепный локальный контроль у больных с локализованным процессом, когда опухоль не выходит за пределы капсулы. Однако примерно у трети, казалось бы, удачно прооперированных пациентов впоследствии развивается биохимический рецидив [1], который определяется как прогрессивное увеличение уровня PSA ещё до момента клинической манифестации опухоли или её детекции с помощью какого-либо метода лучевой диагностики. Если же в результате морфологического исследования выявляются такие отягощающие прогноз факторы, как экстра-капсулярное распространение опухоли (pT3a), инвазия семенных пузырьков (pT3b) или наличие опухолевых клеток в линии резекции (R1), то риск рецидива возрастает до 50-70% [2], поскольку у подавляющего большинства таких больных имеется остаточная опухоль в ложе удалённого органа. Именно поэтому пациент, перенёсший радикальную простатэктомию, в дальнейшем по жизни идёт под чутким контролем не только прооперировавшего его уролога, но и другого специалиста, способного эффективно повлиять на результаты локального лечения, — лучевого терапевта. Что же касается того, КОГДА радиотерапевт должен вмешаться в лечебный процесс, — это вопрос, который традиционно вызывает большое количество споров у онкологов.
Сценарий номер один — послеоперационная, или адъювантная, лучевая терапия, традиционно проводимая в ближайшие сроки после операции и восстановления пациента. Сценарий номер два — отсроченная, или спасательная, лучевая терапия, проведение которой обусловлено ростом уровня простат-спец-ифического антигена. Какому же из них отдать предпочтение? Каковы основные критерии отбора кандидатов для того или иного варианта облучения?
Тот факт, что лучевая терапия действительно эффективна в лечении больных раком предстательной железы после радикальной простатэктомии, был доказан тремя рандомизированными исследованиями: EORTC 22911 [3], SWOG 8794 [4], ARO 96-020 [5]. Критерии включения в них были схожими, в основном, это были пациенты с pT3N0, перенёсшие радикальную простатэктомию и адъювантную лучевую терапию в дозе 60-64Гр либо оставленные под динамическим наблюдением в послеоперационном периоде; однако имелись и некоторые расхождения в критериях. К примеру, в исследование EORTC были включены и пациенты с pT2R1, тогда как остальные два подразумевали анализ результатов лечения только больных с pT3R0/R1. Процент больных с положительным краем резекции в целом был достаточно высок во всех исследованиях (от 63% до 68%), но при этом стоит отметить, что уровень PSA на момент отбора для адъювантного лечения варьировал, и порой значительно. Так, в немецком ARO 96-020 только больные с уровнем PSA<0,1 нг/мл проходили отбор, тогда как в EORTC исследовании 11% пациентов имели уровень >0,2 нг/мл на момент рандомизации, а в исследовании SWOG этот процент был и того выше — 34%. Если учесть тот факт, что Американская и Европейская ассоциации уроло- гов рассматривают уровень PSA≥0,2 нг/мл после простатэктомии как биохимический рецидив (подтверждённый результатом повторного анализа PSA>0,2 нг/мл), то в таких ситуациях лучевая терапия может быть обозначена не как «классическая» адъювантная, а, скорее, как ранняя спасательная.
Вообще, рак предстательной железы — это тот уникальный случай в онкологии, когда врачи имеют в своём распоряжении чрезвычайно чуткий индикатор — серологический маркер PSA, позволяющий оценить непосредственные результаты лечения и предсказать вероятность рецидива порой задолго до его клинического проявления. В идеале, после адекватной простатэктомии, когда ткань железы удалена, уровень PSA не должен определяться в течение минимум 30 дней; его период полувыведения не превышает 3,15 дней [7]. Таким образом, даже минимальный регистрируемый уровень PSA предполагает наличие остаточной ткани опухоли и/или существование отдалённых её метастазов, и эта ситуация уже может квалифицироваться как рецидив.
Тем не менее, все три исследования показали, что лучевая терапия, как немедленная послеоперационная, так и отсроченная, весьма эффективна в плане увеличения безре-цидивной выживаемости, но при этом явные преимущества в выживаемости без биохимического рецидива не менее чем в 20% за 5-летний период были отмечены именно в группах больных, получавших «классическую» адъювантную лучевую терапию. В одном из них, продемонстрировавшем отдалённые десятилетние результаты лечения (SWOG 8794), показатели общей выживаемости в группе адъювантной лучевой терапии оказались значительно лучше в сравнении с группой наблюдения, 74% против 66%, а средняя выживаемость — 15,2 года против 13,3 лет. Эти же авторы отметили и увеличение продолжительности жизни без метастазов в той же группе больных (84% vs 69%; HR, 0.71; 95% CI, 0.54 to 0.94; p=0.016).
Однако возникает вопрос: учитывая столь явную эффективность лучевой терапии после радикальной простатэктомии, вне зависимости от наличия или отсутствия биохимического рецидива в послеоперационном периоде, а также существование такого чуткого серо-
Лучевая терапия после радикальной простатэктомии: когда и для кого?
логического «помощника», как PSA, способного чётко уловить момент прогрессирования при условии регулярного обследования больного, стоит ли всем больным при наличии обозначенных факторов риска планировать лучевую терапию сразу после операции? Эквивалентны ли результаты отсроченного облучения, назначаемого при регистрации раннего биохимического рецидива, таковым при проведении «классической» адъювантной лучевой терапии? К сожалению, ни одно из вышеупомянутых исследований не содержит чёткого ответа на эти вопросы.
Основные аргументы учёных-приверженцев отсроченного облучения следующие:
-
1. Далеко не все пациенты с pT3 или позитивным хирургическим краем спрогрессируют в ближайшие после операции годы. Так, по данным ARO 96-020, биохимический рецидив наблюдался только у 40% больных в группе наблюдения за 4 года. При своевременном проведении лучевой терапии более чем у половины из этой категории больных удастся достичь пятилетней безрецидивной выживаемости. Из тех больных, у кого будет зарегистрирована биохимическая прогрессия, не у всех разовьётся клинически явный рецидив. Кроме того, довольно низкий процент больных с отдалёнными метастазами (16% за 10 лет, по данным SWOG 8794) в группе наблюдения также наводит на мысль об ограничении количества облучаемых больных. Следовательно, у солидного числа пациентов можно избежать и негативных последствий лучевой терапии, прежде всего со стороны мочеполовой сферы и кишечника, а также эректильной дисфункции и развития вторичных опухолей.
-
2. Вышеупомянутые осложнения зарегистрированы и описаны всеми тремя исследованиями. Хотя выраженная степень токсичности (III и более) отмечена у относительно небольшого количества больных по истечении максимального срока наблюдения (EORTC 22911: 4,2% против 2,6%), общий процент больных с I-II степенью осложнений со стороны кишечника и мочевыводящих путей был значительно больше в группе лучевой терапии, нежели в группе наблюдения с отсроченным облучением (EORTC 22911: 64.9% vs. 54.3%, p=0.005; ARO 96-020: 21.9% vs 3.7%, p<0.0001). Развитие осложнений, особенно выраженных, может
-
3. В экономическом плане выжидательная тактика также выглядит более предпочтительной: не нужно проводить затратное лечение (а впоследствии, возможно, и лечение лучевых осложнений), которое у ряда пациентов оказывается абсолютно необязательным.
в буквальном смысле нивелировать потенциальные преимущества адъювантного облучения, резко ухудшив качество жизни.
Но есть и ряд аргументов сторонников адъювантной лучевой терапии, с которыми также сложно не согласиться.
-
1. Полностью удалить всю ткань предстательной железы с опухолью крайне сложно, если вообще возможно. Во многих случаях, и особенно при выявлении отягощающих факторов (инвазия капсулы, семенных пузырьков, опухолевый рост в линии резекции), резидуальная, пусть микроскопических размеров, опухоль остаётся в хирургическом ложе. И эта опухоль может стать первопричиной локального рецидива. Определённое количество жизнеспособных клеток может благополучно размножаться в ложе удалённого органа, даже если при этом уровень PSA остаётся нереги-стрируемым. Когда же показатели PSA после простатэктомии начинают прогрессивно возрастать, то, если лечения не проводить, вероятность развития отдалённых метастазов взлетает до 60% (а по данным других авторов, и ещё выше), а риск смерти от рака предстательной железы за ближайшие 10 лет увеличивается до 20% (11,12).
-
2. Логично предположить, что чем меньше объём резидуальной опухоли, тем более эффективным будет локальное воздействие на неё. Эта ситуация как раз и наблюдается в раннем послеоперационном периоде. Отсрочивая момент облучения, дожидаясь роста уровня PSA, мы тем самым позволяем опухоли не только прочно «обосноваться» в ложе удалённого органа, но и благополучно расти и метастазировать. Вышесказанное подтверждается серией различных исследований. Так, Catton et al. [6] показали, что среди больных pT3R1/R0 послеоперационная лучевая терапия позволяет добиться 5-летнего локального контроля у 95% пациентов, а отсроченное облучение у больных с пальпируемой рецидивной опухолью — только у 59%. Широко известный анализ Stephenson et al. [10] продемонстрировал, что уровень PSA до начала лучевой терапии является прогностическим фактором, определяющим вероятность последующего прогрессирования: процент больных без биохимического рецидива за 6-летний период, которым лучевая терапия была начата при показателях PSA менее 0,5 нг/мл, оказался почти в 2 раза выше по сравнению с теми, у кого PSA превышал 0,5 нг/мл (48% против 26%). Таким образом, в идеале, лучевая терапия должна быть назначена, когда уровень PSA минимален или хотя бы не превышает данный порог, т. е. максимально приближена к адъювантной ситуации.
-
3. Данные любых исследований можно трактовать и двояко, и трояко, но, тем не менее, результаты трёх рандомизированных исследований обеспечили нам 1 уровень доказательности в отношении преимуществ адъювантной лучевой терапии после радикальной простатэктомии как в плане улучшения показателей выживаемости без биохимической прогрессии и без отдалённых метастазов, так и в отношении общей выживаемости. Более поздние исследования подтвердили эти данные: в частности, выводы мультицентричного анализа Trabulsi et al. [8], основанного на сопоставлении результатов лечения 192 больных
-
4. Вышеупомянутые рандомизированные исследования были инициированы и проведены ещё в эру, когда 3-D конформная лучевая терапия и технология IMRT не были широко распространены и внедрены в повседневную практику большинства лечебных онкологических учреждений. Облучение области простатической ямки проводилось традиционно широкими (9х9 см, 10х10 см) полями с захватом большого объёма здоровых тканей. С тех пор многое изменилось. Современная техника для лучевой терапии и предлучевой подготовки позволяет более точно сконцентрировать энергию излучения в зонах риска: в области ложа простаты, уретровезикального анастомоза, малого объёма окружающих тканей — с избеганием при этом облучения значительной части мочевого пузыря, прямой кишки. Научными сообществами разработаны и одобрены рекомендации в отношении клинических объёмов облучения. Размеры полей уменьшились практически вдвое. Всё это позволяет предположить, что в ближайшее время при повсеместном внедрении современных технологий в рутинную практику процент осложнений после адъювантной лучевой терапии будет минимален. Кроме того, дозы, применяемые для послеоперационного облучения (в среднем 60-64 Гр), как правило, ниже, чем при проведении отсроченной лучевой терапии после регистрации биохимического рецидива (68-72 Гр).
-
5. Ещё одно преимущество проиллюстрировано SWOG 8794 и касается назначения гормонального лечения. Адъювантная лучевая терапия позволяет отсрочить момент назначения гормонов (за 5-летний промежуток времени 9% больных из группы лучевой терапии было начато гормональное лечение, в сравнении с 20% в группе наблюдения, HR = 0.44, p < 0.001), что соответственно оказывает влияние и на качество жизни, и на экономические затраты и позволяет держать гормональное лечение в качестве резерва в течение более длительного срока.
Не стоит скрывать и тот факт, что опыт и профессионализм хирургов могут быть абсолютно различными, даже в пределах одного лечебного учреждения, в котором радикальные простатэктомии, лапароскопические либо открытые, практикуются широко. В мульти-центрическом исследовании Secin et al [9] показано, что количество радикальных простатэктомий, выполненных с «чистым» хирургическим краем, постепенно возрастает по мере увеличения личного опыта хирурга, хотя авторы при этом настаивают, что профессионализм не есть простое накопление количества произведённых операций. Даже опытный хирург может постоянно повторять одну и ту же интраоперационную техническую ошибку, не улучшая тем самым результаты своих оперативных вмешательств. Профессиона- лизм хирурга основан на постоянном анализе качества сделанного, выявлении собственных погрешностей, совершенствовании технических аспектов. Увы, это качество — стремление к анализу и самосовершенствованию — присуще далеко не каждому.
с pT3-4N0, свидетельствуют о значительном снижении риска биохимической прогрессии при проведении немедленной лучевой терапии в сравнении с отсроченной.
Коль скоро нет единого мнения по этому вопросу, крайне желательно было бы обо-
Лучевая терапия после радикальной простатэктомии: когда и для кого?
значить ту группу больных, которым немедленная послеоперационная лучевая терапия показана в гораздо большей степени, нежели другим.
Эта группа, без сомнения, определяется клиническими и патоморфологическими находками в результате операции, хотя необходимо помнить, что, помимо идентификации степени злокачественности опухоли, такие показатели, как стадия процесса и состояние хирургического края могут весьма значительно варьировать среди заключений различных патоморфологов. Анализ по подгруппам исследования EORTC 22911, основанный на па-томорфологических данных, показал, что, хотя пред- и послеоперационные уровни PSA, степень дифференцировки опухоли, инвазия семенных пузырьков и наличие опухолевых клеток в линии резекции являлись независимыми прогностическими факторами риска рецидива в группе динамического наблюдения, только статус хирургического края оказался единственным статистически значимым фактором прогноза величины влияния адъювантной лучевой терапии [13]. Правда, эти данные требуют подтверждения в следующих исследованиях. Несколько позднее в своём крупном обзоре 2011 года Swanson [14] рассмотрел значимость нескольких факторов риска, основываясь на данных многочисленных исследований, и пришёл к выводу, что практически все они имеют важное значение: больные с поражением семенных пузырьков, Gleason 8 баллов и выше, уровнем PSA до операции >10 нг/мл требуют обязательного дальнейшего облучения, равно как и пациенты с экстракапсулярным распространением опухоли и позитивным краем при Gleason 7 и выше. Дополнительные факторы риска, такие, как мультифокальность или большие размеры опухоли, тоже не позволяют оставить пациента просто под наблюдением, без лечения, но вот играет ли лучевая терапия ключевую роль в данных ситуациях — эта тема пока оставлена автором без конкретных рекомендаций.
История неоднократно показывала, что в неоднозначных, спорных ситуациях, касающихся тактики лечения, решающее слово часто остаётся за традициями конкретных лечебных учреждений, за существующими наци- ональными стандартами лечения и зачастую за реалиями действительности.
В «Алгоритмах диагностики и лечения злокачественных новообразований» (2010 г.), разработанных и рекомендованных Ассоциацией онкологов России, из раздела, посвящённого лечению местнораспространённого рака предстательной железы стадии III (T3aNxM0), однозначно следует, что всем больным, прошедшим через операции радикальной или расширенной простатэктомии, лапароскопической тазовой лимфаденэктомии, показана последующая лучевая терапия и гормональная терапия. Вне зависимости от каких-либо патоморфологи-ческих находок, пред- или послеоперационного уровня PSA и т. д. Всё просто. И, возможно, не случайно.
В условиях России, где радикальные простатэктомии выполняются далеко не так широко и регулярно, как хотелось бы, в основном лишь в ограниченном количестве центров, где сложно найти урологов, овладевших этой техникой в совершенстве и уровень подготовки патоморфологов также варьирует весьма значительно, где этот вид оперативного вмешательства принято квалифицировать как высокотехнологичную медицинскую помощь, тогда как современные технологии облучения стремительно входят в нашу жизнь и становятся доступными всем региональным онкологическим учреждениям, стоит ли нам пренебрегать немедленной лучевой терапией и просто дожидаться роста PSA, уповая на возможную эффективность отсроченного облучения? Наконец, даже если наступит момент, когда радикальные простатэктомии станут широко доступны в большинстве регионов нашей необъятной страны, процесс регулярного динамического наблюдения за прооперированными пациентами может быть весьма затруднён по причине элементарной удалённости множества населённых пунктов от региональных центров.
Пока возникает ощущение, что чаша весов немедленного послеоперационного облучения выглядит весомее. В настоящее время проводится несколько исследований, призванных более точно обозначить роль адъювантной лучевой терапии в лечении больных местнораспространённым раком предстательной железы.
Список литературы Лучевая терапия после радикальной простатэктомии: когда и для кого?
- Han M., Partin A. W., Pound C. R., Epstein J. I., Walsh P. C. Long-term biochemical disease-free and cancer-specific survival following anatomic radical retropubic prostatectomy. The 15-year Johns Hopkins experience. Urol Clin North Am. -2001 Aug; 28 (3): 555-65
- Bottke D., de Reijke T. M., Bartkowiak D., Wiegel T. Salvage radiotherapy in patients with persisting/rising PSA after radical prostatectomy for prostate cancer. Eur J Cancer 45:148-157, 2009
- Bolla M., Van H. Poppel, Collette L. et al., Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy: a randomised controlled trial (EORTC trial 22911). The Lancet, vol. 366, no. 9485, pp. 572-578, 2005
- Thompson I. M., Tangen C. M., Paradelo J. et al. Adjuvant radiotherapy for pathologically advanced prostate cancer: a randomized clinical trialю Journal of the American Medical Association, vol. 296, no. 19, pp. 2329-2335, 2006
- Wiegel T., Bottke D., Steiner U. et al. Phase III postoperative adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy compared with radical prostatectomy alone in pT3 prostate cancer with postoperative undetectable prostate-specific antigen: ARO 96-02/AUO AP 09/95. J Clin Oncol, vol. 27, no.18, pp. 2924-2930, 2009
- Catton C., Gospodarowicz M., Warde P., Panzarella T., Catton P., McLean M., Milosevic M. Adjuvant and salvage radiation therapy after radical prostatectomy for adenocarcinoma of the prostate. Radiother Oncol. 2001 Apr; 59 (1): 51-60
- Partin A. W., Oesterling J. E. The clinical usefulness of prostate specific antigen: update. -1994. J Urol. 1994; 152: 1358-68
- Trabulsi E. J., Valicenti R. K., Hanlon A. L. et al. A multi-institutional matched-control analysis of adjuvant and salvage postoperative radiation therapy for pT3-4N0 prostate cancer. Urology. -2008 Dec; 72 (6): 1298-302
- Fernando P. Secin, Caroline Savage, Claude Abbou et al. The Learning Curve for Laparoscopic Radical Prostatectomy: An International Multicenter Study. J Urol. -2010, December; 184 (6): 2291-2296
- Stephenson A. J., Scardino P. T., Kattan M. W. et al. Predicting the outcome of salvage radiation therapy for recurrent prostate cancer after radical prostatectomy. J Clin Oncol. -2007; 25: 2035-41
- Bianco F. J. Jr, Scardino P. T., Eastham J. A. Radical prostatectomy: Long-term cancer control and recovery of sexual and urinary function («trifecta»). Urology. -2005; 66: 83-94
- Pound C. R., Partin A. W., Eisenberger M. A. et al. Natural history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA. -1999; 281: 1591-1597
- Collette L., vsn Poppel H., Bolla M. et al. Patients at high risk of progression after radical prostatectomy: Do they all benefit from immediate post-operative irradiation? (EORTC trial 22911) Eur J Cancer 41: 2662-2672, 2005
- Gregory P. Swanson, Joseph W. Basler. Prognostic Factors for Failure after Prostatectomy. J Cancer 2011; 2: 1-19