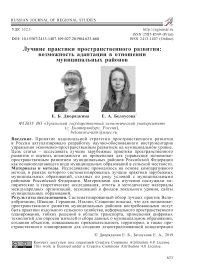Лучшие практики пространственного развития: возможность адаптации в отношении муниципальных районов
Автор: Дворядкина Елена Борисовна, Белоусова Елизавета Александровна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством
Статья в выпуске: 4 (109) т.27, 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение. Принятие национальной стратегии пространственного развития в России актуализировало разработку научно-обоснованного инструментария управления экономико-пространственным развитием на муниципальном уровне. Цель статьи - исследовать лучшие зарубежные практики пространственного развития и оценить возможности их применения для управления экономико-пространственным развитием муниципальных районов Российской Федерации как основополагающего вида муниципальных образований в сельской местности. Материалы и методы. Исследование проводилось на основе компаративного метода, в рамках которого систематизировались лучшие практики зарубежных муниципальных образований, сходных по ряду условий с муниципальными районами Российской Федерации. Материалами для изучения послужили эмпирические и теоретические исследования, отчеты и методические материалы международных организаций, ассоциаций и фондов локального уровня, сайты муниципальных образований. Результаты исследования. Систематизированный обзор лучших практик Великобритании, Швеции, Германии, Италии, Словении показал, что для экономико-пространственного развития муниципальных районов востребованными могут быть практики издольного сельского хозяйства, неформального пространственного планирования, гибких решений в области транспорта, применения цифровых технологий для опросов жителей и сбора данных о муниципальном образовании, создания объектов, повышающих привлекательность территории, а также пространственного планирования для создания децентрализованной концентрации на субурбанизированных территориях. Выявленные практики могут применяться с целью корректировки направлений экономико-пространственного развития муниципальных районов с учетом уровня и тенденций изменения таких параметров экономического пространства, как насыщенность, связанность, физический базис. Обсуждение и заключение. Развитие муниципального образования необязательно должно быть направлено на рост экономических и других показателей через привлечение инвестиций, богатого населения и другого рода стимулирование; альтернативными целями пространственного развития могут быть сохранение текущих показателей, территориальной идентичности муниципального образования, снижение его отрицательного влияния на экологическую ситуацию. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности органов региональной и муниципальной власти в процессе разработки и реализации документов стратегического планирования, а также для дальнейшего теоретического осмысления процесса экономико-пространственного развития муниципалитетов.
Пространственное развитие, экономическое пространство, муниципальный район, сельское муниципальное образование, практика пространственного развития
Короткий адрес: https://sciup.org/147222826
IDR: 147222826 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15507/2413-1407.109.027.201904.633-660
Текст научной статьи Лучшие практики пространственного развития: возможность адаптации в отношении муниципальных районов
Введение. Рассматривая пространство как «экономический феномен и содержательную форму функционирования социально-экономической системы» [1, c. 15], мы можем говорить о пространственном развитии не только как о совокупности прогрессивных изменений физического базиса и функционирующей на нем социально-экономической среды, но и как о комплексе практических мер в области региональной экономической политики, направленных на повышение качества жизни населения. Принятая в текущем году Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. актуализировала теоретические и методические вопросы, касающиеся управления пространственным развитием страны, в том числе относительно инструментов пространственного развития. Сфокусированность Стратегии на крупных и крупнейших городских агломерациях дополнительно обострила проблему дефицита инструментов для муниципальных образований, расположенных на сельских территориях.
Муниципальные районы являются основополагающим видом муниципальных образований в сельской местности. Результаты наших исследований экономического пространства [2; 3] позволили выделить экономико-пространственный аспект характеристики муниципального района как специфического объекта в пространстве региона, заключающийся в том, что муниципальный район:
-
1) рассматривается как компонент муниципального устройства, имеющий четко очерченные административные границы в пределах территории субъекта Российской Федерации;
-
2) является частью экономического пространства региона, в которой концентрируются специфические (немобильные) экономические ресурсы, способствующие формированию центробежного характера производственных отношений;
-
3) исследуется как информационно специфическая часть экономического пространства региона, порядок сосуществования и сообщения объектов и субъектов в пределах которой носит преимущественно сельскохозяйственный характер;
-
-
4) осуществляет воспроизводственный процесс, формируемый как промежуточный итог реализации экономических интересов субъектов и экономического взаимодействия между различными точками на заданной территории;
-
5) в качестве структурной ячейки экономического пространства обладает необходимой информацией для реализации целей и задач гармонизированного управления городскими и сельскими поселениями как муниципалитетами низового уровня;
-
6) является институцией, результирующей взаимодействия в экономическом пространстве совокупности преимущественно сельских формальных и неформальных институтов;
-
7) представляет собой пространственное экономическое образование как совокупность преимущественно сельских поселений, по смысловому значению противостоящая крупнейшему и крупному городу и функционально дополняющая его;
-
8) существует как хозяйственная подсистема экономического пространства региона, обеспечивающая его целостность и устойчивость и находящаяся во взаимодействии с другими подсистемами, результатом функционирования которой является добавленная стоимость, создаваемая преимущественно видами экономической деятельности, относящимися к первичному сектору экономики.
Мы будем рассматривать муниципальный район как целостное экономико-пространственное образование, объединяющее сельские и городские поселения, что позволяет в целях разработки инструментария управления и корректировки его экономико-пространственного развития учитывать такие характеристики экономического пространства, как насыщенность, связанность и физический базис [4]. Соответственно, экономико-пространственное развитие муниципальных районов может быть направлено на:
-
1) рост экономической активности и экономически значимых результатов с учетом центробежного характера производственных отношений на территории;
-
2) сохранение и повышение качественных характеристик физического базиса, а также степени его освоенности;
-
3) рост интегрированности муниципальных районов в экономическое пространство региона и связанности экономического пространства внутри муниципального района;
-
4) сбалансированное развитие сельско-городских отношений (городские и сельские поселения в пределах муниципального района; муниципальные районы и городские округа в пределах региона).
Целью настоящего исследования стало изучение лучших зарубежных практик пространственного развития с сопутствующим анализом их применимости для муниципальных районов Российской Федерации в контексте перспективной разработки инструментария управления и корректировки экономико-пространственного развития данного вида муниципальных образований.
Обзор литературы. Необходимость учета пространственного фактора в практической деятельности по развитию муниципальных образований подчеркивается в ряде исследований1 [5]. Как отмечают Н. Н. Киселева и В. В. Браткова, «инструменты управления пространственным ростом диверсифицируются в зависимости от типа зоны роста» [6, c. 31], а под пространственным ростом понимается снижение концентрации населения в городах-центрах, рост полупериферии и периферийных территорий, появление новых точек развития, повышение равномерности распределения населения и экономической деятельности. В исследовании А. В. Суворовой показано, что спецификой пространственного развития является «изменение структуры пространства» [7, с. 57].
В зарубежной литературе проблема пространственного развития на муниципальном уровне освещается главным образом через призму сжатия пространства как процесса сокращения численности населения и экономической активности на территориях [8–13]. Так, В. Канцлер пишет о необходимости повышать эффективность использования существующей инфраструктуры таким образом, чтобы она могла служить потребностям уменьшающегося населения и не приводила к дополнительным капитальным затратам [8]; Г.-Ж. Хосперс и Н. Реверда подробно рассматривают варианты реакций органов власти на проблему (тривиализация проблемы, противодействие, управление, использование как возможность) [9]. Латвийские ученые А. Пузулис и Л. Кууле сосредоточиваются на поисках причин оттока населения и возможностях удержать его в условиях соседства с привлекательными территориями соседних стран [11].
Вторым направлением применения пространственной точки зрения на развитие муниципальных образований является анализ вклада пространственного фактора в устойчивость развития, в особенности это касается сельских муниципальных образований, обладающих уникальными или значительными природными ресурсами [14]. Локальные природные ресурсы оказываются критичными для абсолютного большинства предприятий на территории сельского муниципалитета. Существует сильная связь между предпринимателями, их бизнесом, муниципалитетом и локальными природными ресурсами, что требует внедрения пространственного планирования, включающего, с одной стороны, системы мониторинга использования
- этих ресурсов, с другой – общественно одобряемого распределения этих ресурсов между всеми стейкхолдерами на территории муниципалитета.
Ю. Г. Лаврикова и соавторы отмечают, что «необходимость учета пространственного фактора в муниципальном управлении определяется наличием не только внутренних, но и внешних факторов»2. Среди внешних факторов, по мнению исследователей, можно назвать активную конкуренцию между муниципалитетами за привлечение инвестиций, финансовых и кадровых ресурсов. И. А. Антипин и Н. В. Казакова несколько лет назад в своем исследовании отмечали, что в российской действительности «пространственный фактор недостаточно учитывается в муниципальном управлении… в первую очередь проявляется в не-сформированности взаимоувязки документов социально-экономического и территориального планирования» [15, c. 1012].
Таким образом, если вопрос сущностного понимания пространственного развития в научной литературе исследован достаточно глубоко, равно как и обоснована необходимость учета пространственного фактора в стратегическом планировании и развитии муниципальных образований, то в том, что касается выбора, обоснования и/или разработки конкретного инструментария управления и корректировки экономико-пространственного развития существует очевидная недосказанность. Одновременно бесспорна и необходимость увязки такого инструментария с экономикопространственными характеристиками конкретного вида муниципальных образований.
Материалы и методы. Для цели экономико-пространственного развития муниципальных районов принципиальный интерес в изучении лучших зарубежных практик представляет опыт в области развития экономической деятельности в сельских муниципалитетах (к которым относятся и муниципальные районы Российской Федерации), раскрытия и сохранения их природно-ресурсного, демографического, экологического потенциала, улучшения инфраструктурного обеспечения, выстраивания сельско-городских взаимоотношений.
В целях исследования лучших практик пространственного развития целесообразно обращаться к опыту муниципальных образований стран, достигших высокого уровня социально-экономического развития. Основной интерес представляют муниципальные образования в странах, сходных по экономико-правовым, административно-территориальным, демографическим, природно-климатическим условиям с муниципальными районами Российской Федерации.
Существенную проблему для систематизации лучших практик представляет экономико-правовой статус муниципальных образований в раз- ных странах, который значительно отличается как в части комбинации прав и обязанностей, так и возможностей, в особенности финансовых. Однако, с этой точки зрения, для отбора практик целесообразным видится опора на экономико-пространственную характеристику муниципальных районов, представленную выше, и характеристику сельских муниципальных образований как населенных сельских территорий с местным самоуправлением, обладающих признаками3 сельской местности (низкая плотность населения, рассредоточенность населенных пунктов, относительная удаленность от крупных городских центров, большой удельный вес сырьевых отраслей экономики, невысокая концентрация промышленности и других сфер деятельности, большой удельный вес сырьевых отраслей экономики и высокая зависимость от природно-климатических, биологических и географических факторов). Таким образом, отбор лучших практик осуществлялся на основе соответствия муниципального образования указанным характеристикам и общности проблем, с которыми сталкивались и/или сталкиваются органы местного самоуправления, например, дисперсность населенных пунктов и их удаленность как препятствие связанности экономического пространства и взаимодействию между экономическими агентами; малонаселенность, ведущая к сложностям аккумулирования ресурсов (финансовых, материальных) и т. п.
В качестве источников лучших практик в процессе их систематизации использовались эмпирические и теоретические исследования, посвященные проблемам сельских муниципальных образований, а также отдельным проблемам, с которыми сталкивается данный вид муниципалитетов, отчеты и руководство международных организаций, локальных ассоциаций сельского развития, региональных фондов содействия местному развитию, а также сайты муниципальных образований.
В исследовании применялся компаративный метод, который позволил систематизировать лучшие практики зарубежных муниципальных образований, сходных по экономико-правовым, административно-территориальным, демографическим, природно-климатическим условиям с муниципальными районами Российской Федерации.
Результаты исследования. Результаты исследования представим систематизированно по указанным четырем направлениям.
Первое направление – рост экономической активности и экономически значимых результатов с учетом центробежного характера производственных отношений на территории.
Обзор показал, что в данный момент доминирующей парадигмой развития территорий, характеризующихся центробежной природой производственных отношений и наличием соответствующих специфических ресурсов, является парадигма мультифункционального развития, поскольку ресурсы, которыми обладает такая территория, имеют потенциал применения в разных сферах, а не только в сельском хозяйстве. Ключевые отличия парадигмы мульти-функционального сельского развития представлены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1. Новая парадигма сельского развития4
T a b l e 1. The new paradigm of rural development
Мультифункциональное развитие сельских территорий – концепция, которая продвигает несельскохозяйственные виды деятельности и нацелена на преодоление стереотипа о том, что внегородские территории – это монофункциональные территории. «…Эта концепция является не просто попыткой увеличить занятость, она дает гораздо больший импульс развитию сельских территорий, в том числе в части улучшения условий жизни и модернизации инфраструктуры» [16, p. 13]. Данная парадигма формирует отправную точку в поиске способов решения экономических проблем территории: через раскрытие потенциала территории, поиск неиспользуемых ресурсов, диверсификацию сельской экономики, повышение инвестиционной привлекательности, активное использование международного, межрегионального, межмуниципального опыта [17] и знаний.
В части роста экономической активности и экономически значимых результатов можно выделить два блока: меры, направленные на поддержку производства, и меры, направленные на улучшение предоставления услуг.
Основные проблемы, связанные с производством на данной территории, – конкуренция с городскими территориями за человеческие, финансовые, материальные и другие виды ресурсов, а также низкая производительность. Препятствиями на пути повышения производительности являются большое расстояние до рынков реализации готовой продукции и рынков материалов (ведут к высоким издержкам), небольшой размер локального рынка (необходимость продажи на другие территории), ограниченность рабочей силы, компетенций (результат – низкая конкурентоспособность товара по цене и ограниченность объема производства), старение и снижение численности населения. Таким образом, усилия органов местного самоуправления могут касаться данных направлений.
Возможности для повышения уровня экономической деятельности на сельских территориях несет в себе социальное предпринимательство. Такая характеристика социальных предпринимателей, как связанность с местным сообществом и вовлеченность в жизнь муниципалитета, означает, что они мобилизуют большое разнообразие локальных ресурсов и активов для достижения локально привязанных результатов, включая развитие социального капитала [18].
Несомненно, эффективность сельского хозяйства повышает развитие точечного земледелия или «умных» ферм. Появившись благодаря удешевлению интернет-технологий и сотовой связи, они дают производителям сельскохозяйственной продукции возможности применять точечный мониторинг локального климата, почвы, растений, животных, передвижения техники. Это вносит свой вклад в сокращение затрат на горючее, семена, воду, удобрения, средства защиты растений, корма. Накопление больших объемов данных позволяет составлять карты урожайности и делать севооборот более гибким [19]. Данная практика уже активно заимствуется российскими предприятиями и приносит положительные результаты, что подтверждают обзоры, опубликованные в журнале « Экс-перт»5, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем.
Другой эффективной практикой может быть издольное сельское хозяйство (англ. share farming) – способ ведения сельскохозяйственной

деятельности, при котором фермеры пользуются различными сельскохозяйственными активами в обмен на часть дохода с урожая или часть урожая, но не владеют ими. С одной стороны, такой способ ведения сельского хозяйства известен давно и ранее воспринимался скорее как негативное явление, так как получил распространение в феодальном обществе, в бедных странах Африки, в Индии. С другой стороны, сегодня издольное сельское хозяйство применяется в развитых странах, поскольку дает возможность фермерам снять часть ответственности с себя, уменьшить риски и увеличить доход. Издольное сельское хозяйство также позволяет снизить барьеры входа в отрасль и привлечь в нее инвестиции, балансировать возрастную структуру занятых6. Такое сельское хозяйство отличается от сельскохозяйственного производства по контракту (англ. contract farming), поскольку риски в нем разделены более пропорционально. Характеристика издольного сельского хозяйства с точки зрения разделения ответственности между его участниками представлена в таблице 2.
Т а б л и ц а 2. Разделение ответственности в издольном сельском хозяйстве 7
T a b l e 2. Allocation of responsibilities in share farming
|
Актив / Asset |
Владелец / Owner |
Оператор/ фермер / Operator / farmer |
|
Экспертные знания / Expertise |
+ |
+ |
|
Сельскохозяйственные постройки / Farm buildings |
+ |
– |
|
Сельскохозяйственная земля / Farmland |
+ |
– |
|
Полевые машины и мобильная техника / Field machines and mobile machinery |
– |
+ |
|
Стационарное оборудование / Fixed equipment |
+ |
– |
|
Труд / Labor |
– |
+ |
|
Долгосрочный уход за землей / Long term handling of land |
+ |
– |
|
Капитальный ремонт строений / Major repairs of buildings |
+ |
– |
|
Часть оборотного капитала в виде доли фактических затрат / Part of the working capital as a share of actual costs |
+ |
+ |
|
Доля в собственности на домашний скот / Share in the ownership of livestock |
+ |
+ |
6 Sharefarming: How it works and why it could reshape farming // Farmers Weekly. 2018. August 24. URLS: share-farming-how-it-works-and-why-it-could-reshape-farming (дата обращения: 11.07.2019).
7 Там же.
Второй блок практик связан с улучшением предоставления услуг населению. В сельской местности действует ряд специфических факторов, влияющих на стоимость услуг. Кроме ранее перечисленных он включает также растущее разнообразие потребностей жителей и ограниченное количество организаций, предоставляющих услуги. Среди практик, позволяющих улучшить предоставление услуг населению и повысить их экономическую эффективность, можно назвать 8: альтернативные способы доставки услуг (например, передвижные стоматологические пункты, библиотеки); помощь муниципальных предприятий в оказании услуг, отсутствующих на территории; использование альтернативных источников электроэнергии, которые позволяют обеспечивать бесперебойное электроснабжение поставщиков услуг. Дополнительные возможности в этом направлении возникают благодаря современным цифровым технологиям и телекоммуникационной связи.
Европейская сеть развития сельского хозяйства (European Network for Rural Development) проанализировала разнообразный опыт внедрения концепции «Smart Village» («„Умная“ деревня») для улучшения качества и объема предоставления услуг на удаленных и малонаселенных территориях. Был сделан вывод о том, что цифровые технологии позволяют не только повысить разнообразие предоставляемых услуг, но и сделать процесс более гибким и настроенным на требования потребителя, при этом сами потребители участвуют в выборе проектов цифровизации населенного пункта [20]. Среди примеров, решением которых стали цифровые технологии, можно назвать создание коворкингов в Испании (которые обеспечили не только рабочие места находящимся на территории муниципалитета путешественникам, но и приток новых жителей, стремящихся поменять образ жизни), предоставление услуг химчистки, ремонта, ухода за садом для старшего населения в Испании, онлайн-обучение фермеров в Австрии и многое другое9.
Второе направление – сохранение и повышение качественных характеристик физического базиса, а также степени его освоенности.
Поддержание степени освоенности территории, улучшение качественных характеристик физического базиса критическим образом зависит от плотности экономических агентов. Падение численности населения приводит к снижению контроля над территорией, обезлюдению и в конечном счете исчезновению поселений. В связи с этим интересны выводы Дж. Сисснер, анализировавшей нормативные документы шведских муниципальных образований относительно отражения в них вопросов демографического сжатия [12]. Хотя исследование было направлено на изучение ответа местного самоуправления на вызов сокращения населения (и его старения) в целом, а не только в сельской местности, оно проводилось на материалах пяти муниципалитетов сельскохозяйственной провинции Эстергетланд, которые попадают по классификации Ассоциации местных органов власти и регионов Швеции в категорию С – маленькие города / городские территории и сельские муниципалитеты 10. Автор исследования отмечает, что шведские муниципалитеты не отличаются большой численностью населения (самый большой муниципалитет – Стокгольм, население которого составляет 890 тыс. чел., при этом средняя численность населения муниципалитета в Швеции – 15,5 тыс. чел.); меньше всего человек проживают в самых маленьких поселениях, расположенных в сельской местности [12, p. 8]. Таким образом, рассмотрение данного опыта представляется целесообразным ввиду соответствия основных экономико-пространственных характеристик муниципалитетов.
Три вывода, к которым приходит Дж. Сисснер, заключаются в следующем. Во-первых, изменение демографической ситуации рассматривается муниципалитетами как важный фактор муниципального развития, так как ведет к дефициту компетенций и рабочей силы, финансовых ресурсов (налогов и субсидий), необходимости повышать эффективность социального обеспечения, прекращать или объединять предоставление существующих государственных услуг или перераспределять средства между ними (например, часть расходов на школы перенаправлять на уход за пожилым населением), в связи с чем возрастает роль межмуниципального сотрудничества и объединения ресурсов. Во-вторых, в документах муниципальных образований представлены два варианта реагирования на проблему демографического сжатия – принятие мер, направленных на стимулирование роста численности населения и повышение привлекательности территории для бизнеса и инвестиций, и мер по адаптации к данному изменению, оптимизации его последствий (например, управление основными средствами (жилым фондом, общественными зданиями и инженерной инфраструктурой [10])), хотя последний тип не оказывается в приоритете. Кроме перечисленных вариантов существуют еще два – игнорирование статистических данных и рассмотрение складывающейся демографической ситуации как возможности для нового витка в муниципальном развитии [16; 21]. В-третьих, по мнению исследователя, небольшие муниципалитеты, которые больше всего нуждаются в выработке стратегий для ответа на вызовы демографического сжатия, имеют меньше всего возможностей для этого, поэтому возрастает роль региональных и национальных органов власти в обеспечении информацией и лучшими практиками муниципалитетов и поддержке развития их нормативно-правовой базы.
В качестве способа, позволяющего сглаживать отрицательные последствия демографического сжатия, Дж. Сисснер и ее коллега М. Мейер рассматривают неформальные практики пространственного планирования [13]. Словенский ученый С. Кузар определяет их как попытки жителей адаптировать пространство в соответствии со своими потребностями, предпринимаемые вне официальной (формальной) системы планирования [22, p. 159]. Интересно, что С. Кузар не говорит о неформальных практиках пространственного планирования только как о положительном явлении – они могут также включать и незаконные способы отстаивания интересов (например, коррупцию, лоббизм [22, p. 162]), однако мы в дальнейшем будем иметь в виду те практики, которые соответствуют нормам закона и приводят к конструктивному диалогу между жителями и муниципалитетом. Согласно словенскому исследователю, существуют три случая возникновения неформальных практик: 1) формальная система планирования не работает или дает неудовлетворительный результат (в силу временных затрат, противоречивости норм или отсутствия гибкости); 2) есть несоответствия между нормативным актом и практическим внедрением новых формальных институтов; 3) система планирования недостаточно легитимна («привязана» к реальной ситуации и не учитывает интересов стейкхолдеров). В этих случаях использование неформальных практик позволяет компенсировать недостатки системы планирования, предусмотренной законодательством.
Дж. Сисснер и М. Мейер предлагают развивать неформальные практики на основе ресурсного подхода. Анализ неформальных практик пространственного планирования (являющихся результатом коллективного принятия решений и генерирующих пространственный эффект), проведенный учеными на материалах провинции Эстергетланд (Швеция) и Ахтерхук (часть провинции Гелдерланд, Нидерланды), позволил выявить четыре вида ресурсов, «приобретаемых» муниципалитетами благодаря инициативам жителей. Данные ресурсы компенсируют сокращение ресурсной базы из-за падения численности населения и позволяют поддерживать привлекательность территории и качество жизни.
Во-первых, это финансовые ресурсы, приток которых обеспечивается несколькими способами: запросом и получением общеевропейских субсидий (например, программа EU Leader), неоплачиваемой работой волонтеров, а также передачей операционных издержек под ответственность инициаторов проекта после завершения капитальных затрат (например, поддержание местной библиотеки или ледовой арены).
-
Во-вторых, материальные ресурсы, такие как техника и оборудование. Примером служит проведение широкополосного доступа к сети Интернет в Швеции. Для телекоммуникационных компаний невыгодно проведение оптоволокна на малонаселенных территориях, поэтому в Швеции государство предоставляет оборудование и материалы, а органы местного самоуправления и жители организуют и контролируют процесс прокладки кабеля. Другим примером может служить использование пустующих зданий, принадлежащих муниципалитету, когда жители предлагают идеи их использования или снижения издержек их эксплуатации.
В-третьих, человеческие ресурсы (знания, умения, компетенции, опыт, здравый смысл и интуиция). На территориях, где отмечается демографическое сжатие, в органах власти и общественных организациях происходит сокращение рабочих мест, увольнение сотрудников или выход на пенсию, в связи с чем качество человеческого капитала падает, хотя является важным фактором в управлении такими территориями. Знание местных особенностей, которым могут поделиться жители, помогает улучшать процесс формального пространственного планирования. Для использования этих знаний, интеллектуального капитала, физических навыков жителей, а также достижения общественного консенсуса по вопросам использования территории муниципалитетов в изучаемой провинции Нидерландов организован и функционирует фонд Gelderse Federatie voor Dorpshuizen en Kleine Kernen (Региональный фонд для общинных центров и малых общин Гелдерланда). Использование знаний осуществляется и в обратном направлении. Шведский аналог этого фонда Hela Sverige Ska Leva («Вся Швеция будет жить») разработал свою методику локального экономического анализа, которая может применяться местными жителями для анализа данных государственной статистики с целью дальнейшего выдвижения инициатив. Методика аналогична разработкам, сделанным для городских экономик, таким как «Understanding Your Local Economy: A Resource Guide for Cities»11, и включает широкий набор инструментов (анализ временных рядов, темпов роста и прироста, сложных индексов, бенчмаркинг, ГИС-картирование, PEST-анализ, анализ добавочной стоимости, коэффициентов локализации, компетентностный аудит и другие с пояснениями и примерами). Разработка шведского фонда, по мнению еще одной группы ученых, не только позволяет выявлять активы, которыми обладает территория, но и избегать излишнего пессимизма [23]. Оба фонда являются площадкой для обмена опытом и интерпретации новых нормативно-правовых актов.
В-четвертых, организационные ресурсы (структуры планирования и координирования и социальный капитал). В этом случае муници- палитеты получают легитимность, признание принимаемых решений и возможность общей ответственности между активными жителями и представителями органов власти. Из активных жителей создаются работающие структуры, способные решать вопросы местного значения. Происходит делегирование ответственности в таких областях, как образование и здравоохранение, создание спортивных сооружений, озеленение общественного пространства.
Таким образом, неформальные практики позволяют расширять ресурсную базу «сжимающихся» муниципалитетов и тем самым поддерживать освоенность территории, сохранять ее привлекательность.
Исследование сельских территорий Латвии подтверждает, что разработка пространственной политики в муниципальных образованиях, испытывающих демографическое сжатие, связана с поиском баланса между оптимизацией издержек на выполнение обязательств социального обеспечения, предоставление государственных услуг, содержание муниципальной собственности и инфраструктуры (англ. shrink to survive – уменьшиться, чтобы выжить) и сохранением потенциала территории, ее привлекательности для населения и бизнеса, поскольку часто сокращение издержек (закрытие школ, учреждений здравоохранения и др.) приводит к значительному оттоку населения на более перспективные территории [11]. Такая миграция особенно характерна для территорий, граничащих с развивающимися центрами с высокой транспортной доступностью для населения из «сжимающихся» территорий. Необходимо отметить, что эффект конкуренции муниципалитетов в российских регионах нарастает. Кроме того, муниципальные образования могут намеренно привлекать внутренних мигрантов [24], поскольку такой инструмент увеличения численности населения более доступен на муниципальном уровне.
Сохранение и улучшение освоенности территории возможно и в случае создания в ее пределах объекта, повышающего ее привлекательность для проживания. Примером такого объекта служит Научный институт Гран-Сассо (Gran Sasso Science Institute, GSSI) в регионе Абруццо (Ита-лия)12. На момент создания Института регион переживал длительную историю масштабной эмиграции за пределы своей территории. В основном население эмигрировало из небольших сельских муниципалитетов. В 2000–2015 гг. регион потерял более 60 тыс. чел. в возрастной группе 15–34 лет (-17,5 %), а доля людей в возрасте старше 65 лет превысила среднее значение по Италии и Европейскому союзу. В связи с этим осуществлялись различные программы по восстановлению социально-экономического состояния территории, направленные на усиление
РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 27, № 4, 2019 - экономики знаний и ориентированные на развитие внутренних ресурсов региона, инноваций и конкурентоспособности. Однако эта структура не выдержала испытания экономическим кризисом 2008–2009 гг. В 2009 г. произошло землетрясение, вызвавшее масштабные разрушения. Научный институт Гран-Сассо был создан в 2012 г., чтобы предложить другой вариант программы социально-экономического восстановления. Фокус исследования Института сосредоточился на «чрезвычайном» событии – землетрясении – и уникальных ресурсах и опыте территории, т. е. на поле исследований естественных наук. Целью стало развитие центра международного уровня в области геологии и физики для привлечения международных высококвалифицированных исследователей. До 2016 г. Институт находился в ведении Национального института ядерных исследований, однако позднее Министерство образования признало автономию GSSI как университета. GSSI почти полностью финансируется на общественные средства. Он оказался успешным в привлечении человеческих ресурсов из-за рубежа и таким образом стимулировал восстановление человеческого капитала территории. Вероятно, еще рано делать окончательные выводы, но по наблюдениям на территории возрастает экономическая деятельность. Второй результат – создание новых стартапов и предприятий, связанных с Институтом.
Третье направление – рост интегрированности муниципального района в экономическое пространство региона и связанности экономического пространства внутри муниципального района.
Вопросы развития транспортной инфраструктуры относятся к числу наиболее острых в развитии сельских муниципальных образований в силу их малонаселенности и, следовательно, низкого спроса на транспортные услуги и удаленности, приводящей к высоким издержкам. Уровень транспортной доступности имеет также принципиальное значение при разработке стратегий экономического развития такого муниципального образования. Как формулируют это Д. Хьюстон, С. Маккей и М. Мюррей, «категорию „сельское“ можно рассматривать в двух плоскостях: доступные сельские районы, отличающиеся ростом и связанностью; и периферийные сельские районы, часто характеризующиеся неопределенностью и удаленностью» [25, p. 44].
-
В. Канцлер на VI Конференции по транспортным исследованиям в Швейцарии подчеркивал важность полноценного использования существующей инфраструктуры, поскольку ресурсная база малонаселенных муниципалитетов невелика [8]. Решением, по его мнению, может стать гибкий подход к обеспечению транспортной доступности населенных пунктов, включающий:
– вовлечение граждан: перевозки небольшими автобусами, водителями которых являются местные жители (Bürgerbus);
– совместное или поочередное использование личных и общественных автомобилей (private and public car pooling);
– альтернативы классическому общественному транспорту: гибкие транспортные услуги, такие как вызов автобуса по телефону при необходимости (Rufbus) – в остальное время автобус не курсирует, вызов такси по телефону (Anruftaxi). Такие услуги предоставляет компания Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar GmbH13 в земельном районе Шварц-вальд-Баар. Тарифы автобуса и такси не отличаются от тарифов обычного общественного транспорта данной транспортной компании.
Другим аспектом повышения связанности экономического пространства внутри сельских муниципальных образований является обеспечение коммуникационного взаимодействия экономических агентов, в том числе для решения вопросов пространственного планирования. Для России проблема представляется более чем актуальной ввиду больших расстояний как между населенными пунктами, так и между муниципальными образованиями (сельские поселения внутри муниципальных районов), поскольку принцип пешеходной доступности административного центра муниципального образования соблюдается далеко не всегда.
В этом контексте полезен опыт Финляндии, добившейся существенных успехов в привлечении жителей к участию в пространственном планировании на уровне муниципального образования, рассмотренный С. И. Федуловой14 [26]. Опыт, изученный исследователем, касается разработки Городского плана Хельсинки и интересен с точки зрения применения современных практик и цифровых технологий. Особую ценность, по мнению С. И. Федуловой, представляет масштабный онлайн-опрос населения, проведенный на этапе разработки Плана: «В короткие сроки были охвачены разные возрастные категории населения, в том числе молодежь и люди трудоспособного возраста, разные группы по ценностям и интересам, например автолюбители и собаководы… Жителям предлагалось в течение месяца отмечать на интерактивной карте конкретные площадки и маршруты в соответствии со специально разработанными вопросами, такими как возможность строительства нового жилья и офисов, обязательное сохранение территорий в текущем виде, улучшение состояния рекреационных территорий, разработка пешеходных и велосипедных маршрутов» [26, с. 108]. Форма опроса позволила значительно увеличить количество участников процесса пространственного планирования по сравнению с традиционными способами вовлечения
У^У -населения, что дало возможность изучить ожидания людей, снизить вероятность конфликтов, собрать большой массив данных о муниципалитете.
В России уже есть опыт адаптации модели северных стран для проведения голосований по вопросам жизнедеятельности городов, поселков, в том числе планирования, обустройства и развития городской среды. Порталы «Активный гражданин» созданы и функционируют в Калининградской области15 и в г. Москве16.
Четвертое направление – сбалансированное развитие сельско-городских отношений.
Близость к развитой городской территории и интеграция в глобальный цикл «производство – потребление» часто оказывается критичным фактором развития муниципальных районов как муниципальных образований, концентрирующих преимущественно сельские поселения. В Повестке территориального развития Европейского союза17 на основе взаимозависимости между сельскими и городскими территориями утверждается необходимость их широкого партнерства: во-первых, важно улучшать доступ к городским территориям из близлежащих сельских для поддержания уровня занятости и обеспечения необходимыми услугами; во-вторых, у городских территорий возникает ответственность за развитие окрестных территорий.
Документ «Перспектива европейского пространственного развития» (ESDP)18 в качестве одной из целей пространственного развития территории Европейского союза, которые должны приниматься во внимание при разработке документов на разных уровнях, называет необходимость полицентричного и гармоничного пространственного развития. Для этого требуется развитие партнерства между сельскими и городскими территориями в таких областях, как местный транспорт, управление отходами, разграничение жилых и промышленных территорий.
Словенский исследователь М. Дивьяк рассматривает случай стратегического пространственного планирования для двух городов – Любляны и Копера с точки зрения гармоничного развития города и близлежащих территорий [27]. Проблема, с которой столкнулась Словения, – демографическое сжатие в крупных городах (Любляне, Мариборе, Целе,
Копере) с параллельным рассредоточенным ростом населения пригородов. В целом пространственная организация страны характеризуется полицентричностью, поскольку исторически Словения находилась на пересечении крупных транспортных путей, а ее регионы существенно различаются по природно-климатическим условиям. В 1960-1970-е гг. в Словении наблюдалась ускоренная урбанизация, однако после 1981 г. население двинулось в противоположном направлении: все больше жителей переезжали из центра города ближе к окраинам и в пригороды, при этом расселение происходило неравномерно. К началу 1990-х гг. около трети населения Словении проживали в пригородах. В результате экстенсивные процессы субурбанизации с достаточно низкой плотностью во вновь формируемых поселениях снизили эффективность землепользования, ухудшили состояние окружающей среды и локальных экономик.
Для того чтобы направить процесс расселения в русло устойчивого развития, был разработан и осуществлен план децентрализованной концентрации поселений для Любляны и Копера с небольшими вариациями. Он включает три общих блока: 1) развитие центральных застроенных территорий города и его исторического центра; 2) обновление, возрождение и трансформацию центральных мест города для улучшения городской среды и повышения привлекательности города для нынешних и потенциальных жителей; 3) развитие небольших центров концентрации в пригородных и сельских территориях и создание сетевых связей между ними. Важный принцип децентрализованной модели – связь региональных очагов городского роста с маршрутами общественного транспорта. Это позволяет оживить инвестиционный процесс и тем самым восстанавливать эти территории на основе реструктуризации экономики и делегирования им новых городских функций. Основной целью в развитии внутренних районов страны является концентрация расселения, снижение «расползания» городов, а также переключение жителей на использование общественного транспорта, а не личных автомобилей.
В отношении Любляны эта модель направлена прежде всего на снижение транспортного давления на центр города и формирование нескольких центров городского роста в пригородах таким образом, чтобы рассеянный жилой фонд из отдельно стоящих домов в пригородах концентрировался вдоль транспортных осей. При этом улучшится снабжение населения товарами и услугами, а поселения смогут функционировать почти независимо.
Что касается Копера, то город, будучи важным административным, экономическим и образовательным центром, окажется более тесно связанным с пригородами и сельскими поселениям с помощью автомобильной и автобусной инфраструктуры. Планы по развитию инфраструктуры включают расширение порта (постройка третьего причала), замену ны- нешнего шоссе Копер – Изола, которое идет по побережью, на новое шоссе, которое проложат по внутренним районам через тоннель. При этом прибрежное шоссе будет больше использоваться для развития рекреационных проектов и местных автобусных маршрутов.
Таким образом, стратегии для пригородных территорий связаны с созданием децентрализованной концентрации на субурбанизированных территориях, объединенных маршрутами общественного транспорта. Применение предложенных для городов моделей позволит улучшить следующие аспекты пространственного развития: концентрацию расселения и землепользование; качество городской среды новых городских центров и их функции; возможности по трудоустройству; коммунальную и другую инфраструктуру; концентрацию населения вблизи транспортных остановок; экологическую составляющую общественного транспорта.
На основе изученного опыта можно дать несколько рекомендаций в отношении обеспечения сбалансированного развития сельско-городских отношений.
Во-первых, ввиду малой населенности сельских и небольших муниципалитетов важно не только вписывать их в общую транспортную инфраструктуру, но и определять локальные центры городского роста, которые смогут заменить и выполнить часть функций крупного городского поселения.
Во-вторых, планирование городских территорий обязательно должно учитывать уровень развития, потребности и ресурсы близлежащих сельских территорий. Необходимо использовать положительные стороны сельской местности, такие как более низкая стоимость земли (жилья) и хорошие экологические условия, в особенности подкрепленные хорошей транспортной доступностью [28, p. 179].
В-третьих, большое значение для выстраивания сельско-городских отношений имеет текущее расположение сельских территорий по отношению к городским. С этой точки зрения ОЭСР выделяет три типа сельских территорий19: сельские территории, расположенные внутри функциональных городских территорий; сельские территории, расположенные близко к ним, и удаленные сельские регионы. В зависимости от типа смещается фокус выстраивания отношений. В первом случае, например, основные сложности развития сельской территории будут связаны с «доставкой» местному населению услуг, потому что последние сконцентрированы в городском ядре; с соизмерением компетенций и навыков с требованиями локального рынка труда и управлением землепользованием под давлением со стороны городской территории. Во втором случае сельская территория достаточно интегрирована с го- родской экономикой, а ее экономика включает и некоторые городские сектора экономики; она в состоянии конкурировать с городом за бизнес и жителей, поэтому могут возникать конфликты землепользования, а также между потребностями новых и коренных жителей. В третьем случае территории вынуждены работать над своими конкурентными преимуществами (абсолютными и сравнительными), улучшать доступ к рынкам поставки произведенных на территории товаров, развивать трудовые навыки, компетенции населения в направлении поддержки сравнительного преимущества и улучшать предоставление услуг населению. Однако выстраивание отношений тем сложнее, чем больше разница между городским центром и сельской территорией.
Обсуждение и заключение. В целом проведенный обзор лучших практик позволил сделать и подтвердить ряд общих выводов:
– развитие муниципального образования необязательно должно быть направлено на рост экономических и других показателей через привлечение инвестиций, богатого населения и другого рода стимулирование; альтернативными целями пространственного развития могут быть сохранение текущих показателей, территориальной идентичности муниципального образования, снижение его отрицательного влияния на экологическую ситуацию;
– пространственное развитие должно принимать во внимание множество разнонаправленных трендов, очерчивающих контекст развития региональных экономик и муниципальных районов как их части;
– значительное влияние на причины, следствия, способы противодействия сельскому сжатию как в чисто демографическом, так и в экономико-пространственном понимании оказывает экономико-правовой статус муниципальных образований. В случае Швеции, например, автономность муниципалитета и существенный объем ответственности не только оговорены в Конституции, но и финансово обеспечены, а сами муниципальные образования составляют заметную долю публичного сектора (83 % сотрудников сектора [12, p. 9]);
– рассогласованность стратегических и программных документов пространственного развития разного уровня (международного (в рамках интеграционных объединений), национального, регионального, муниципального) является существенным препятствием в их реализации и снижает эффективность мероприятий. Причины рассогласованности могут носить политический характер или быть связанными с недостатком информации и ресурсов при разработке документов.
Выводы и описание лучших практик, полученные в результате проведенного исследования, позволяют обозначить теоретическую значимость в контексте осмысления экономико-пространственного развития на муниципальном уровне, а также могут быть полезны в практике
- регионального и муниципального управления для разработки и реализации документов стратегического планирования. В настоящий момент существуют лакуны, связанные с осознанием значимости экономикопространственного развития для муниципальных образований, а также непосредственным воплощением его целей и задач на муниципальном уровне с использованием конкретных инструментов. Систематизация лучших практик по направлениям экономико-пространственного развития дает возможность муниципальным районам и регионам использовать их в четком соответствии со своими индивидуальными потребностями: потребностью в росте экономической активности и экономически значимых результатов на территории; сохранении и повышении качественных характеристик территории и ее освоенности; росте интегрированности муниципальных районов в экономическое пространство региона и связанности экономического пространства внутри муниципального района; в сбалансированном развитии сельско-городских отношений (городские и сельские поселения в пределах муниципального района; муниципальные районы и городские округа в пределах региона).
Список литературы Лучшие практики пространственного развития: возможность адаптации в отношении муниципальных районов
- Минакир П. А. Национальная стратегия пространственного развития: добросовестные заблуждения или намеренные упрощения? // Пространственная экономика. 2016. № 3. С. 7-15. DOI: https://doi.org/10.14530/se.2016.3.007-015
- Dvoryadkina E., Karkh D., Belousova E. Digital Agriculture in Improving Spatial Economic Development of Rural Municipalities in Russia // International Scientific and Practical Conference "Digital Agriculture - Development Strategy" (ISPC 2019). Atlantis Press, June 2019. Pp. 426-430. DOI: https://doi.org/10.2991/ispc-19.2019.95
- Белоусова Е. А. Сельские поселения как объект исследования в концепциях экономического пространства // Управленец. 2016. № 6 (64). С. 42-47. URL: http://upravlenets.usue.ru/ru/-2016/389 (дата обращения: 11.07.2019).
- Dvoryadkina E. B., Belousova E. A. Municipal Districts in Economic Space of a Region: Constructive and Destructive Trends // Известия Уральского государственного экономического университета. 2018. Т. 19, № 5. С. 84-106. DOI: https://doi.org/10.29141/2073-1019-2018-19-5-7
- Колмакова Е. М. Социально-экономический анализ муниципальных образований по критерию их устойчивого территориального развития // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 2 (331). С. 17-19. URL: http://www.lib.csu.ru/elbibl/vestn_arh.shtml (дата обращения: 11.07.2019).
- Киселева Н. Н., Браткова В. В. Управление пространственным ростом // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Сер. 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки. 2018. № 1. С. 31-37. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36346748 (дата обращения: 11.07.2019).
- Суворова А. В. Пространственное развитие: содержание и особенности // Journal of New Economy. 2019. Т. 20, № 3. С. 51-64. DOI: https://doi. org/10.29141/2658-5081-2019-20-3-4
- Canzler W. Infrastructure Investments in a Shrinking Society // 6th STRC Swiss Transport Research Conference. Monte Veritá, 2017. URL: http://www.strc. ch/2006/Canzler_STRC_2006.pdf (дата обращения: 11.07.2019).
- Hospers G.-J., Reverda N. Managing Population Decline in Europe's Urban and Rural Areas. London: Springer, 2015. 81 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-12412-4
- Jonsson R., Syssner J. New Demography, Old Infrastructure: The Management of Fixed Assets in Shrinking Municipalities in Sweden // Dealing with Urban and Rural Shrinkage. Formal and Informal Strategies / ed. by G.-J. Hospers, J. Syssner. Zurich: LIT VERLAG GmbH&Co. KG Wien, 2018. URL: http://www.diva-portal.org/ smash/record.jsf?pid=diva2%3A1179127&dswid=-5770 (дата обращения: 11.07.2019).
- Puzulis, A., Kule L. Shrinking of Rural Territories in Latvia // European Integration Studies. 2016. No. 10. Pp. 90-105. DOI: https://doi.org/10.5755/j01. eis.0.10.14988
- Syssner J. Planning for Shrinkage? Policy Implications of Demographic Decline in Swedish Municipalities // Revista de extudios sobre despoblación y desarollo rural. 2016. Vol. 20. Pp. 7-31. DOI: https://doi.org/10.4422/ager.2015.14
- Syssner J., Meijer M. Informal Planning in Depopulating Rural Areas: A Resource-Based View of Informal Planning Practices // European Countryside. 2017. Vol. 9, no. 3. Pp. 458-472. URL: https://ideas.repec.org/a/vrs/eurcou/v9y2017i3p458-472n4.html (дата обращения: 11.07.2019).
- Thellbro C. Spatial Planning for Sustainable Rural Municipalities. Umeá, Sweden: Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 2017. 142 p. URL: https://pub.epsilon.slu.se/14734/1/thellbro_a_171117.pdf (дата обращения: 11.07.2019).
- Антипин И. А., Казакова Н. В. Концептуальные основы разработки стратегии пространственного развития в муниципальном образовании // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17, № 8. DOI: https://doi.org/10.18334/rp.17.8.35119
- Multifunctional Development of Rural Areas. International Experience / ed. by P. Bórawski. Ostrol^ka: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Ekonomiczno-Spolecznej w Ostrol^ce, 2012. URL: https://ideas.repec.org/b/ags/agsaem/208117.html (дата обращения: 11.07.2019).
- Зырянов С. Г., Иванов О. П., Гордеев С. С. Устойчивость регионального развития и практика межмуниципального взаимодействия // Научный ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2017. № 1. С. 10-19. URL: http://www.chel. ranepa.ru/nauka/nauchnyy-ezhegodnik-tsentra-analiza-i-prognozirovaniya.php (дата обращения: 11.07.2019).
- Eversole R., Barraket J., Luke B. Social Enterprises in Rural Community Development // Community Development Journal. 2014. Vol. 49, issue 2. Pp. 245-261. DOI: https://doi.org/10.1093/cdj/bst030
- Степных Н. В., Заргарян А. М., Нестерова Е. В. Электронная база данных состояния и функционирования агроландшафтов // Известия Уральского государственного экономического университета. 2018. Т. 19, № 4. С. 136-146. DOI: https://doi.org/10.29141/2073-1019-2018-19-4-10
- Smart Villages: Revitalising Rural Services. EU Rural Review. 2018. No. 26. URL: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-en.pdf (дата обращения: 11.07.2019).
- Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalisation / C. Martinez-Fernandez [et al.] // International Journal of Urban and Regional Research. 2012. Vol. 36, issue 2. Pp. 213-225. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01092.x
- Kusar S. Landscape Studies Informal Planning Practices: Some Evidence from Slovenia // Journal of Landscape Studies. 2010. No. 3. Pp. 159-165. URL: http://www.centrumprokrajinu.cz/files/JLS_Volume%203_pp%20159-165.pdf (дата обращения: 11.07.2019).
- Hutlman M., Rydstrom C., Tingvall P. Localizing the Economy: Rural Development in Ostergotland // Dealing with Urban and Rural Shrinkage. Formal and Informal Strategies / G.-J. Hospers, J. Syssner, eds. Zurich: LIT VERLAG GmbH&Co. KG Wien, 2018. 144 p. DOI: https://doi.org/10.1111/tesg.12317
- Martinez-Fernandez C., Weyman T. The Crossroads of Demographic Change and Local Development // Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics / C. Martinez-Fernandez, N. Kubo, A. Noya, T. Weyman, eds. Paris: OECD, 2012. Pp. 15-36. DOI: https://doi. org/10.1787/9789264180468-en
- Houston D., McKay S., Murray M. Civic Engagement and Development Strategies Learning from the Experience of Participatory Rural Redevelopment // Future Directions for the European Shrinking City / W. Neill, H. Schlappa, eds. New York: Routledge, 2016. Pp. 44-54. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315747286
- Федулова С. И. Опыт Финляндии в вовлечении населения в городское планирование // Общество. Среда. Развитие. 2016. № 1. С. 106-110. URL: http:// www.terrahumana.ru/index.html (дата обращения: 11.07.2019).
- Divjak M. S. Urban Planning Strategies for Dealing with Shrinkage and Suburbanisation in Slovene Cities // Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics / C. Martinez-Fernandez, N. Kubo, A. Noya, T. Weyman, eds. Paris: OECD, 2012. Pp. 159-166. DOI: https://doi. org/10.1787/9789264180468-en
- Schenkel W. Regeneration Strategies in Shrinking Urban Neighbourhoods: Dimensions of Interventions in Theory and Practice (Switzerland) // Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics / C. Martinez-Fernandez, N. Kubo, A. Noya, T. Weyman, eds. Paris: OECD, 2012. Pp. 179-186. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264180468-en