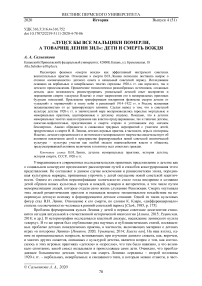"Луцсе бы все мальцики померли, а товарищ Ленин зил": дети и смерть вождя
Автор: Сальникова А.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историческая антропология смерти
Статья в выпуске: 4 (51), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрен феномен «смерти вождя» как эффективный инструмент советских воспитательных практик. Отношение к смерти В.И. Ленина позволило поставить вопрос о степени «осовеченности» детского опыта в начальный советский период. Исследование основано на вербальных и невербальных текстах середины 1920-х гг. как взрослого, так и детского происхождения. Привлечение типологически разнообразных источников, созданных детьми, дало возможность реконструировать уникальный детский опыт восприятия и переживания смерти «дедушки Ильича» и опыт закрепления его в мемориальных практиках будущих поколений. Прослежена трансформация восприятия феномена смерти детьми от «ужасной» к «привычной» в эпоху войн и революций 1914-1922 гг. в России, вызванная незащищенностью от ее травмирующего влияния. Сделан вывод о том, что в советской культуре детства 1920-х гг. в значительной мере воспроизводились взрослые мортальные и мемориальные практики, адаптированные к детскому социуму. Показано, что в детских мемориальных текстах нашли отражение как властно продуцированные, так и типично детские, сказочно-мифологичные, представления о смерти «героя» и уготованном ему «вечном бессмертии». Анализ обрядности и символики траурных мероприятий с участием детей, приуроченных к смерти В. И. Ленина, детских игровых практик, в частности, игры в «похороны Ильича», детского прозаического и поэтического мемориального творчества свидетельствует об активном вовлечении детей в пространство формирующейся новой советской политической культуры - культуры участия как особой модели взаимодействия власти и общества, предусматривавшей активное включение в политику всех советских граждан.
В.и. ленин, детские мемориальные практики, история детства, история смерти, ссср, 1920-е гг
Короткий адрес: https://sciup.org/147246338
IDR: 147246338 | УДК: 316.3:316.4+316.752 | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-4-78-86
Текст научной статьи "Луцсе бы все мальцики померли, а товарищ Ленин зил": дети и смерть вождя
Утвердившееся в современных исследовательских практиках представление о детстве как о социальном конструкте предполагает рассмотрение путей и способов конструирования этого представления. Не составляет в данном случае исключения и раннесоветская эпоха, породившая культурные маркеры, призванные упрочить у детей ощущение новой советской идентичности. Одним из способов персонификации «советскости» стало тогда внедрение в сознание детей образов новых культовых героев и вождей, кумиров и авторитетов, в том числе путем мемориализации людей, которые отдали свою жизнь служению Революции. Смерть окутывала этих людей романтическим ореолом и оказывала мощное эмоциональное воздействие на неокрепшую детскую психику и формирующееся детское сознание. Одной из таких культовых фигур стал В.И. Ленин. Отношение к его смерти, по словам К. Кларк, «дифференцировало» степень «осовеченности» человека в ранний советский период [ Clark , 1985, p. 175].
Проблема формирования культа Ленина у детей в первые советские десятилетия становится сегодня актуальной в отечественной исторической имагологии [ Алиева, 2015; Руцинская, 2018; и др.]. В историографии исследовался властный дискурс, насаждение ленинского культа «сверху». В то же время был опубликован ряд научных и публицистических статей, посвященных проблеме детских поведенческих практик, в частности, включающих материал о детских играх «в похороны Ленина» [ Новиков, 2020; Урванцева , 2014; Хааске ван ]. На наш взгляд, одним из принципиальных вопросов, возникающих при изучении данного сюжета, как, впрочем, и многих других сюжетов, связанных с культурой детства, является вопрос о том, как соотносилось в этих игровых практиках «детское» и «взрослое», что там было навязано, а что возникало спонтанно, какой смысл вкладывали в происходящее сами дети. Очевидно, что преобладающее большинство детских текстов «на смерть Ленина» середины – второй половины 1920-х гг. – вербальных, невербальных и смешанного типа, к которым можно отнести, в част-
ности, детские игры, – представляли собой образцы так называемого подконтрольного детского творчества. Они были не только инициированы, но и тщательно откорректированы взрослыми, подчас с сохранением стилистического несовершенства, долженствовавшего подтверждать детское авторство, будучи при этом содержательно не по-детски идеологически зрелыми. Детские апокрифы, связанные со смертью В.И. Ленина, дошли до нас лишь в единичных образцах. Тем не менее в сохранившихся типологически разнообразных текстах, созданных детьми, -стихах, рассказах, ответах на вопросы анкет, письмах «во власть», самодеятельных театрализованных постановках, рисунках, играх - обнаруживались элементы «детскости», которые позволяют реконструировать не только уникальный детский опыт восприятия и переживания «смерти вождя», но и опыт закрепления его в мемориальных практиках будущих поколений.
Как «каждая культура по-своему отражается в созданной ею концепции смерти, а смерть бросает свое зловещее или героическое отражение на каждую культуру», когда «они смотрятся друг в друга и отражаются одно в другом» [ Лотман, 1999, с. 210, 230], так и советская культура детства 1920-х гг. воспроизводила взрослые мортальные и мемориальные практики, адаптированные к детскому социуму. «Эпоха катастроф» 1914-1922 гг. в России – эта «непрерывная семилетняя война» [ Нарский, 2004, с. 400] – взрастила особое поколение детей, для которых смерть не была чем-то табуированным. Смерть была рядом, и не только на фронтах Первой мировой и Гражданской войн (именно тогда в международном праве появилось понятие «ребенок-комбатант» [ Сингер, 1995, с. 43]): беспощадно много детей пали жертвами того страшного времени, если не физически («умирали просто и часто» – Анненков, 1991, с. 29), то уж точно морально-психологически. Понятие «детская невинность» как базовый концепт арьесовского «открытия детства» [ Ariès, 1973 , 1977] размылось и пошатнулось: отныне многие дети вновь оказались «маленькими взрослыми», взору которых смерть была открыта во всей ее неприглядности. На фоне такой «привычности» смерти советским идеологам представлялось вполне возможным и приемлемым использовать мортальный дискурс как эффективный инструмент воспитательных практик, не особо ограждая детей от его травмирующего влияния.
От «ужасов» смерти детей должна была в какой-то степени защитить специфичность самого ее детского восприятия. Психологи довольно единодушны в определении основных возрастных стадий «танатизации» детского сознания на пути к «зрелому» пониманию смерти, включающему в себя четыре субпонятия: «необратимость» как невозможность оживления, «нефункционированность» как полное прекращение всех жизненных функций умершего, «универсальность» как всеобщность, неизбежность, непредсказуемость и «причинность» как абстрактное и реальное понимание причин смерти [ Гаврилова, 2009]. Исследователи выделяют три таких стадии в детском возрасте: до пяти лет, когда смерть еще не воспринимается как окончательное явление и дети не боятся ее, от шести до девяти лет, когда дети уже осознают конечность смерти, но не понимают ее подлинной причинности, и, наконец, после девяти лет, когда детское понимание смерти уже практически совпадает со взрослым [ Гаврилова, 2009; Исаев, 1992; Кулагина, Сенкевич, 2013; и др.].
Например, известно, что маленькие дети видят в похоронах только внешнюю сторону события и, «хороня» свои игрушки, подчас безудержно веселятся [ Костюхина, 2008, с. 46-47]. В случае со смертью вождя эти субпонятия не сработали и обратились в свою прямую противоположность: Ленин неожиданно оказался «живее всех живых», он был обречен на бессмертие, он присутствовал в жизни каждого советского человека незримо, а очень часто – и зримо. «Школа? – Это там ученики учатся. Ленин в классе» (т.е. непременный портрет Ленина. – А. С. ), - отвечает семилетний мальчик летом 1924 г. [ Рыбников, 1926, с. 70].
Участие детей в похоронных действах началось фактически сразу же после смерти Ленина. Некоторым из них - тем, которым, по их словам, «особенно повезло», удалось побывать в Колонном зале Дома союзов и пройти мимо гроба вождя. Чаще всего это были так называемые организованные дети, находящиеся на воспитании в детских домах и приютах. Что двигало ими: только ли указания взрослых или и их собственное желание? В какой-то степени это было детское любопытство и стремление вырваться из довольно ограниченного «детского пространства» в большой, неизведанный мир взрослых, но в гораздо большей мере – доведенное агрессивной пропагандой до фанатизма религиозно-культовое почитание вождя. У детей отняли Бо- га, но нашли ему достойную замену. В новых советских колыбельных большевистские воспитатели убаюкивали детишек такими словами:
«Ты, мой маленький малютка, много книг прочтешь.
Полный силы, с капиталом на борьбу пойдешь.
Дам тебе я на дорогу Ленина портрет.
Не молись ты больше Богу, Бога больше нет» (Колыбельная, 1922, с. 6).
И не случайно то, что дети описывали странные, религиозно-экстатические чувства, которые они испытывали, готовясь пойти к гробу Ильича: «Настал вечер, вхожу я к старшим девочкам (в детском приюте. - А. С. ). Подходит ко мне одна из них и говорит: “Едем с нами к гробу Ильича”. У меня от радости (выделено мной. - А.С. ) забилось сердце» (Час Ленина, 1924, с. 37). «Радость» от непосредственного приобщения к похоронам умершего настойчиво пропагандировалось не только в советских детских изданиях, содержащих подобные свидетельства, но и в зарождающемся детском советском художественном кинематографе. Не случайно ряд киноведов 1920-х гг. ведут начало существования советского детского кино с 1924 г., когда на экраны вышел фильм режиссера М. Доронина «Как Петюнька ездил к Ильичу», снятый по одноименному рассказу П. Дорохова ( Степанов, 1929, с. 6). Эта лента полностью вписывалась в ленинскую мартирологию тех лет. Дети-беспризорники, брат и сестра Петюнька и Катюша, во время поволжского голода 1921 г. попадают в детский дом. Когда Петюнька узнает о смерти Ленина, он, преодолевая множество препятствий, добирается до Колонного зала Дома союзов, чтобы попрощаться с великим вождем (см. подробнее [ Сальникова, Бурмистров, 2014, с. 136]).
Такое счастье выпадало немногим. Но даже в самой далекой провинции дети не оказались изолированными от этого горестного, но величественного события и тоже проводили вождя в последний путь. Вот как 26 января 1924 г. описывает это в своем дневнике воспитатель Кузнечихинского детского дома Спасского кантона Татарской АССР А. Ефимова: «Дети еще накануне были предупреждены, что будут участвовать в траурной демонстрации. После завтрака дети старших групп были одеты потеплее, выстроены в пары, с траурными флагами вместе с воспитателями отправились в Волисполком. Так как день был очень холодный, был сильный мороз с ветром, то по дороге некоторые из детей поморозили себе щеки, уши.
В Волисполкоме собрались: учителя волости, допризывники, школьники и много граждан села Кузнечихи. Из Волисполкома все отправились в Нар[одный] дом, где было произнесено несколько речей и несколько раз спет «Похоронный марш». Из Нар[одного] дома вновь вернулись в Волисполком, где сделан салют, отдан последний долг Великому Вождю пролетарской революции» [ Ханипова, 2019, с. 330]. Правда, воспитатели вывести на демонстрацию детей немного поторопились: во время салюта выяснилось, что похороны перенесены на следующий день, но «извещение запоздало и Кузнечиха "похоронила" Владимира Ильича 26 января» [ Ханипова , 2019, с. 330]. Интересна эмоциональная реакция детей на смерть вождя: если после известия о ней «из грудей юных пролетариев вырвался скорбный крик, перешедший в безудержные рыдания», то по возвращении с траурной демонстрации дети были, конечно, «настроены печально», но активно делились впечатлениями с теми, кто в ней не участвовал [ Ханипова, 2019, с. 330—331]. Новые эмоции быстро сменили старые.
Траурные школьные митинги и демонстрации прошли по всей стране. Тема смерти и бессмертия вождя стала атрибутом и других советских детских праздников. Так, вторая часть празднования, посвященного четвертой годовщине Татарской АССР, прошедшего в детских домах республики в мае 1924 г., имела знаковое название «Он вечный» и в значительной части была посвящена В.И. Ленину (ГАРТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 1202. Л. 108).
Проходили траурные мероприятия и в дошкольных учреждениях. Воспитатели устраивали, например, «поминки» по Ленину: маленькие докладчики и докладчицы с трибуны рассказывали о смерти вождя (Орлова, 1926, с. 36). Однако наиболее распространенной формой памяти о вожде стала у детей-дошкольников игра в «похороны Ленина». В ходе «похорон» традиционный православный похоронный обряд успешно совмещался с советской революционной символикой: дошкольники «берут красные флаги и с торжественным пением "Ты жертвою пал, наш Ильич дорогой" несут скамейку, которая должна изображать гроб Ильича, на Красную площадь (самая большая комната) и устанавливают ее на середине, - чтобы весь народ мог ид- ти к "дяде Ленину"» (Маркович, 1924, с. 28). В этих играх мальчики по очереди исполняли роль умершего вождя: «Дети положили Витю четырёх лет на два маленьких столика, накрыли его чёрным платком, а около головы поставили портрет Ленина. Дверь открылась, и везут гроб с пением <…> Витя говорит: «Я не хочу больше лежать, я лучше буду рабочим». Другой мальчик ложится вместо него» (Дети дошкольники…, 1924, с. 30). Видимо, дети так увлеченно играли в эту достаточно страшную игру, что, по их словам, похороны Ильича им даже снились: «Будто бы явилась фея, махнула палочкой, и Ленин встал из гроба и совсем стал здоров. И сделали большое возвышение, и встал на него Ленин. Собрался весь, весь мир и выстроился горочкой. А Ленин поднял красное знамя» (Дети о Ленине, 1925, с. 12).
В условиях острого дефицита игрушек одной из первых советских настольных детских игр, выпущенных в 1925 г., был конструктор, позволивший собрать пять портретов Ленина и изображение Мавзолея [ Тумаркин, 1997, с. 212]. В разделе «Мурзилкина почта» популярного советского детского журнала находим сообщения детей об изготовлении макета Мавзолея из журнального приложения: «Папа помог мне вырезать и склеить Мавзолей Ленина, который вышел очень красивый» (Толя Шигорин, 7 лет, Бобруйск); «Я склеила Мавзолей Ленина, и он мне больше всего нравится» (Лена) (Мурзилкина почта, 1925, № 9, с. 22). Причем художественное творчество детей, связанное со смертью вождя, простиралось гораздо дальше склеивания готовых макетов ленинской усыпальницы. Сохранились рисунки, эскизы памятников и даже сочиненные детьми фортепьянные пьесы под названием «Смерть Ленина», «Похороны Ленина», «Ленин умер, но дело его живет», «На смерть Ленина» (Дети о Ленине, 1925, с. 25-31).
Творчески подходили дети к созданию так называемых «ленинских уголков» в школе и дома – своеобразных алтарей великому вождю. «Я вырезала из журнала "Юные строители" Ленина в возрасте 3-х лет и еще маленький, кругленький портрет Ленина 3-х лет, - сообщала девочка. – Я привесила на стенку и сделала рамку из красной бумаги, а из маленького круглого портрета я сделала себе значок. Я нарисовала плакат и еще напишу лозунги. Еще я буду собирать газеты и вырежу рисунки или перерисую с них и помещу в рамку на стену. Будет домашний уголок Ленина» (Ильич…, 1924, с. 33-34). Другой ребенок признается, что под впечатлением известия о смерти вождя нарисовал портрет Ленина «с маленькой красной звездой на лбу и надписями: СССР, РСФСР, В.И. Ленин умер» (Ильич…, 1924, с. 39). Воспитанницы детских домов делали для умершего вождя подарки - кукольные дома, плакаты с революционными лозунгами, приносили в «ленинские уголки» любимые игрушки и гостинцы ( Маркович, 1924, с. 100; 1925, с. 27). В этих «ленинских уголках» создавалось камерное мемориальное пространство, вписанное в более широкие публичные «ленинские зоны» советского города. Сохранилось немало монументальных проектов мемориальных школ, связанных с увековечиванием памяти В.И. Ленина. Так, 24 июля 1924 г. строительный комитет Сормовского исполкома объявил конкурс на создание проекта школы-театра им. В.И. Ленина «в духе культурных заветов вождя революции», театра на 1750 человек и школы на 800 учащихся (Из истории…, 1963, с. 158). В Казани в ознаменование памяти умершего вождя в 1924 г. планировалось возвести мемориальный ландшафтный комплекс «Ленинский уголок», который должен был включать образовательные учреждения для детей и юношества всех возрастов, сосредоточенные вокруг Казанского университета – места, где молодой Володя Ульянов начинал свою революционную деятельность [ Сальникова, 2017, с. 227].
Однако наибольшее количество образцов детского творчества на смерть В.И. Ленина было представлено в детской художественной прозе и поэзии. В мартиролог вошли сотни рассказов и стихов, содержавших столь нехарактерные для юного возраста слова, как «смерть», «покойный», «могила», «гроб», «тело». Такие тексты публиковались в специальных сборниках, где немудреные детские рассказы и стихи перемежались с произведениями взрослых авторов, на первый взгляд, как будто написанными детьми. Это позволяло добиться соответствующего эмоционального накала в издании.
И восьмилетняя Маня,
Кулачком вытирая заплаканный глаз,
Сказала сегодня: «Мама,
Лучше бы я умерла».
И четырехлетний Ваня понял
И пролепетал, игрушки отложив:
«Луцсе бы все булзуи померли,
Луцше бы все мальцики померли,
А товарищ Ленин зил (Час Ленина…, 1924, с. 56).
И почти рядом с этим профессиональным проникнутым исступленно-фанатичной жертвенной идеей стихотворением (автор - Mann) неумелые детские стихи:
Идите, народ,
Всегда вперед!
Как кровь, красное знамя, -
Знамя не простое, знамя могучее.
Дал его Ленин Ильич.
Стала Россия крепка, как кирпич».
«Ленин, ты умер,
Но дело твое не умрет.
Тебя похоронят,
Но дело с тобой не пойдет [Ильич…, 1924, с. 35, 42].
Критикуя такие «глухие, неудачные, неискренние» строки, К.И. Чуковский писал, что нужно было иметь поистине «мертвое ухо, чтобы кропать» их ( Чуковский, 1929, с. 134).
Фигура вождя приобретала в сознании многих детей мифологизированный характер: «Я много думала о Ленине, но совсем не могла себе представить - кто он такой. Наконец, я решила спросить у мамы о Ленине. "Ленин царь?" - сказала я. Мама рассмеялась и сказала: "Нет, детка, это не царь, - это великий вождь революции: очень умный, хороший и добрый"… В моем воображении рисовалась большая фигура с большой головой: ведь мама сказала, что он умный, с большим красным флагом в руке» (Дети о Ленине, 1925, с. 6). При этом высокая степень обобщения и символизации этого образа успешно совмещалась со вписыванием вождя в систему семейно-родственных отношений. Семейно-ролевая модель интерпретации мира была ближе и понятнее детям, чем высокие слова о значении той или иной личности для истории страны. Она позволяла доступно разъяснять большевистские метафоры и иерархию советского общества. В этой модели Ленину была предписана роль дедушки, а детям – роль «внуков Ильича». Потому и смерть его воспринималась (или должна была восприниматься) детьми как смерть родного, горячо любимого человека. В большинстве детских воспоминаний присутствует описание вполне ожидаемой реакции на смерть вождя самих детей и их близких: «мама стала плакать», «все плакали», «многие плакали». Однако дети с присущей им честностью и откровенностью иногда выходят за рамки канонического описания. Так, в рассказе «Как я пережила смерть Ленина» девочка пишет о том, что, узнав о смерти «дорогого Ильича», она надела черное платье, «чтобы было видно, что случилось несчастье», и стала петь похоронный марш, но соседи смеялись над ней. Другой ребенок сообщает о том, что дома в день смерти Ленина были не слезы, а переполох (Ильич…, 1924, с. 17-18, 25).
Столь же распространенный тип реакции – неверие в смерть вождя («мы не верили», «я не поверила, и многие тоже») и глубокая убежденность в его скором воскрешении. Вот какую похоронную песню - образец детского фольклора с ярко выраженными архетипическими чертами - сочинила пятилетняя девочка на смерть Ильича: «Ты умер, Ильич! Прилетела птичка, и солнце ее грело! Ты умер, Ильич! И тебя похоронили. И твоя одежда умерла. Ты умер, Ильич! И ты остался совсем один, бедный, бедный Ильич! Ты был хороший, я отдам тебе мою комнату, и я тебя люблю. Ты опять будешь на свете. И мы будем тебя трогать» (Ильич…, 1924, c. 47-48). Как известно из детской психологии, тактильный контакт с родным человеком чрезвычайно важен для маленького ребенка.
Однако Ленину в детских текстах могли доставаться и иные роли. Так, в письмах детей, поступавших в советскую периодику в траурные январские дни 1924 г., находим обращения к «дяде Ленину», «папе Ленину» (У великой могилы, 1924, с. 300). Встречалось и такое: «Ленин
- он наша мама» ( Маркович, 1925, с. 27). Действительно, кто может быть для ребенка ближе и роднее, чем мать?
Юные девушки в своих романтических экспектациях искали аналоги умершему вождю, утверждая, что хотели бы любить какого-нибудь «героя революции» - «будущего Ленина» ( Рубинштейн, 1928, с. 73).
Детские мемориальные тексты о Ленине сродни традиционным семейным «меморатам» с их непременной тенденцией к фольклоризации, когда повествование разворачивается вокруг старших и уже ушедших членов семьи, зачастую служащих примером для подражания: «он с малолетства был сознательный», «не любил роскошей, любил маленьких ребят, любил много работать», «он был очень хороший, он детей очень любил, поэтому мы его жалели». Жизненные страдания Ленина походили на агиографические: «буржуи его сажали в тюрьму, ссылали туда, где холодно, но Ильич все терпел»; «он жил просто и бедно. У него не было нового белья. С окон текла вода»; «Прощай, наш дедушка, Ильич! Тебе наш пионерский клич. Ведь ты же умер от работы. Много у тебя заботы» (Ильич, 1924, с. 14-15, 26, 43; Преображенский, 1927, с. 69).
Хронотоп собственной жизни дети выстраивали под жизнь вождя. «А я знаю, кто главный…, - заявляет маленькая героиня повести А. Платонова «Котлован» (1929-1930) Настя. -Главный - Ленин, а второй - Буденный. Когда их не было, а жили одни буржуи, то я и не рождалась, потому что не хотела. А как стал Ленин, так я и стала!» «И глубока наша советская власть, - вторит ей коммунист Сафронов, - раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Ленина!» ( Платонов, 1989, с. 112).
Усилия советской власти были не напрасны. Смерть вождя и массовые действа, связанные с его похоронами и увековечиванием его памяти, оказались одними из первых шагов в формировании нового типа советской политической культуры - культуры участия как особой модели взаимодействия власти и общества, предусматривавшей активное включение в политику всех советских граждан, в том числе юных, как «человека содействующего». Поднимаясь с одной ступени на другую по «лестнице участия» [ Hart, 1992], дети довольно быстро прошли непростой путь от «потребителей» и объектов воздействия до активных участников и даже творцов новых социокультурных практик. Результатом мощной поддержки и регулирования детского творчества явились многочисленные детские вербальные и невербальные тексты «на смерть вождя», в которых нашли отражения властно продуцированные, но одновременно совмещенные с типично детскими, сказочно-мифологичными представления о смерти «героя» и уготованном ему «вечном бессмертии», отлитые в марте 1924 г. в четкую лозунговую формулировку в известных стихах знаменитого советского поэта: «Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин – будет жить».
Список литературы "Луцсе бы все мальцики померли, а товарищ Ленин зил": дети и смерть вождя
- Алиева Л.В. Тема "Ленин и дети" в советской живописи: к истории формирования образа Ленина в советском массовом сознании // Mузей и дети: Mатер. Всерос. науч.-практ. конф. Псков: Б. и., 2016. С. 5-15.
- Гаврилова Т.А. Проблема детского понимания смерти // Психологическая наука и образование. 2009. Т. 1. № 4. URL: https://psyjournals.ru/files/26271/psyedu_ru_2009_4_Gavrilova.pdf (дата обращения: 21.04.2020).
- Исаев Д.Н. Формирование понятия смерти в детском возрасте и реакция детей на процесс умирания // Обозрение психиатрии и медицинской психологии Института им. ВЖ. Бехтерева. 1992. № 2. С. 17-28.
- Костюхина М. Игрушка в детской литературе. СПб.: Алетейя, 2008. 208 с.
- Кулагина И.Ю., Сенкевич Л.В. Отношение к смерти: возрастные, региональные и гендерные различия // Культурно-историческая психология. 2013. № 4. С. 58-65.