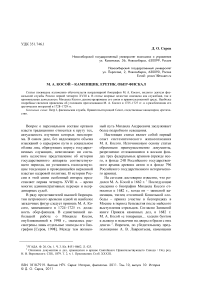М. А. Косой - каменщик, еретик, обер-фискал
Автор: Серов Дмитрий Олегович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 10 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изложению обстоятельств неординарной биографии М. А. Косого, видного деятеля фискальской службы России первой четверти XVIII в. В статье впервые целостно освещена как служебная, так и криминальная деятельность Михаила Косого, реконструированы его связи в правительственной среде. Наиболее подробные сведения приведены об уголовном преследовании М. А. Косого в 1725-1727 гг. и о разоблачении его еретических воззрений в 1728-1729 гг.
Петр i, фискальская служба, правительствующий сенат, следственные канцелярии, еретичество
Короткий адрес: https://sciup.org/14737395
IDR: 14737395 | УДК: 351.746.1
Текст научной статьи М. А. Косой - каменщик, еретик, обер-фискал
Вопрос о персональном составе органов власти традиционно относится к кругу тех, актуальность изучения которых неоспорима. В самом деле, без надлежащего объема изысканий о карьерном пути и социальном облике лиц, образующих корпус государственных служащих, невозможно ни составить целостное представление об истории государственного аппарата соответствующего периода, ни установить господствующие тенденции в проводившейся верховной властью кадровой политике. В истории России в этой связи особенный интерес представляет первая четверть XVIII в. – время многих административных перемен и неординарных судеб.
В ряду представителей высшей бюрократии петровского времени одной из наиболее загадочных фигур следует признать М. А. Косого, занимавшего в 1724–1725 гг. должность обер-фискала. В единственной небольшой работе о Михаиле Косом, опубликованной в 1998 г., оказались рассмотрены лишь отдельные эпизоды его биографии [Серов, 1998]. Между тем жизнен- ный путь Михаила Андреевича заслуживает более подробного освещения.
Настоящая статья являет собой первый опыт систематического жизнеописания М. А. Косого. Источниковую основу статьи образовали преимущественно документы, разрозненно отложившиеся в восьми фондах трех федеральных архивов (прежде всего, в фонде 248 Российского государственного архива древних актов и в фонде 796 Российского государственного исторического архива).
На сегодня достоверно известно, что родился М. А. Косой в 1662 г. 1 Последующие сведения о биографии Михаила Косого относятся к 1682 г., когда он – записной каменщик, тяглец столичной Кошельной слободы – принял участие в беспорядках в Москве в период безвластия после майского выступления стрельцов. Согласно Записной книге Приказа каменных дел, в 1682 г. М. А. Косой «с товарыщи… ходили бунтом к дьяком и подьячим на дворы и брали с них денги» 2. Впрочем, по убедительному предположению А. В. Лаврентьева, каменщики во главе с Михаилом Косым занимались не грабежом, а просто насильственно взыскали суммы, причитавшиеся им за возведение на Красной площади в конце мая – начале июня 1682 г. каменного столпа, прославлявшего стрельцов [Лаврентьев, 1997. С. 187].
Как бы то ни было, криминальные похождения каменщиков не остались безнаказанными. Взятые под стражу после восстановления порядка они были в 1683 г. отправлены в ссылку в Сибирь. В ссылке Михаил Косой пробыл около пяти лет. Обстоятельства его возвращения в Москву поныне остаются туманными.
Лично знавший каменщика «арифметики учитель» Л. Ф. Магницкий утверждал впоследствии, что М. А. Косой прибыл в столицу «тайно собою», иными словами, бежал из ссылки [Магницкий, 1882. С. 3]. Поскольку поиски указа об освобождении Михаила Косого, предпринятые в 1714 г. в архиве Приказа каменных дел, оказались безуспешными 3, следует предположить, что он в самом деле самовольно покинул место ссылки.
Последующие два с лишним десятилетия жизни Михаила Косого выявленными к настоящему времени источниками освещаются скудно. По свидетельству Леонтия Магницкого, именно после возвращения из Сибири, сблизившись с «лютором» Яковом Якимовым, а затем с Д. Е. Тверитиновым, М. А. Косой «принял развращение благочестия», проникся еретическими воззрениями [Там же. С. 3].
Новый поворот судьбы ожидал Михаила Андреевича на исходе 1711 г. По указу Сената от 27 декабря 1711 г., М. А. Косой в качестве целовальника по приему и покупке строительных материалов был направлен в Санкт-Петербург 4. Довелось ли Михаилу Андреевичу потрудиться на строительстве новой столицы, на сегодня установить не удалось. Более определенно можно сказать иное: не позднее 1713 г. М. А. Косой оставил ремесло каменщика и поступил в фискалы. Именно в их ряды в условиях начала 1710-х гг. доступ посадскому тяглецу был de jure и de facto максимально облегчен.
Кто именно содействовал поступлению Михаила Косого на государственную службу, осталось неясным (хотя, судя по последующим событиям, это мог быть кто-то из князей Долгоруковых). Бесспорно известно другое: по именному указу от 24 апреля 1713 г., фискалу Михаилу Андрееву (как в начале 1710-х гг. начал именовать себя М. А. Косой 5) было поручено провести проверку финансовой деятельности Московской Большой таможни и Ратуши 6. Благодаря возложенному на него высочайшему поручению, М. А. Косой-Андреев стал заметной фигурой в бюрократических кругах бывшей столицы.
Новые занятия Михаила Андреевича отнюдь не угасили его давнюю склонность к «еретическому мудрованию». Свои неканонические взгляды он открыто высказывал теперь в стенах московских канцелярий, став активным участником еретического кружка Д. Е. Тверитинова 7. Принимавшая все более значительные масштабы еретическая агитация не могла не встревожить церковные власти. В результате проведенного в 1713–1714 гг. расследования были установлены все активные участники кружка Дмитрия Тверитинова. Двадцать четвертого октября 1714 г. состоялось соборное осуждение еретиков. «Лжеучитель» Д. Е. Твери-тинов, а также наиболее близкие его сподвижники – фискал Михаил Косой и цирюльник Фома Иванов – были преданы анафеме 8.
Между тем, исходя из буквы действующего законодательства, участникам «развратных» бесед грозили не одни лишь ду- ховные санкции. Уместно вспомнить, что деяния Д. Е. Тверитинова и его ближайших сподвижников напрямую подпадали под ст. 1 гл. 1 Уложения 1649 г., в которой предусматривалась единственная санкция – смертная казнь. Ничего подобного, впрочем, не последовало. В Сенате проигнорировали даже всплывшие в ходе расследования деятельности еретического кружка обстоятельства криминального прошлого М. А. Косого-Андреева. Отлученный от церкви фискал продолжил, как ни в чем не бывало, находиться на государственной службе.
Столь благоприятный для Михаила Косого итог разбирательства дела Дмитрия Тверитинова, возможно, связан с действиями князей Долгоруковых. С одной стороны, известно, что дело о еретическом сообществе было «похоронено» в Сенате во многом благодаря усилиям сенатора Якова Долгорукова, – о чем в мае 1716 г. заявил сенатор П. М. Апраксин 9. С другой стороны, рьяно взявшийся за исполнение служебных обязанностей Михаил Косой сумел заинтересовать своими разоблачениями могущественного руководителя следственной канцелярии гвардии майора В. В. Долгорукова, двоюродного племянника князя Якова Федоровича.
О степени тогдашней связанности М. А. Косого с главой следственной канцелярии свидетельствует фрагмент из не вводившегося доныне в научный оборот письма В. В. Долгорукова брату сенатору М. В. Долгорукову от 23 марта 1716 г. В этом сугубо доверительном послании Василий Долгоруков между иного просил брата: «…И Косому изволь сам сказать, и чтоб он имел меня так, как я его в кредит [в]вел, и ко мне б писал» 10. Вероятнее всего, с подачи именно В. В. Долгорукова Петр I направил 28 января 1716 г. письмо главе Подрядной канцелярии Г. И. Кошелеву, в котором предписал оказывать содействие Михаилу Косому, взявшемуся (попутно с фискальской деятельностью) за подряд корабельных лесов 11.
Самым значительным из числа уголовных дел, возбужденных М. А. Косым, следует, по-видимому, признать дело комиссара П. И. Власова и дьяка П. К. Скурихина, обвиненных во взяточничестве и в расхищении 140 665 руб. казенных денег. Данное уголовное дело находилось первоначально в производстве следственной канцелярии В. В. Долгорукова, а затем в канцеляриях ведения Г. И. Кошелева и Ф. Д. Воронова, М. А. Матюшкина и, наконец, И. И. Бутурлина.
Попутно в 1716–1717 гг. М. А. Косой вступил в открытое противоборство с обер-фискалом А. Я. Нестеровым. Согласно изложенной уже в 1723 г. версии Михаила Андреевича, глава фискальской службы принялся, «закрывая хищников», препятствовать расследованию дела П. И. Власова и П. К. Скурихина 12. Породивший чреду взаимных обвинений отмеченный конфликт начал вскоре складываться не в пользу Михаила Косого.
Это было обусловлено тем, что в конце 1710-х гг. Михаил Андреевич лишился поддержки клана Долгоруковых. Арестованный в феврале 1718 г. по обвинению в связях с опальным царевичем Алексеем Петровичем, В. В. Долгоруков был 14 марта 1718 г. приговорен особым судебным присутствием к лишению чинов, конфискации имущества и ссылке 13. Уличенный в крупномасштабных злоупотреблениях по «китайскому торгу», утративший доверие Петра I (хотя так и не осужденный) Яков Долгоруков скончался 23 июня 1720 г. 14
Нет поэтому ничего удивительного, что уже весной 1719 г. М. А. Косой оказался под стражей в Юстиц-коллегии, будучи обвинен А. Я. Нестеровым в утайке таможенных пошлин на внушительную сумму в 48 000 руб. 15 Впрочем, в колодничьей палате Михаил Косой пробыл недолго. Затруднительно сказать, кто на этот раз вступился за Михаила Андреевича, но 27 мая 1719 г. Петр I указал изменить фискалу меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, «на росписку знатным людем».
Сразу после освобождения М. А. Косой подал в декабре 1719 г. в следственную канцелярию Г. Д. Юсупова развернутое доно-шение, содержавшее обвинения А. Я. Нестерова в многочисленных преступлениях против интересов службы. Означенное до- ношение было доложено Петру I, который 16 февраля 1720 г. наложил на него лаконичную резолюцию: «Отослать в Юстиць-колегию» 16. Правда, никакого расследования обвинений, выдвинутых М. А. Косым против обер-фискала, в Юстиц-коллегии предпринято не было.
Однако начавшееся в марте 1722 г. резонансное «дело фискалов», в связи с которым в сентябре 1722 г. был взят под стражу А. Я. Нестеров 17, изменило ситуацию в благоприятную для Михаила Косого сторону. Восьмого января 1723 г. М. А. Косой подал в только что учрежденный Вышний суд очередное доношение с обвинениями Алексея Нестерова в преступлениях против интересов службы и в клевете (каковая имела последствием отмеченное уголовное преследование Михаила Андреевича со стороны Юстиц-коллегии) 18. Возбужденные А. Я. Нестеровым уголовные дела против Михаила Косого были прекращены.
Однако падение Алексея Нестерова имело последствием не только освобождение М. А. Косого от уголовного преследования. Как известно, стремясь укрепить фискальскую службу, Петр I учредил 30 января 1723 г. должность генерал-фискала. Обер-фискал становился отныне вторым лицом в иерархии ведомства. Двадцать второго февраля 1723 г. император определил в генерал-фискалы заслуженного фронтовика, бывшего командира Новгородского пехотного полка А. А. Мякинина. В свою очередь, по предложению Алексея Мякинина, 4 июня 1724 г. Правительствующий Сенат назначил на пост обер-фискала М. А. Косого 19.
Насколько можно понять, бывший полковой командир и бывший каменщик вполне сработались. По крайней мере, сохранившиеся до наших дней письма А. А. Мякинина к Михаилу Косому от июня-июля 1724 г. выдержаны в отчетливо благожелательном духе 20. Впрочем, совместная деятельность Алексея Антоновича и Михаила Андреевича продлилась недолго.
Оказавшись на правительственной должности, Михаил Косой, по всей очевидности, утратил ощущение реальности, вообразил себя всемогущим и принялся – значительно превышая свои полномочия – арестовывать московских купцов, заключая их в специально оборудованную домашнюю тюрьму. Более того, стремясь добиться от незаконно задержанных колодников признательных показаний, новоявленный обер-фискал стал держать их (вероятно, с целью лишения сна) в невиданных железных ошейниках с длинными спицами «и на концах кольца гремя-чие».
Трудно сказать, благодаря кому преступная деятельность М. А. Косого получила огласку, но уже 22 февраля 1725 г. Сенат указал освободить всех арестованных им лиц, а в его доме произвести обыск. Заодно сенаторы затребовали для ознакомления образцы применявшихся в домашней тюрьме «мучителских ошейников» (изобретенных, как вскоре открылось, самим Михаилом Андреевичем). Этим же сенатским указом был наложен арест на имущество М. А. Косого 21.
Точную дату ареста Михаила Косого установить не удалось – вероятно, это произошло уже в конце февраля – начале марта 1725 г. Позднее режим содержания М. А. Косого под стражей оказался ужесточен: по сенатскому указу от 28 марта 1726 г., его было предписано «держать под крепким караулом и ни с кем разговоров иметь не допускать» 22.
Расследование «худых поступков» Михаила Косого не особенно затянулось. Второго марта 1727 г. по пяти эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (включая истязания арестованных) Высокий Сенат приговорил Михаила Косого к пожизненной ссылке в Сибирь с содержанием в Тобольске без определения к делам и к конфискации имущества. В качестве своего рода дополнительной санкции в приговоре был прописан запрет сибирскому губернатору принимать от бывшего обер-фискала какие-либо доношения 23 . Круг злоключений Михаила Андреевича замкнулся: по прошествии 40 с лишним лет он вновь оказался в дальних краях в статусе ссыльного.
В Сибири М. А. Косого ожидали новые превратности судьбы. Явственно не склонный афишировать еретические воззрения в тобольском обществе Михаил Косой не нашел при этом ничего лучшего, как в начале 1728 г. обратиться с просьбой о благословении и назначении духовного отца к самому митрополиту Антонию. На беду Михаила Андреевича в Тобольск вскоре поступило изданное в Москве сочинение покойного митрополита Стефана Яворского «Камень веры». В предисловии автор, руководивший некогда разбирательством дела Дмитрия Тверитинова, подробно изложил обстоятельства изобличения еретиков. Не был обойден вниманием в предисловии и Михаил Косой [Стефан, 1728. С. 1].
Ознакомившись с книгой, бдительный Антоний быстро установил идентичность посетившего его в дни Великого поста 1728 г. ссыльного фискала и упомянутого в трактате митрополита Стефана еретика М. А. Косого. Растревоженный митрополит доложил о ситуации в декабре 1729 г. Святейшему Синоду, попросив заодно уточнить, принес ли Михаил Косой покаяние, и снята ли с него анафема. Поскольку, как быстро выяснилось, никакого покаяния М. А. Косой не приносил, 7 апреля 1730 г. Антонию был направлен синодский указ, в котором предписывалось добиться у М. А. Косого публичного отречения от ереси, после чего разрешить его от наложенного в 1714 г. проклятия 24.
Торжества православия, однако, не получилось. Приглашенный в тобольский Успенский собор «при собрании многонародном духовных и светских персон» Михаил Андреевич – в отличие от глубоко почитавшегося им Д. Е. Тверитинова, отрекшегося от еретических убеждений в феврале 1723 г., – по существу отказался принести покаяние. Разгневанный подобным поворотом дела митрополит Антоний предложил в доноше-нии Синоду от 24 марта 1731 г. направить бывшего обер-фискала для дальнейшего отбывания ссылки в совсем глухие места, «на Обдоры между новокрещеных, из которых едва кто русского языка знает… где и слушать противного церкви святой учения его будет некому» 25.
В Синоде мнение Антония поддержали и в июле 1731 г. направили дело об упорствующем в ереси ссыльном для окончательного решения в Сенат. Правительствующий Сенат, который столь длительное время игнорировал факт соборного проклятия Михаила Андреевича, на этот вынес приговор более суровый, нежели предлагали церковные власти. Тринадцатого августа 1731 г. Сенат осудил Михаила Косого к тюремному заключению с содержанием на хлебе и воде до принесения покаяния с последующей ссылкой в Обдорскую волость 26.
Время и обстоятельства кончины М. А. Косого установить к настоящему времени не удалось. Вероятнее всего, Михаил Косой (которому в то время было уже около 70 лет) не смог вынести тягот строгого заключения и вскоре завершил свои дни в тобольской тюрьме. Остается добавить, что в мае 1741 г. в Сенат поступила челобитная сына Михаила Андреевича Ивана Косого, в которой тот, упомянув о конфискации семейного имущества и о смерти отца в ссылке, просил «наградить его подаянием милости» 27. Решение Сената по этому поводу неизвестно.
Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать, что появление в правительственной среде столь колоритной и вместе с тем столь одиозной фигуры, как Михаил Косой явилось одной из уникальных граней бурного времени реформ первой четверти XVIII в. Только в условиях, когда оказались нарушены традиционные механизмы формирования корпуса государственных служащих, безродный беглый ссыльный и соборно проклятый еретик мог попасть в ряды высшей бюрократии России. Наряду с этим нельзя не признать, что криминальная деятельность М. А. Косого немало способствовала компрометации фискальской службы, приблизив ее ликвидацию в 1729 г.