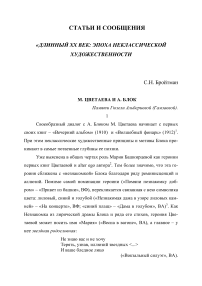М. Цветаева и А. Блок
Автор: Бройтман Самсон Наумович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. "Длинный" ХX век: эпоха неклассической художественности
Статья в выпуске: 1 (1), 2005 года.
Бесплатный доступ
Филология, литературоведение, м. цветаева, а. блок
Короткий адрес: https://sciup.org/14913958
IDR: 14913958
Текст статьи М. Цветаева и А. Блок
М. ЦВЕТАЕВА И А. БЛОК
Памяти Гюзели Альбериевой (Гамзаевой).
Своеобразный диалог с А. Блоком М. Цветаева начинает с первых своих книг – «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912)1. При этом неклассические художественные принципы и мотивы Блока проникают в самые потаенные глубины ее поэзии.
Уже выяснена в общих чертах роль Марии Башкирцевой как героини первых книг Цветаевой и alter ego автора2. Тем более значимо, что эта героиня сближена с «незнакомкой» Блока благодаря ряду реминисценций и аллюзий. Помимо самой номинации героини («Помяни незнакомку добром» – «Привет из башни», ВФ), перекликается связанная с нею символика цвета: лиловый, синий и голубой («Незнакомая дама в узоре лиловых камней» – «На концерте», ВФ; «синий плащ» – «Дама в голубом», ВА)3. Как Незнакомка из лирической драмы Блока и ряда его стихов, героиня Цветаевой может носить имя «Мария» («Весна в вагоне», ВА), а главное – у нее звездная родословная :
Не знаю вас и не хочу
Терять, узнав, иллюзий звездных <...>
И ваше бледное лицо
(«Вокзальный силуэт», ВА).
Ср.: Твое лицо бледней, чем было <...>
Звездой кровавой ты текла <...>
Комета! Я узнал в светилах
Всю повесть раннюю твою
И лживый блеск созвездий милых
Под черным шелком узнаю
(«Твое лицо бледней, чем было…»).
Встреча с Незнакомкой у Цветаевой происходит, как и у Блока, вечером (в сумерках) и весной («Встреча», ВА; «Весна в вагоне», ВФ). При этом воспроизводится заданный Блоком контраст между загадочной героиней-звездой и пошлой обстановкой, в которой происходит встреча:
С той девушкой у темного окна –
Виденьем рая в сутолке вокзальной –
Не раз встречалась я в долинах сна
(«Встреча», ВА).
Обратим внимание и на то, что соотношение «сна» и «яви» здесь, как и в ряде других стихотворений, подано по-блоковски, – так, что «воспринимающее сознание балансирует между этими мирами, не зная, к какому 4 из них прочнее прикрепить ситуацию стихотворения» :
Ты улыбнулась нам, Мария! И каждый вечер, в час назначенный (Ты улыбнулась снам!) (Иль это только снится мне?)
(«Весна в вагоне», ВФ) («Незнакомка»)
Это сочетание контраста и «поэтической модальности» говорит о соприкосновении Цветаевой с блоковским «фантастическим реализмом» или «мистицизмом в повседневности»5. Об этом же свидетельствует игра «земным» и «небесным» планами, «здесь» и «там».
Известно, что это со-противопоставление проходит через все творчество Блока – от «Стихов о Прекрасной Даме» («Все лучи моей свободы / Заалели Там, / Здесь снега и непогоды / Окружили храм») через «Снежную маску» («Здесь и там») – к «Кармен». Для Цветаевой эта игра не менее значима, а в некоторых случаях она дана с прозрачными отсылками к старшему поэту:
«С ним – лишь на небе!» – «Здесь – не с ней!» («Лучший союз», ВА).
Опять любить ее на небе
И изменять ей на земле
(«Кольцо существованья тесно…»).
При этом Цветаева постоянно варьирует данный мотив: от «и здесь, и там» до – «не здесь, а там» и «ни здесь, ни там» («Лучший союз»; «В раю»; «Ни здесь, ни там»).
Переклички обнаруживаются и между такими образами первых книг Цветаевой, как «калитка», «розовый домик» (ВФ), и «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» Блока, а данное в статье поэта соположение России и Германии оживает в цветаевском цикле «Ока»:
Волшебство немецкой феерии,
Томный вальс, немецкий и простой, А луга покинутой России Зацвели куриной слепотой (ВФ).
Ср.: «Если наклониться во ржи (речь идет о Германии – С.Б .), то чувствуешь себя в России: небо синее и колосья спутанные, и пробитая среди них тропа» (5, 84–85); см. здесь же: «Калитка распахнулась», «купы стриженых лип». У Цветаевой: «Старые липы в саду»; блоковские пажи – «гибкие смеющиеся мальчики» – тоже частый мотив интересующих нас книг поэтессы.
Эти переклички вовлекают в поэзию Цветаевой блоковские мотивы «сказочного» («волшебного») и «детского», варьирующие поэтическую модальность и принцип «мистицизма в повседневности». Можно с достаточной долей уверенности говорить, что «детское» начало, столь высоко оцененное критиками «Вечернего альбома» и несколько разочаровавшее их во второй книге6, – факт не только непосредственного творчества, но и художественного разыгрывания родственной Цветаевой черты блоковской поэтики.
То же следует сказать о «Незнакомке» и связанных с нею мотивах («синий плащ», имя «Мария», звездная родословная, ситуация и обстановка встречи). Подхватывая блоковский образ, Цветаева вторично разыгрывает его. Прежде всего, она развивает взгляд на Незнакомку со стороны – видит ее (подобно Блоку) как «другую», но смотрит на героиню старшего поэта не с внешней для нее (мужской), а с внутренней ( женской) точки зрения. Одновременно «другая» оказывается alter ego лирической героини , благодаря чему Незнакомка может представать и как «я» («Привет из вагона»; «Связь через сны», ВА). Так намечается интериоризация женственного начала поэзии Блока: оно дается глазами женщины, а в ряде случаев оказывается нераздельным с лирическим «я». Показательно, что сходным путем по отношению к Блоку идет в это время (независимо от Цветаевой) А. Ахматова7.
Присмотримся, как происходит подобная интериоризация в конкретном тексте – «Прощании» (1910, ВА), которое ориентировано на стихотворение Блока «Под ветром холодные плечи…» (1907, из цикла «Осенняя любовь»).
|
Мы оба любили, как дети, Дразня, испытуя, играя, Но кто-то недобрые сети Расставил, улыбку тая – И вот мы у пристани оба, Не ведав желанного рая, Но знай, что без слов и до гроба Я сердцем пребуду – твоя. Ты все мне поведал – так рано! Я все разгадала – так поздно! В сердцах наших вечная рана, В глазах молчаливый вопрос, |
Под ветром холодные плечи Твои обнимать так отрадно: Ты думаешь – нежная ласка, Я знаю – восторг мятежа! И теплятся очи, как свечи Ночные, и слушаю жадно – Шевелится страшная сказка, И звездная дышит межа. О, в этот сияющий вечер Ты будешь все так же прекрасна, И, верная темному раю, Ты будешь мне светлой звездой! |
Земная пустыня бескрайна, Высокое небо беззвездно, Подслушана нежная тайна, И властен навеки мороз.
Я буду беседовать с тенью!
Мой милый, забыть нету мочи! Твой образ недвижим под сенью Моих опустившихся век...
Темнеет... Захлопнулись ставни, На всем приближение ночи...
Люблю тебя, призрачно-давний, Тебя одного – и навек!
Я знаю, что холоден ветер, Я верю, что осень бесстрастна! Но в темном плаще не узнают, Что ты пировала со мной!..
И мчимся в осенние дали,
И слушаем дальние трубы,
И мерим ночные дороги, Холодные выси мои...
Часы торжества миновали -Мои опьяненные губы
Целуют в предсмертной тревоге Холодные губы твои
Оба стихотворения написаны трехстопным амфибрахием и имеют одинаковое количество строк. Строфика и характер рифмовки явно соотнесены, хотя и не идентичны. У Блока рифмуются между собой четверостишия (а-б-с-д // а-б-с-д), образуя, таким образом, графически «разделенную» восьмистрочную строфу. У Цветаевой строфа восьмистрочная (а-б-а-с-д-б-д-с), и в ней тоже важную роль играют рифмы, объединяющие первую и вторую четверку строк. Многочисленные интонационные и лексические переклички усиливают соотнесенность стихотворений, причем расхождения здесь не менее важны, чем сходство.
Так соотносятся и спорят друг с другом исходные ситуации первых восьми строк: любовный полет у Блока – и горький итог его у Цветаевой («И вот мы у пристани оба, / Не ведав желанного рая» – ср.: «И, верная темному раю, / Ты будешь мне светлой звездой»). Во второй части стихотворений у Блока развивается тема любовного пира, а у Цветаевой, напротив, – страданий любви («В сердцах наших вечная рана»). Наконец, в третьей части у Блока вновь возникает мотив полета, но уже откровенно трагический. У Цветаевой же стихотворение завершается остановкой и ин-териоризацией образа возлюбленного («Твой образ недвижим под сенью /
Моих опустившихся век»). Прощание оказывается ответом возлюбленному, за которым благодаря интексту мерцает лирический герой Блока. С учетом дальнейшего обращения поэтессы к этой теме наш вывод можно сформулировать и резче: Цветаева отвечает лирическому герою Блока от лица молчавшей героини его собственного стихотворения.
П.П. Громов заметил: «При чтении ранних стихов Цветаевой возникает ощущение, что тут из блоковской “вереницы душ” вырывается один из персонажей и разрабатывается с особо обостренным выражением “стихийных черт”»8. Видимо, следует добавить, что этот стихийный женский персонаж не только вырывается из лона поэзии Блока, но может быть обращен к Блоку изнутри его художественного мира : так обретают голос Прекрасная Дама и Незнакомка, у самого Блока либо лишенные слова, либо увиденные с внешней для них, «мужской» точки зрения. В развернутом и углубленном виде такая авторская позиция реализуется в цикле «Стихи к Блоку» (1916–1921)9.
Известно, что Цветаева создала первый вариант этого цикла (1–8 стихотворения) в 1916 г., затем в 1920 ввела в него «Как слабый луч сквозь темный морок адов…», а в 1921 г., уже после смерти поэта, завершила цикл, дописав еще 7 стихотворений и по существу создав его новый вариант. Рассмотрим сначала цикл 1916 г., являющийся художественно целостным организмом.
Здесь еще отчетливее мотивированное темой вхождение внутрь поэтического мира Блока. Изнутри воспроизводится метельная и стихийная атмосфера его стихов (более всего – «Снежной маски»). Разыгрываются мотивы «снежного» («снегового») мира с переносом их на самого персонажа («снеговой певец», «снежный лебедь») и на ситуации блоковской поэзии:
Во мгле сизой Стоишь, ризой Снеговой одет10.
Легли сугробы кругом (2, 212) На груди снегов оковы
В ледяной моей пещере (2, 228).
Варьируются другие важнейшие образы и мотивы «Снежной маски», в частности, мотив «двери», связанный со смертью: «Так по перьям / Иду к двери, / За которой – смерть» («Нежный призрак»). Ср.: «Я не открою тебе дверей. Нет. Никогда» (2, 212); «И опять открыли солнца / Эту дверь» (2, 227); «Кто взломал мои засовы? Ты кому открыла дверь? (2, 228); «Прочь лети, святая стая, / К старой двери / Умирающего рая» (2, 228) и др.
У Цветаевой находят соответствия и блоковские метаморфозы сти-хии-вьюги-героини-снежной птицы, причем они становятся характеристикой не мира и героини , как было у Блока, а самого героя :
Снежный лебедь Большие крылья снежной птицы Мне под ноги перья стелет, Мой ум метелью замели (2, 245).
Перья реют Птица вьюги темнокрылой
И медленно никнут в снег Дай мне два крыла (2, 225). («Нежный призрак»).
Все это способствует созданию «блоковского текста» Цветаевой, но с уже отмечавшейся нами переменой ролей . Если у Блока героиня-вьюга-птица настигала героя, который был страдательным лицом, то у Цветаевой с вьюгой-птицей отождествлен сам герой, а страдательным лицом оказывается лирическое «я» («То не ветер / Гонит меня по городу. / Ох, уж третий / Вечер я чую ворога. / Голубоглазый – / Меня – сглазил / Снеговой певец»). Соответственно, если у Блока была амбивалентна героиня-стихия, то у Цветаевой – герой, который и сакрализован, и демонизирован (ср. слова Б. Пастернака о «святом демонизме» Блока11). Он и «рыцарь без укоризны», и «ворог», нежный призрак, который снится, но и несет смерть, может «рассыпаться», как нечистая сила («Нежный призрак»); и «мертвый ангел», сближенный с блоковским демоном. Ср.: «О, поглядите – как /
Крылья его поломаны» («Думали – человек…»); «И плети изломанных рук», 3, 26. Но он же и Христос – см. прозрачную реминисценцию:
В руку, бледную от лобзаний, Не вобью моего гвоздя
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь
(«Ты проходишь на запад солнца…») («Когда в листве сырой и ржавой…»)
Для того, чтобы понять смысл цветаевских обращений к Блоку, необходимо различать, во-первых, чем она обязана одному из главных первооткрывателей русской неклассической поэзии, и, во-вторых, какой она делает следующий после Блока шаг в истории поэтики.
Известно, что художественным открытием Блока (и шире – символизма) было новое восприятие мира – «не отдельных предметов в мире, а всего мира, всей целостности пространства-времени»12. Символистские мировые «соответствия» стали у поэта новым первообразом изначальной целостности, возрождающим архаические формы образного параллелизма и неосинкретизма. Цветаева как послеблоковский поэт тоже исходит из интуиции целого и его метаморфоз, что позволяет ей органически воспроизвести глубинные принципы поэтики Блока.
Так у нее становятся возможными блоковские по своему генезису художественные превращения (принципиально отличающиеся от условнопоэтических метафор) природы-стихии в человека, а затем в родину и, наконец, в «душу мира». Но младшая поэтесса делает это, как бы уже подразумевая открытия Блока и лишь легким намеком отсылая нас к его художественной логике, поэтому многие ее стихи требуют для своего понимания соответствующего блоковского фона.
Ср.:
Должно быть – за той рощей
Деревня, где я жила,
Должно быть – любовь проще И легче, чем я ждала.
Опять, как в годы золотые Три стертых треплются шлеи, И вязнут спицы росписные В расхлябанные колеи...
Эй, идолы, чтоб вы сдохли Привстал и занес кнут, И окрику вслед – охлест, И вновь бубенцы поют.
Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои,
(«Должно быть – за той рощей…»)
Твои мне песни ветровые – Как слезы первые любви...
(«Россия»)
В обоих стихотворениях задан подразумеваемый параллелизм-тождество родины-природы и человека, а главное – художественно сотворено реальное превращение : у Блока – тройки в родину и любимую, у Цветаевой – родины и любимого – в тройку.
В следующем стихотворении, завершающем цикл 1916 г. («И тучи оводов вокруг равнодушных кляч…») Цветаева уже подразумевает и блоковские метаморфозы, и свою собственную их интерпретацию. Она рисует картину, ставя в один ряд детали родной природы, жизни русской деревни и «имя» героя , которое должно восприниматься как звуковая параллель-тождество разлитому «на всем сиянью». Кстати, это «сиянье» ведет нас к «России», в которой сквозь «избы серые» все время просвечивает изначальное «золото» / «годы золотые», «спицы росписные», «прекрасные черты», «блеснет в дали дорожной / Мгновенный взор из-под платка».
В этом финале «Стихов к Блоку» 1916 г. отчетливее, чем прежде, выявляется не только то, что наследует Цветаева от Блока, но и то, в чем она его продолжает. Поэтесса, во-первых, исходит из блоковского первообраза – неосинкретического целого. Во-вторых, она заменяет в этом неосинкре-тическом целом женский образ – мужским, а «душу мира» – духовной (а не душевной) реальностью «имени». Ведь параллелью природе и родине становится у Цветаевой не просто герой, а его имя, то есть «тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность»13. В-третьих, она ставит свою лирическую героиню в такое же положение по отношению к этой «духовной плоти», в каком лирический герой Блока находился перед «душой мира» («вечно женственным»). Здесь уже знакомая нам смена ролей, переосмысляющая ситуацию блоковской поэзии: сама вечная женственность, изображенная поэтом с внешней для нее («мужской») точки зрения, теперь отвечает поэту изнутри, а своего героя изображает как «вечномужественное», духовное начало. Видимо, это почувствовал П. Потемкин, когда писал: «Книга М. Цветаевой – лучшая из книг лирических стихотворений, посвященных чьей-либо памяти. Она действительно сохранила от тления частицу А. Блока, пусть маленькую, пусть только по-женски, но разве вечноженственного не искал покойник?»14.
Если учесть, что «имя» (и «слово») «есть та смысловая стихия», в которой совершается переход от смертного «мира» к бессмертному «духу»15, то следует подчеркнуть следующее. Вхождение изнутри в поэтику Блока и мена ролями (происходящая при истинной любви, как ее понимает поэтесса) является для Цветаевой не только способом сохранения индивидуальной неповторимости героя в стихии жизни (символом которой является лирическая героиня цикла), но и попыткой его «пресуществления», воскрешения в духе. Собственно, здесь Цветаева и подходит к тому новому слову, которое ей удалось сказать в истории поэтики.
Уже отмечено, что в «Верстах» (куда входит интересующий нас цикл) происходят основополагающие изменения художественного мира Цветаевой. По одному из определений, «Версты» – уже не «поэзия собственных имен, а мифологизация всего лирического комплекса: лирического сюжета, личности лирической героини, образов лирических героев»16. Заметим, что в «Верстах» (и едва ли не в самих «Стихах к Блоку»), собственно, и осуществляется этот переход от поэзии собственных имен к тому, что исследовательница называет мифологизацией и что мы назвали бы поэтикой «пресуществления» или духа.
Действительно, точно фиксируя сам факт качественного изменения поэтики Цветаевой в «Верстах», «Ремесле» и «После России», Е.Б. Коркина дает некорректное описание его сути. Состоит она, якобы, в отказе и отречении поэтессы от жизни – «не только на уровне риторики, а на всех уровнях поэтики». В результате «поэтический мир Цветаевой обесцвечивается, делается безлюдным, беспредметным, содержание произведений становится все более закрытым, стиль – эзотерическим <...> Это не реальный, а идеальный мир»17. Гораздо точнее, однако, говорить не об отказе от жизни, а о ее пресуществлении, объясняющем преобладающе духовную (а не душевную) атмосферу зрелых книг поэтессы.
В «Стихах к Блоку» начинает пресуществляться, переводясь в сферу духа, собственное имя героя. Мы видим это уже в первом стихотворении – «Имя твое – птица в руке…» (тема «имени», таким образом, становится кольцевой: она открывает и завершает цикл 1916 г., придавая ему композиционную законченность). Ежи Фарыно показал, что имя адресата движется в этом стихотворении от внешнего (графического, звукового, материального) бытия к внутреннему (физиологически-духовному) и от самостоятельного, отделенного от субъекта речи – к нераздельному с ним. «В результате, – резюмирует исследователь, – слово совершает тут путь, крайне противоположный его естественному пути: не из “беззвучного” и “нематериального” состояния к звуковому, фоническому, а наоборот: от материального, звукового в сторону нематериального, беззвучного состояния. Таким образом, произнося имя, “я” говорит его “вовнутрь”, поглощает его»18.
В контексте всего цикла такое «говорение внутрь», «поглощение» имени ведет к таинству евхаристии-пресуществления (что перекликается с популярными в 10-е годы идеями «имясловия»19, согласно которым имя Иисуса для адепта «постепенно теряет свою внешнюю словесную оболочку, перестает произноситься вслух, а затем и про себя и, срастившись с дыханием, в безмолвии пребывает в сердце молящегося»20.
Подчеркнем, что Цветаева добивается именно пресуществления, а не просто «отказа от жизни» или отбрасывания-снятия реальных жизненных противоречий. Свидетельство этого – трагедийное звучание уже пер- вой редакции цикла и поразительный факт смерти-пресуществления героя, еще живого в действительности. Само духовное «произнесение внутрь» начинается с «захватывания» («птица в руке») и поглощения-умерщвления и движется через мотивы «холодного» (зимнего) – от «льдинки на языке» и «серебряного» до «нежной стужи недвижных век», «поцелуя в снег», «ключевого», «ледяного» и «голубого». Кроме того, неназванное имя «Блок» скрыто рифмуется со словами, связанными со смертью (висок, курок), поглощением (глоток) либо сном («сон глубок»).
Наконец, заметим, что цикл 1916 г., посвященный живому и находящемуся на вершине славы поэту, все время варьирует мотив его смерти («Имя твое...», «Нежный призрак», «Ты проходишь на запад солнца…», «Должно быть – за той рощей…»), а в одном из стихотворений о герое прямо говорится, как о мертвом («Думали – человек, / И умереть заставили»). Оказывается, что условием пресуществления является смерть-поглощение любимого любящим, и в этом трагизм ревнующей «смертной любви» и «буйной слепоты страстей», неотделимой от духовного чувства самой лирической героини. Так поворачивает Цветаева вечную тему любви и смерти.
После первой редакции «Стихов к Блоку» (апрель-май 1916 г.) блоковская тема звучит у Цветаевой в «Стихах к Ахматовой» (июнь-июль 1916), а также в циклах «Дон Жуан» (февраль-май 1917; к нему примыкают «И была у Дон Жуана шпага…» (14 мая 1917), «Дон Жуан / И разжигая во встречном взоре…», 8 июня 1917), «Кармен» (июль 1917), «Князь тьмы» (июль 1917), «Любви старинные туманы» (особенно «Ревнивый ветер треплет шаль…») и в ряде стихотворений – «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…» (15 авг. 1916), «Из стройного, строгого храма…» (26 мая 1917), «Горечь! Горечь! Вечный привкус…» (10 июня 1917), «С головою на блещущем блюде…» (22 авг. 1917) и др.
В этом круге произведений, связанных с Блоком, Цветаева продолжает тему трагического пресуществления любви и делает следующий шаг от поэтики собственных имен к поэтике собственных имен мифа21. Так мифологизируется имя А. Ахматовой в цикле, ей посвященном, и, что особенно важно для нашей темы, за цветаевскими акцентами здесь просвечивают и блоковские поэтические формулы о «простой» и «страшной» кра- соте героини.
В наиболее простых случаях «Ахматова», благодаря реминисценциям из Блока, наделяется чертами его женских образов:
Еще один огромный взмах –
И спят ресницы .
О, тело милое! О, прах
Легчайшей птицы...
Ты рванулась движеньем испуганной птицы, Ты прошла, словно сон мой легка... И вздохнули духи, задремали ресницы
(3, 25; курсив наш – С.Б. )
Происходит, однако, большее: образ «Ахматовой» проецируется на амбивалентную блоковскую женщину-Русь, сквозь которую, как и у стар- шего поэта, проглядывает «степное», «татарское» лицо:
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.
За море Черное, за море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое, Очи татарские мечут огни...(3,259). Наш путь стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь (3,249).
(См. также «Ты, срывающая покров…», «Ты солнце в выси мне застишь…» и др.).
Господствующие в цикле тона восхищения-преклонения и высокого соперничества с таким адресатом ведут к созданию образа лирической героини, наделенной чертами стихийности и безмерности блоковского женского образа в еще большей мере, чем соперница. Уже вне ахматовского цикла у Цветаевой появляется в эти годы (скрыто или явно) мотив «Донны Анны», отсылающий к легендарной блоковской героине, но и к адресату «Стихов к Ахматовой». Герой же этих произведений сближен с лирическим «я» Блока и его Дон Жуаном:
Я тебя отвоюю у всех других, – у той одной, Ты не будешь ничей жених, я – ничьей женой... Но пока тебе не скрещу на груди персты – О проклятие! – у тебя остаешься – ты...
(«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…»)
Нетрудно заметить, что первые две из приведенных строк отсылают к циклу Блока «Кармен»:
Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь, а две вторые – к «Шагам Командора»:
Донна Анна спит, скрестив на сердце руки.
Только у Цветаевой происходит уже знакомая нам смена ролей: не герой вольно или невольно убивает героиню, а она – его.
Для понимания ситуации важно, что блоковские мифологемы «Кармен» и «Донна Анна» разыгрывала не только Цветаева, но и Ахматова. Последняя, как показал В.Н. Топоров, внешне уступая первенство своей сопернице Кармен-Дельмас, потаенно устанавливает приоритет «Донны Анны»22. Цветаева же демонстративно утверждает «Не было у Дон Жуана Донны Анны» («И была у Дон Жуана шпага…») и замещает «соперницу» образом Кармен, становящейся, как мы увидим далее, вторым «я» самой лирической героини. Так начинает в полный голос звучать мотив любовного захвата, продолжающий тему «Стихов к Блоку» и проясняющийся в свете более позднего высказывания поэтессы о любви.
Цветаева считала, что любовь есть не слияние двух в одно, а смерть-рождение, пресуществление «я» и «ты»: «Я хочу в тебе уничтожиться, то есть я хочу быть тобой. Но тебя уже в тебе нет, ты уже целиком во мне.
Пропадаю в собственной груди (тебе). Я не могу пропасть в твоей груди, потому что там тебя нет. Но может быть я там есть? (Взаимная любовь. Души поменялись домами). Нет, и меня там нет. Там ничего нет. Меня же нигде нет. Есть моя грудь – и ты. Я тебя люблю тобою. Захват? Да, но лучше, чем товарообмен». И далее: «Ну а взаимная любовь? (Товарообмен). Единовременный и перекрестный захват (отдача). Два пропада: души Х в собственной груди, где Z, и души Z в собственной груди, где Х. Но раз я в тебе живу, я не пропала! Но раз ты во мне живешь, ты не пропал! Это бытие в любимом, это “я в тебе, а ты во мне”, это все-таки я и ты , это не двое стали одним. Двое стали одним – небытие. Я говорила о небытии в любимом»23.
И в этом высказывании, и в стихах, связанных с Блоком, Цветаева с присущим ей максимализмом доводит до предела соловьевскую идею «утверждения другого» в любви, исходную и для старшего поэта. Правда, Вл. Соловьев, предполагая равенство мужского и женского, утверждал, что мужчина является здесь активным, «зиждительным творческим началом относительно своего женского дополнения»24. У Цветаевой же при равносильности «я» и «ты» активным оказывается женское начало. Более динамично и амбивалентно и отношение субъектов – «перекрестный захват», завоевание-отдача, умерщвление-пресуществление (за которыми сквозит блоковская «враждующая встреча» влюбленных («О, весна без конца и без краю…») и далее тютчевское «роковое их слиянье, и поединок роковой»). Эта предельность отношения при смене ролей ведет к тому, что если у Блока Донну Анну убивал своей демонической любовью Дон Жуан, то у Цветаевой убить-пресуществить Дон Жуана должна лирическая героиня («Кармен»).
Мы еще раз подходим к тому, что «поэтика пресуществления» у Цветаевой не означает односторонней идеальности-духовности и снятия реальных жизненных противоречий, но ведет к их переосмыслению путем доведения их до предела – и перехода через этот предел. Так, в цикле 1916 г. произнесение имени героя «внутрь» означало и пресуществление, и захват-умерщвление его. В интересующих нас стихотворениях 1916–1917 гг. та же амбивалентность отношения, но семантика смерти и демонические аспекты любовного «захвата-поглощения» акцентированы еще сильнее.
Лирическая героиня может выступать в облике Саломеи, несущей голову Иоанна, – ситуация, отсылающая (как обычно, со сменой ролей) к Блоку:
С головою на блещущем блюде Кто вышел? Не я ли сама?..
А глаза у него, как у рыбы, Стекленеют, глядя в небосклон.
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.
Лишь голова на черном блюде Глядит с тоской в окрестный мрак
(«С головою на блещущем блюде…») («Холодный ветер от лагуны…»
Подобные ситуации в лирике Цветаевой могут быть лучше поняты с учетом созданной ею мифологемы «разрозненной пары». Эта мифологема окончательно проговаривается в цикле 1924 г. «Двое». Предназначенные друг для друга любящие, по Цветаевой, –
Есть рифмы – в мире том
Подобранные. Рухнет
Сей – разведешь
(«Есть рифмы в мире сем…»).
Такими предназначенными друг для друга в мире том, но разъединенными в сем мире парами являются в разных стихотворениях Цветаевой Елена и Ахиллес, Саломея и Иоанн, Кармен и Дон Жуан, в подтексте интересующих нас стихов 1916–1917 гг. – «Блок» и лирическая героиня поэтессы. Но предустановленная гармония, на которой могут держаться отношения подобной пары, иномирна по отношению к этому миру. Он ее не может выдержать и разъединяет героев, отчего и сам переживает катастрофические разрушения:
Да, хаосу вразрез
Построен на созвучьях
Мир, и, разъединен,
Мстит (на созвучьях строен!)
Неверностями жен
Мстит – и горящей Троей
(«Есть рифмы в мире сем…»).
Поэтому стремление такой пары к соединению понимается Цветаевой как своеобразный «святой демонизм» (Б. Пастернак) – следование высшей предустановленной гармонии вразрез земным мерам, не вмещающим ее и требующим своего пресуществления.
Хотя сама интересующая нас формула появляется лишь в 1924 г., поэтесса уже в стихах 1916–1917 гг. создает явную «разрозненную пару» в лице двух вечных, но для поэтессы в первую очередь блоковских образов – Дон Жуана и Кармен. Предлагается миф об их встрече, причем Дон Жуан оказывается соотнесенным с лирическим героем Блока («Долго на заре туманной / Плакала метель, / Уложили Дон Жуана / В снежную постель»), а Кармен – с лирической героиней самой поэтессы.
Ситуация любовной встречи такой разрозненной пары проигрывает- ся здесь опять-таки с точки зрения героини, а не героя, то есть с уже знакомой нам переменой ролей:
И падает шелковый пояс
К ногам его райской змеей
И кто-то, под маскою кроясь: Узнайте! – Не знаю! – Узнай! – («И падает шелковый пояс…»)
Серебряный твой узкий пояс – Сужденный магу млечный путь25
В длинной сказке
Тайно кроясь Бьет условный час, В темной маске прорезь Ясных глаз (2, 239).
Ср. также «И разжигая во встречном взоре…» и «В ресторане»: у Цветаевой «под вой ресторанной скрипки» происходит встреча Дон Жуана и Кармен, знакомый нам по Блоку обмен взглядами, причем ситуация, как и следовало ожидать, дана с точки зрения героини, в одном месте прямо отождествляющей себя с птицей, то есть использующей образ, который до этого прилагался Блоком к своей героине:
И узнаю, раскрывая крылья – Ты рванулась движеньем испуганной птицы...
Напротив, Дон Жуан дается со стороны, что также особенно выразительно на фоне блоковской внутренней точки зрения на своего лирического героя:
И разжигая во встречном взоре Любовь и блуд...
...и печальная власть Бунтовать ненасытную женскую кровь,
Уложили Дон Жуана
В снежную постель
(«Долго на заре туманной…»)
Разжигая звериную страсть («Ты твердишь, что я холоден...»); На снежносинем покрывале Читаю свой условный знак...
И на прибрежном снежном поле
(«Не надо»).
С поэтикой Блока связано и развертывание сюжета встречи цветаевской разрозненной пары. После второго стихотворения цикла, где говорилось о смерти героя, любовный роман вступает в новую фазу:
После стольких роз, городов и тостов – Ах, ужель не лень
Вам любить меня? Вы почти что остов, Я почти что тень.
Любовь «почти что остова» и «почти что тени» отсылает нас к любовным парам и коллизиям «Страшного мира» Блока («Пляски смерти»; «Любовь мертвеца» и др.). Осуществленный поэтессой выход героев за границу единичной жизни и мотив «возвращения» уже имел прецедент у Блока, который мог, например, взяв к стихотворению «Как тяжело ходить среди людей…» эпиграф из Фета («Там человек сгорел»), изобразить далее уже посмертную участь сгоревшего , как позже – Цветаева. Заметим, что ситуация встречи Дон Жуана и Кармен проигрывается и в «Князе Тьмы»
(«Страстно рукоплеща») и более скрыто в цикле «Кармен», также содержащем реминисценции из Блока:
Вот грудь моя. Вырви сердце И пей мою кровь, Кармен! Не знаете, что на карту Поставили, игроки?
И сердце захлестнула кровь, Смывая память об отчизне...
А голос пел: Ценою жизни Ты мне заплатишь за любовь.
(«Бушует снежная весна…»)
Но важнее, что Цветаева разыгрывает не только ситуации и мотивы, но глубинные принципы поэтики Блока. Она по-блоковски отождествляет женщину и страну (родину) – и именно встреча с женщиной-страной несет Дон Жуану смерть («На заре морозной…»). Замечательно, что этот блоковский образный ход является для поэтессы чем-то естественным и само собой разумеющимся, а потому не требующим «доказательства». Вместо блоковского выраженного параллелизма («О, Русь моя! Жена моя!») Цветаева считает возможным ограничиться простым упоминанием «отчизны» и «я», а также «Дон Жуана» и «дальних стран» («На заре морозной…»; «Долго на заре туманной…»). Иначе говоря, блоковский параллелизм у Цветаевой дан в форме простого слова , несущего, однако, в подтексте миф ее предшественника. Так же поступает поэтесса и в более позднем стихотворении «Как слабый луч...»: «синий плащ» здесь просто упоминается в одном ряду с «Россией», и этого оказывается достаточно для оживления блоковского контекста – синкретизма женщины-России. Вообще ощущение какой-то, кажется, даже чрезмерной простоты и «оголенности» интересующих нас стихотворений 1916–1917 гг., объясняется во многом именно формой воссоздания мифа через «простое слово», отсылающее к не столь явным (в частности, блоковским) художественным смыслам.
Следующий шаг в разработке темы и реализации поэтики «пресуществления» Цветаева делает в поэме «На красном коне» (дек. 1920–янв.
1921). Связь этой поэмы с поэзией Блока (притом, что посвящена она Ахматовой – опять двойная адресация) удостоверяется ключевыми реминисценциями. Прежде всего, обратим внимание на строки, составляющие композиционное кольцо поэмы:
Не Муза, не Муза
Над бедною люлькой
Мне пела, за ручку водила... .............................................
Не Муза, не Муза, – не бренные узы Родства, – не твои путы,
О Дружба! – не женской рукой, – лютой
Затянут на мне –
Узел.
Отстраняя от себя женственную Музу (с которой в «Стихах к Ахматовой» отождествлялся адресат) и соотнося свою жизненную и творческую судьбу с мужественным Гением, Цветаева понуждает нас увидеть за ним «Блока».
Прежде всего, требования, предъявленные героине ее Гением, – пожертвовать жизнью любимого, ребенка, попрать святыню и отдать свою собственную жизнь – находят близкие соответствия в открывающем третий том Блока стихотворении «К Музе»:
Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть,
Есть проклятье заветов священных, Поругание счастия есть.
К Блоку отсылает и то, что отношения героини и Гения – любовные, хотя и особого рода, заставляющие вспомнить широко разработанный у старшего поэта мотив «враждующей встречи» («Перед этой враждующей встречей / Никогда я не брошу щита»; «За мученья, за гибель – я знаю – / Все равно: принимаю тебя!»; «Я хотел, чтоб мы были врагами...», «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух» и др.).
Собственно цветаевской новацией здесь является, во-первых. мужской род Гения, заместившего Музу и, во-вторых, акцентирование равносильности новой разрозненной пары, Гения и лирической героини. (Ведь даже три жертвы, принесенные героиней, не пробуждают ответных чувств Гения – его любовь она заслуживает лишь тогда, когда как равная восстает на него и получает смертельную рану). Замечательно, что следующее затем любовное признание Гения строится на реминисценциях из Блока: Дитя моей страсти – сестра – брат – ... по-народному, как можно любить Невеста... мать, сестру и жену в одном лице
Моя и ничья до конца лет.
Пребудешь? Не будешь ничья,
родины (5, 321).
Нет, никогда моей, и ты ничьей
– нет?
не будешь.
Так вот что так влекло сквозь бездну грустных лет.
Не столь явные реминисценции мы находим в последних строках поэмы: героиня, выдержавшая любовный поединок, обретает черты «демона утра» из «Кармен» Блока26.
Получается, что, отказываясь от женственной (и «душевной») Музы, Цветаева создает в лице Гения («Блока») ее мужественный духовный коррелят. Здесь доведена до предела та тенденция, которую мы уже отмечали в предыдущих книгах поэтессы: мена ролей. Если интенция Блока направлена на женственное начало, то героиня поэмы устремляет свои интенции к Гению, обретает активность и слово и тем самым становится по отношению к нему в то положение, какое у Блока занимала прекрасная, но безгласная Дама. По существу, в поэме женственное начало в лице героини проходит испытание мужественным духом (Гением-Блоком), и первой проверкой становится то, способна ли героиня выполнить трижды повторенный приказ Гения:
...убей,
Освободи Любовь!
Смысл этого рефрена осложняется тем, что он, будучи обращен к героине, одновременно отсылает к строкам А. Ахматовой, посвященным, по преданию, Блоку:
Ты, приказавший мне: довольно!
Поди, убей свою любовь!
(«Покорно мне воображенье…»)
Двойная адресованность этой реплики (и всей поэмы, как и «Стихов к Ахматовой») заставляет нас обратить внимание на связь имен Блока и Ахматовой, уже всплывавшую в нашем исследовании.
Цветаева обнаруживает знание распространенной в литературных и окололитературных кругах «легенды» о «романе» Блока и Ахматовой. Хорошо осведомлена она и о стихотворениях, в которых современники видели отражение этого романа27, причем некоторые из них, например, стихотворение Блока «О нет! не расколдуешь сердца ты…», обращенное им, по той же легенде и по мнению современного исследователя, к Ахматовой28, поэтесса обыгрывает неоднократно.
Но в поэме еще отчетливее, чем в стихах 1916–1917 гг., видно, что Цветаева, учитывая легендарный роман, художественно оспаривает его и создает другой его вариант, при котором лирическое «я» поэмы «вытесняет» свою соперницу. Такой поэтический ход станет психологически понятнее, если учесть, что и позже поэтесса утверждала: «Я была его (Блока – С.Б .) самая большая любовь, хотя он меня и не знал, большая любовь, ему сужденная – и несбывшаяся»29. Показательно, что Цветаева хотела, чтобы скрытая связь имен Блока и Ахматовой в ее поэме была замечена, по крайней мере, ее адресатами. Она пишет малознакомой ей Ахматовой странное (если не учитывать этого желания) письмо, в котором передает через нее поручение вовсе незнакомому с ней Блоку: «Пусть Блок (если он повезет рукопись) покажет Вам моего Красного коня»30.
Итак, женственная Муза замещена мужественным Гением; героиню стихотворения Ахматовой, обращенного к Блоку, вытесняет иное лирическое «я»; происходит меня ролей женственного и мужественного начал, по сравнению с Блоком; наконец, предлагается другое понимание отношения этого «я» к Гению, нежели у «соперницы». Ведь приведенные выше императивы Гения-Блока имеют у обеих поэтесс принципиально разный смысл. У Ахматовой герой требует, чтобы она «убила свою любовь», у Цветаевой – чтобы она «освободила» (пресуществила) любовь, убив все, что любви мешает (см. мифологему «разрозненной пары»). Соответственно стихотворение Ахматовой «Покорно мне воображенье…» кончается тем, что героиня выбирает не смерть, а творчество, которое должно увековечить и преобразить отвергнутую им любовь («Но если я умру, то кто же / Мои стихи напишет вам...»). Поэма же Цветаевой завершается смертельной раной героини в поединке-диалоге с Гением и ее близящимся пресуществлением – отлетом в «лазурь».
Отмеченная связь блоковской и ахматовской тем в поэме еще ждет своего осмысления, но некоторые выводы уже сделать можно. Известно, что Блок создал в русской поэзии новые художественные формы воплощения любви, понятой как путь обретения глубоко интимного единства с женственной «Душою Мира». Ахматова и Цветаева дают вслед за Блоком и в соотнесении с ним женский вариант любовного пути. Относительно Ахматовой это заметил уже Н.В. Недоброво, который писал, что в искусстве до Ахматовой была «до чрезвычайности разработана поэтика мужского стремления и женских очарований, и, напротив, поэтика женских волнений и мужских обаяний, почти не налажена. Оттого типы мужественности едва намечены и очень далеки от кристаллизации, полученной типами женственности»31. Автор статьи видит художественную задачу Ахматовой «в разработке поэтики мужественности, которая помогла бы затем создать идеал вечномужественности и дать способ определить в отношении к это- му идеалу каждый мужской образ» – это обеспечит женщине «религиозную ее равноценность с мужчиной»32.
Цветаева тоже идет по этому пути, причем идеалом вечной мужественности, заменившим женственную Музу, в проанализированных нами произведениях оказывается образ, соотнесенный с лирическим «я» Блока. Именно предельная направленность на так понятого «другого» (Духа-гения, вечномужественное начало) становится отправной точкой предпринятого Цветаевой пресуществления поэтики Блока. Поэтому «На красном коне» – одно из ярких свидетельств преобладания в ее зрелой поэзии духовной, а не душевной атмосферы. Не отрицая конечно-размерных жизненных ценностей, лирическая героиня поэмы проходит их насквозь – на уровень духа, на котором только и может быть, с ее точки зрения, разрешена сверхжизненная задача пресуществления-освобождения любви. На этом же уровне должно быть понято и странное с житейской точки зрения утверждение: «Я была его самая большая любовь, хотя он меня и не знал». Именно то, что «он меня и не знал», в такой системе ценностей оказывается важным преимуществом перед другими.
Ведь и Ахматова путем создания своего «блоковского текста» разыгрывает тему «совсем другого своего “я”, трагически разъединенного с “ты” в пространстве, времени, в самой структуре человеческого существования. Лишь в поэтическом пространстве стихотворения, в музыке или сне может быть преодолена эта разъединенность, и реальные невстречи пресуществятся в сверхреальные встречи»33. А. Ахматова создала, как показывают исследования, «меональный тип описания», при котором целое строится не на «последовательности наиболее существенных и положительно выраженных элементов сюжета», а на «последовательности стыков между ними». При этом образ превращается в «след самого себя», он проявлен через то, что «ему сопутствует в качестве косвенного подтверждения, реплики, внешнего действия, жеста»34. Собственно поэтика Ахматовой и есть путь такого косвенного, «меонального» пресуществления любви.
Невстречи Цветаевой еще реальнее ахматовских («он меня и не знал»), тем напряженнее и безмернее утверждение сверхреальных встреч и того духовного пространства, в котором они происходят – и в поэме, и в «Стихах к Блоку». На правах именно духовной реальности («духа же еще нет, для него все предстоит еще, все же, что уже есть, для него уже бы-ло»35) поэтесса включает в свой цикл непроисшедшие в жизни события – смерть Блока в стихах 1916 г. и «невстречу» с ним в стихах 1921 г., завершающих цикл и написанных уже после смерти адресата.
Любопытна параллель с Блоком. Известно, что заключительный раздел «Стихов о Прекрасной Даме» помечен в каноническом тексте: осень – 7 ноября 1902 г. Но последнее стихотворение книги датировано 5-м ноября; 7 -го же произошло решающее объяснение Блока с Л.Д. Менделеевой – и именно это событие жизни вводится в книгу как бы на равных правах со стихами . Художественное целое «Стихов о Прекрасной Даме», таким образом, вбирает в себя факт бытия во всей его нетронутости, этот «факт» оказывается «нераздельным» со стихами, но и «неслиянным» с ними36.
Цветаева же включает в свои книги, как мы заметили, и непроисшедшие в жизни (в факте бытия) события , но она не оставляет их нетронутыми, как в данном случае Блок, а размыкает их в духовную реальность. Уже после завершения цикла, 14 февраля 1923 г. она писала Б. Пастернаку: «Я в жизни волей стиха – пропустила большую встречу с Блоком (встретились бы – не умер), сама 20-ти лет легкомысленно наколдовала: – “И руками не потянусь”»37. «Жизнь» здесь с самого начала выступает подвластной «воле стиха», то есть духовной, по Цветаевой, реальности ее собственного цикла, но и сама возможная и несостоявшаяся «встреча» – этой же духовной природы, трансформирующей жизнь («встретились бы – не умер»).
Перед нами не совсем блоковский принцип нераздельности-неслиянности, а какая-то иная, до сих пор не осознанная исследователями образная структура, более всего ощутимая на фоне поэтики предшественника.
Присмотримся в этом плане к одному стихотворению второй части «Стихов к Блоку»:
Вот он – гляди, – уставший от чужбин, Вождь без дружин.
Вот – горстью пьет из горней быстрины, – Князь без страны.
Там все ему: и княжество, и рать, И хлеб, и мать.
Красно твое наследие, – владей, Друг без друзей!
Здесь неуловимо оживают мотивы многих стихотворений «На поле Куликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит лениво…», «В ночь, когда Мамай залег с ордою…», «Опять с вековою тоскою…»): сама ситуация битвы («вечного боя»), образы рати, героя, который одновременно является воином-князем, и матери, за которой угадывается родина. Блок создал в своем цикле особого рода «эмпирические символы» (Д.Е. Максимов), сохраняющие в образе как бы вполне реальные отношения (ср. строки, от которых отталкивалась, очевидно, Цветаева: «С полуночи тучей возносилась / Княжеская рать, / И вдали, вдали о стремя билась, / Голосила мать»). В то же время целое у него строится на символических соответствиях: я / нераздельный, но и неслиянный с «я» участник Куликовской битвы, он же «князь» / вождь и одновременно «жених» Ее; ты / природа, любимая, родина, мать, Ты.
Цветаева уже подразумевает блоковские соответствия и в то же время трансформирует их, то более, то менее очевидно. Сильнее всего напоминает блоковский тип параллелизма стихотворение «А над равниной...»:
А над равниной – Крик лебединый.
А над равниной – Вещая вьюга.
Над окаянной – Взлет осиянный.
Матерь, ужель не узнала сына?
Дева, ужель не узнала друга?
«Крик лебединый», «вещая вьюга», «взлет осиянный» – параллели к герою; вторым рядом соответствий становятся символически эквивалентные для Блока «матерь» и «дева», а в третьей строфе менее явно – родина и душа мира. Но при этом блоковский параллелизм женщины и стихии претворяется в параллелизм стихии и ее мужского коррелята, поднимающегося от природно-стихийного к духовному («взлет осиянный», ср. «сиянье» в последнем стихотворении цикла 1916 г.).
В более радикальных случаях Цветаева трансформирует параллелизм природного и душевного «разрозненным параллелизмом» (ср. «разрозненную пару») природно-душевного, с одной стороны, и духовного – с другой. В природно-душевном мире, по Цветаевой, господствует «неслиянность»: провиденциально предназначенная друг для друга пара оказывается разрозненной, а герой приведенного выше стихотворения здесь – «вождь без дружин», «князь без страны», «друг без друзей». Но в реальности духовной («вот – горстью пьет из горней быстрины») все иначе:
Там все ему: и княжество, и рать, И хлеб, и мать.
Там , однако, не просто полнота обладания после здешней лишенности: с учетом блоковской поэтики княжество, рать, хлеб, мать – это не только совокупность «наследуемого», но ряд символически эквивалентных друг другу (нераздельных) образов родины, матери и любимой.
Получается, что Цветаева сохраняет и переосмысляет саму семантику древнего образного языка параллелизма, возрожденного к новой жизни поэзией ХХ в. и, может быть, более всего лирикой Блока. Известно, что параллелизм – тип образа, основанный не на различении и расчленении соположенных явлений, а на их синкретизме, если не тождестве. У Блока параллелизм и был способом возрождения генетической памяти «народной души» и создания такого типа целого, который принципиально противостоял раздробленности и атомарности современного сознания. Цветаева, подключаясь к блоковскому типу образа, переносит сферу его действия из природно-душевного мира в духовный, а сами природно-душевный и духовный планы делает «разрозненными» членами параллелизма.
Одновременно, как мы уже неоднократно отмечали, носителем духовного («пресуществляющего») плана у нее становится сам герой («Гений-Блок»), до которого должна дорасти и стать конгениальной ему лирическая героиня. Блоковское видение мира как вечноженственного начала поэтесса преобразовывает в видение мира как вечно- мужественного «Гения», а предстояние поэта Прекрасной Даме переосмысляется, как предстояние женственного начала герою-духу, что подчеркивается откровенными реминисценциями:
Днепром разламывая лед, Тогда просторно и широко
Гробовым не смущаясь тесом, Смотрю сквозь кровь предсмертных слез
Русь – Пасхою к тебе плывет И вижу: по реке широкой
Разливом тысячеголосым... Ко мне плывет в челне Христос...
Не свой любовный произвол И челн твой будет ли причален
Пою – своей отчизны рану... К моей распятой высоте.
(«Так, Господи! И мой обол…») («Когда в листве сырой и ржавой…»
Завершением цветаевского «разрозненного параллелизма» и мены субъектной позиции по сравнению с Блоком становится финальная формула цикла:
Ревнует смертная любовь.
Другая – радуется хору
(«Так, Господи! И мой обол…»).
Очень выразительно отличие такого завершения от характерного для Блока:
Уж не мечтать о нежности, о славе, Все миновалось, молодость прошла! Твое лицо в его простой оправе Своей рукой убрал я со стола
(«О доблестях, о подвигах, о славе…»).
На первый взгляд кажется, что у Блока доведен до предела безысходно-трагический тон. Однако замечено, что этот, казалось бы, безысходный финал – «творческое состояние»38 и, добавим мы, блоковский вариант пресуществления любви, творчески учтенный Цветаевой (у нее, как уже отмечалось, есть прямые отсылки к этому тексту).
Лирическое «я» Блока в стихотворении переживает не только последнее возмездие (своеобразную смерть), но и трагический катарсис и выходит к совершенно новому для него пониманию любви. Завершающий жест героя («Своей рукой убрал я со стола») сродни гетеанскому «Faust! Faust! Iammer genug!», о котором Блок заметил: «У нас искони держатся одного только толкования этого места, то есть в восклицании хора видят только заключительную страдательную ноту. Кажется, его можно толковать и по-другому, то есть в голосе хора не одно страдание, но и крик освобождения, хотя и болезненный. Во всяком случае, этому месту надо дать ту двойственность , которая свойственна всем великим произведениям искусства» (6, 467).
У самого Блока эта «двойственность» подана так, что эксплицированной оказывается, как и у Гете, страдательная нота, а катарсическое начало оставлено в глубоком подтексте. Цветаева же создает «разрозненный параллелизм»: она раздельно выговаривает обе стороны «двойственности» и в то же время разводит-соотносит их с разными «мирами» – природно- душевным и духовным.
В «Стихах к Блоку» происходит самоопределение поэтики Цветаевой по отношению к одному из ее главных учителей, но сама тема и возможность новых сверхреальных встреч с героем остается открытой. И действительно, отныне в творениях поэтессы дух Блока будет постоянно возникать в тайной глубине, часто в тени других, более явных адресатов.
Высказано убедительное предположение, что в «Брожу – не дом же плотничать…» (1923) за героем (его прототип – К.Б. Родзевич, едва ли не самая сильная «земная» любовь Цветаевой) мерцает образ «Блока». При этом биографический адресат оказывается лишь «минутным баловнем» на фоне своего сверхреального соперника39. Это предположение обретает дополнительную убедительность в свете интертекстуальных связей этого стихотворения с «О нет! не расколдуешь сердца ты…» Блока, на которое поэтесса откликалась и прежде, в частности, в связи с его возможной адре-сованностью Ахматовой40.
Блок, обращаясь к «провиденциальной собеседнице», говорил о невозможности между ними земной любви и предсказывал:
Забудешь ты мою могилу, имя...
И вдруг – очнешься: пусто; нет огня;
И в этот час, под ласками чужими, Припомнишь ты и призовешь – меня!
Как исступленно ты протянешь руки
В глухую ночь, о бедная моя!
Увы! Не долетают жизни звуки К утешенным весной небытия.
Ты проклянешь, в мученьях невозможных, Всю жизнь за то, что некого любить!
Но есть ответ в моих стихах тревожных: Их тайный жар тебе поможет жить.
В «Тебе – через сто лет» Цветаева разыграла женский вариант подобной позиции, а в нашем стихотворении лирическая героиня. наоборот, сама становится той, к кому обращено послание Блока, и отвечает поэту, подтверждая правоту его предвидения:
...мертвец настойчивый Все призрак, все мертвец в лучах мечты.
В очах зачем качаешься?
... с минутным баловнем Крадясь ночными тайнами Тебя под всеми ржавыми Фонарными кронштейнами…
Ты все один
(Курсив везде наш. – С.Б. )
И в этот час, под ласками чужими Припомнишь ты и призовешь меня! Как исступленно ты протянешь руки В глухую ночь, о бедная моя!..
Ты проклянешь в мученьях невозможных
Всю жизнь за то, что некого любить...
Поэтическая реплика Цветаевой получает особый смысл в свете еще одной – метатекстовой – переклички.
Стихотворение Блока завершается метатекстуальным выходом – строками о самих пишущихся стихах:
Но есть ответ в моих стихах тревожных: Их тайный жар тебе поможет жить.
На этом же уровне отвечают поэту сначала Ахматова:
От тебя приходила ко мне тревога И уменье писать стихи
(надпись на «Четках», 1914), а потом Цветаева:
Такая власть над сбивчивым Числом у лиры любящей, Что на тебя, небывший мой, Оглядываюсь – в будущее.
Во всех трех случаях метатекстовые переклички связаны с жизнетворческой традицией символизма, тем показательнее различия в преломлении этой традиции на уровне поэтики.
Блок говорит в своем стихотворении о сверхреальном («тайном»), и в это единое пространство сверхреального «стихи» и «жизнь» входят как два самоценных и отвечающих друг другу начала. Они «нераздельны» («ответ» – в «стихах», в том числе вот в этих, сейчас создаваемых, уже переходящих границу искусства и становящихся «стихотворением стихотворения»), но и «неслиянны» («стихи» – не «жизнь», их «жар» только «поможет жить», благодаря «тайне», в них заключенной).
Ахматова избирает обычный для нее «косвенный» способ выражения. Роль «единого» скрыто играет у нее сам адресат: от него исходит и «жизнь» («тревога»), и «стихи». При этом «жизнь» и «стихи» у нее более «раздельны», чем у Блока (не связаны прямо диалогическими отношениями, а только присоединены друг к другу союзом «и»), но и более, чем у него, «слиянны» (само слово «жизнь» здесь не произнесено, а замещающая его «тревога» несет в себе косвенно след своего происхождения от блоковских «тревожных стихов»).
Цветаева же прибегает к своей обычной прямой и «абсолютной» форме выражения. Блоковские «стихи» и «жизнь» разведены у нее по двум трансцендентным друг для друга мирам – конечно-размерному («число») и духовному («лира»). При этом «лира» соответствует у Цветаевой не «стихам» блоковского текста, а его «тайне» («единому»), ибо предполагает безмерность, выход за границы времени («оглядываюсь в будущее»). Отсюда ее «власть» (ср. встречу с Блоком, которая пропущена «волею стиха») над «сбивчивым» (в другом стихотворении «лгущим») «числом» – власть духа («Гения») над протекающим во времени («минутным») его субститутом.
Из всего уже сказанного очевидно, что обращение Цветаевой к Блоку всегда было жизнетворческим и метатекстуальным: в ее стихотворениях разыгрывалась не просто жизнь адресата, а его жизнь, уже ставшая художественным миром («поэтикой») и обретшая «имя», то есть тончайшее духовное тело. В диалоге с так понятым именем Блока вызревала оригинальная жизненно-творческая установка и поэтика Цветаевой. Может быть, по- этому дух поэта присутствует в стихотворениях Цветаевой, посвященных не только реальным возлюбленным, но и идеальным избранникам-поэтам. Особый интерес представляет появление Блока в поэтическим романе поэтессы с Б. Пастернаком.
Можно выделить несколько способов введения «Блока» в этот роман. Так, строки из посвящений Пастернаку могут стать автореминисценциями из стихотворений, связанных с Блоком:
Чрез лихолетие эпохи
Лжей, насыпи – из снасти в снасть –
Мои неизданные вздохи, Моя неистовая страсть. («Все перебрав и все отбросив…»)
Ты все один, во всех местах, Во всех мастях, на всех мостах. Моими вздохами – снастят! Моими клятвами – мостят!
(«Брожу – не дом же плотничать…»)
...и дата лжет календарная...
О, по каким морям и городам Искать тебя (незримого – незрячей) («Какие чаянья, когда насквозь…»)
Такая власть над сбивчивым Числом у лиры любящей, Что на тебя, небывший мой, Оглядываюсь в будущее («Брожу – не дом же плотничать…»)
Что я в тебе утрачиваю всех
Когда-либо и где-либо небывших Что на тебя, небывший мой... («Чтоб высказать тебе...»).
Возможен и близкий ход: тема Орфея, возникшая в «Стихах к Блоку» («Как сонный, как пьяный…»), заново проигрывается в стихах, обращенных к Пастернаку («Вереницею певчих стай…»; «Обернись!.. Даровых больниц…» из цикла «Провода»). Наконец, в целом ряде стихотворений, адресованных Пастернаку, наряду с реминисценциями из его стихов появ- ляются и реминисценции из Блока:
В час, когда мой милый брат...
Милый брат! Завечерело... Перед нами семафора Зеленеет огонек
(«Милый брат! Завечерело…»)
Все перебрав и все отбросив
(В особенности семафор)
(«В час, когда мой милый брат…»)
Цитируются также строки «Голоса из хора» (и уже не первый раз):
О, том, что тише вы и я
Так часто плачем вы и я...
Травы, руды, беды, воды... («Весна наводит сон...»)
Будьте ж довольны жизнью своей, Тише воды, ниже травы...
Выразительно и то, что отмеченные переклички сконцентрированы в книге «После России», само название которой так или иначе ассоциируется с поэзией Блока. Тема России звучит и в реминисценциях из Блока, включенных в посвящения Пастернаку:
Растекись напрасною зарею Красное, напрасное пятно! Молодые женщины порою Льстятся на такое полотно. («Рельсы»)
Так мчалась юность бесполезная, В пустых мечтах изнемогая... Лежит и смотрит как живая... Красивая и молодая...
(«На железной дороге»)
«Русской ржи от меня поклон…», возможно, тоже связано с блоковскими мотивами и является отсылкой к уже цитировавшейся Цветаевой статье Блока «Девушка розовой калитки и муравьиный царь». В этом контексте и «Расстояния: версты, мили…» может прочитываться как имеющее двойного адресата.
Интертекстуальные связи Цветаевой и Пастернака – самостоятельная тема. Оставаясь в рамках нашей проблемы, следует заметить следующее.
Во-первых, диалог Цветаевой с Блоком не может быть понят в изоляции от большого диалога русской поэзии начала ХХ в. Поэтесса постоянно вовлекает в свой разговор с Блоком третьих лиц: сначала Ахматову, у которой она «оспаривала» Блока, потом Пастернака, своеобразным «соперником» которого оказывается Блок. Во-вторых, появление именно Пастернака как соучастника диалога связано с теми изменениями, которые претерпевает поэтика Цветаевой. Уже в «Стихах к Блоку» и «На красном коне» достаточно определенно обнаружились метатворческие установки поэтессы – ее стремление к тому, чтобы творчество вышло за свои собственные границы и обрело особого рода духовную реальность. Сходные задачи ставил перед собой в эти годы и Пастернак, у которого онтологизация художественного мира проведена последовательнее, чем у большинства его современников. Показательно, что сам Пастернак истоки этого качества своей поэзии находил именно у Блока, у которого «страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала ветреную рябь, сами оставили в нем сырые, могучие, воздействующие следы»41. Цветаева и тут шла своим путем, но для истории поэтики ее встреча с Пастернаком «в Блоке» исполнена глубокого, еще не проясненного наукой смысла.
Наконец, заметим: метатворческая составляющая поэтики Цветаевой связана (как явствует из проведенного анализа), в частности, и с тем, что поэтесса ориентирована на «другого» («Блока») как на воплощенную духовную реальность, особого рода «бытие духа». Эта установка может быть лучше понята в контексте современных Цветаевой жизнетворческих исканий, выразившихся не только в литературе и искусстве, но и в философии. Ведь именно к созданию «онтологии духа» стремились многие русские философы, считавшие свое время провозвестием третьего откровения – откровения духа42.
Цветаева была в русле этих исканий, достаточно вспомнить ее утверждение, что душа «для человека духа – почти плоть», или определение души как «первого, самого низкого неба духа»43. При этом она, как мы видели, в диалоге с Блоком изменила унаследованную ситуацию. Если у поэта дух стремился войти в стихию жизни (мировую душу) и воплотиться в ней (поэтика Блока – плод такого воплощения), то у Цветаевой – ответное устремление мировой души к духу, воплощенному в поэтике ее предшественника. Такая интенция породила оригинальное разыгрывание-пресуществление поэтики Блока и привела к созданию собственно цветаевской художественной онтологии духа.
Список литературы М. Цветаева и А. Блок
- Цветаева М. Стихотворения и поэмы: В 5 т. Нью-Йорк, 1980-1982. Т. 1-2.
- Цветаева М. Избранные произведения. М.; Л., 1965. (Б-ка поэта; Б.С.).
- Цветаева М. После России. Париж, 1928.
- Блок А. Собрание сочинений. В 8 т. М.; Л., 1960-1963.
- Гамзаева Г.Ш. М. Цветаева и М. Башкирцева (к вопросу об авторе и герое в ранней лирике М. Цветаевой)//Внутренняя организация художественного произведения. Махачкала, 1987.
- Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981. С. 168.
- Блок А. Указ. соч. Т. 8. С. 40.
- Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 145.
- Топоров В.Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: «блоковский» текст Ахматовой). Berkeley, 1981.
- Громов П.П. А. Блок, его предшественники и современники. М.; Л.,1966. С. 453-454.
- Пастернак Б. К характеристике Блока//Блоковский сборник. Вып. 2. Тарту, 1972. С. 451.
- Померанц Г.С. Басе и Мандельштам//Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1970. С. 199.
- Флоренский П.А. Имена//Опыты. Литературно-художественный ежегодник. М., 1990. С. 362.
- Цит. по примечанию Е.Б. Коркиной: Цветаева М. Стихотворения и поэмы. Изд. 3-е. Л., 1990 (Б-ка поэта; Б.С.) С. 721.
- Лосев А.Ф. Философия имени. М.,1990. С. 165.
- Коркина Е.Б. Поэтический мир М. Цветаевой//Цветаева М. Стихотворения и поэмы. Л., 1990. (Б-ка поэта; Б.С.). С. 11-12.
- Там же. С. 23.
- Фарыно Е. Некоторые вопросы теории поэтического языка (язык как моделирующая система. Поэтический язык М. Цветаевой)//Семиотика и структура текста. Вроцлав; Варшава; Краков; Гданьск, 1973. 6.12.
- Флоренский П.А. У водоразделов мысли//Флоренский П.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 281-340
- Лосев А.Ф. Указ. соч.
- Паперно И. О природе поэтического слова. Богословские источники спора О. Мандельштама с символизмом//Литературное обозрение. 1991. № 1.С. 31.
- Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 194.
- Топоров В.Н. Указ. соч. С. 35-36.
- Цветаева М. Избранная проза: В 2 т. Нью-Йорк, 1979. Т. 1. С. 115-116.
- Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 530.
- Жирмунский В.М. Анна Ахматова и Александр Блок//Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1971. С. 354.
- Жирмунский В.М. Указ. соч.
- Черных В.Я. Переписка Блока с А.А. Ахматовой//Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4: А. Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. С. 574-575.
- Кудрова И. «И проходишь ты над своей Невой» (М. Цветаева и А. Блок)//Ленинградская панорама: Литературно-критический сборник. Л., 1988. С. 403.
- Письма Марины Цветаевой//Новый мир. 1969. № 4. С. 190.
- Недоброво Н.В. Анна Ахматова//Русская мысль. 1915. № 7. С. 60.
- Там же. С. 60.
- Топоров В.Н. Указ. соч. С. 12.
- Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д. и др. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма//Russian Literature. 1974. № 7-8. С. 56.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 179.
- Бройтман С.Н. Источники формулы «нераздельность и неслиянность» у Блока//А. Блок. Материалы и исследования. Л., 1987.
- Цветаева М. Об искусстве. М., 1991. С. 385.
- Гиршман М.М. Анализ поэтических произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева. М., 1991. С. 107.
- Кудрова И. Указ. соч.
- Пастернак Б. Воздушные пути. М., 1983. С. 428.
- Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1990. С. 128.
- Цветаева М. Избранная проза: В 2 т. Т. 1. Нью-Йорк, 1979. С. 395.