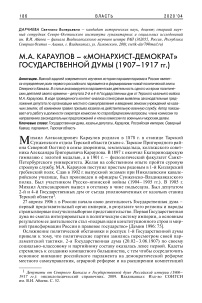М.А. Караулов - "монархист-демократ" Государственной думы (1907-1917)
Автор: Дарчиева Светлана Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Важной задачей современного изучения истории парламентаризма в России является определение роли первого российского парламента в формировании новой политической элиты Северного Кавказа. В статье анализируется парламентская деятельность одного из ярких политических деятелей своего времени, депутата 2-й и 4-й Государственных дум от Терского казачьего войска М.А. Караулова. В ходе проведенного контент-анализа стенограмм выявлены законодательные предложения депутата по организации местного самоуправления и введению земских учреждений на казачьих землях, об изменении правил призыва казаков на действительную военную службу. Автор показывает его работу в должности секретаря комиссии по старообрядческим вопросам, члена комиссии по направлению законодательных предположений и члена комиссии по военным и морским делам.
Государственная дума, казачьи депутаты, караулов, российская империя, северный кавказ, парламент, терская область
Короткий адрес: https://sciup.org/170171180
IDR: 170171180 | DOI: 10.31171/vlast.v28i4.7457
Текст научной статьи М.А. Караулов - "монархист-демократ" Государственной думы (1907-1917)
М ихаил Александрович Караулов родился в 1878 г. в станице Тарской Сунженского отдела Терской области (ныне с. Тарское Пригородного района Северной Осетии) в семье дворянина, землевладельца, коллежского советника Александра Григорьевича Караулова. В 1897 г. окончил Екатеринодарскую гимназию с золотой медалью, а в 1901 г. – филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Желая на собственном опыте пройти суровую строевую службу, М.А. Караулов поступил простым рядовым в 1-й Кизлярский гребенский полк. Сдав в 1902 г. выпускной экзамен при Николаевском кавалерийском училище, был произведен в офицеры Сунженско-Владикавказского полка. Был участником Русско-японской войны (1904–1905 гг.). В 1905 г. Михаил Александрович вышел в отставку в чине подъесаула. Был депутатом 2-й и 4-й Государственных дум от съезда уполномоченных от казачьих станиц Терской области1.
27 апреля 1906 г. в России начала свою деятельность Государственная дума – первый представительный орган империи, в результате чего регионы и народы страны впервые получили выборное представительство. Первая Государственная дума не смогла интегрироваться в политическую систему империи, а основным результатом ее деятельности стал «подрыв идеи конституционного строя и мирной трансформации России в правовое государство» [Демин 1996: 75].
Осложнение политической обстановки и роспуск 1-й Государственной думы привели к тому, что политические партии занялись пересмотром своей парламентской тактики. 2-я Государственная дума (20.02–3.06.1907) по своему социально-классовому и партийному составу оказалась левее первой. Кадеты стремились к созданию компактного большинства, с тем чтобы сосредоточить основное внимание российского парламента на демократической реформе местного самоуправления, аграрной реформе и на расширении компетенций самой Думы. Тем не менее весьма неоднородный состав депутатов осложнял реализацию этих планов. Кадеты смогли наладить взаимодействие только с представителями казачьей группы и мусульманской фракцией, но соглашения как с крайне правыми, так и с социалистами и трудовиками достичь не удалось [Томсинский 1924: 20-21, 73].
С начала работы 2-й Думы Караулов вошел в состав казачьей группы, и в этот период его политические взгляды претерпели очевидную трансформацию. Разногласия между представителями различных казачьих войск (Уральского, Сибирского, Донского, Астраханского, Терского), непримиримые противоречия по основным программным и тактическим вопросам привели к размежеванию в среде самой казачьей группы. Но Караулов не желает, как он сам отмечал, «хромать ни направо, ни налево», критикует донских казаков: «Что ни говоришь – они все свое толкуют. Причем это свое, собственно говоря, даже и не свое, не казачье, а просто подлаживаются под моду, равняются на сильных; сильными же в их глазах являются левые» [Сергеев, Шапсугов 2003: 50]. Караулов придерживался монархических взглядов, но весьма своеобразно. В думской анкете он называет себя «монархистом-демократом»1.
«По вопросам общегосударственной политики, – писал М.А. Караулов, – я всегда имел вполне определенную программу, не подходящую ни к одной из общеизвестных политических партий. В 1907 году, перед выборами во вторую Государственную Думу, я опубликовал эту программу в печати во всеобщее сведение, назвав ее программой – Казачьей партии “монархистов-демократов”, потому что, по моему твердому убеждению, она вполне соответствует исконному духу и историческим задачам казачества, всегда неизменно твердо стоявшего, с одной стороны, на страже целости и непоколебимости Царского Трона, а с другой всеми порывами души своей отстаивавшего самобытность и вольности казачьи. И доныне я твердо стою на той же точке зрения – останусь непоколебимо стоять на ней и впредь с тем же неизменным девизом: Царю – власть, народу – волю!» [Чемакин 2016: 95].
В ходе работы 2-й Думы Караулов был избран членом распорядительной комиссии и комиссии по рассмотрению законопроектов по местному управлению и самоуправлению. Караулов неоднократно выступал с думской трибуны по аграрному и армейскому вопросам, в решении которых он отстаивал свою собственную точку зрения, не примыкая ни к правительству, ни к оппозиции.
Основные дебаты во 2-й Государственной думе развернулись вокруг аграрного вопроса. Как известно, в 1906 г. председатель Совета министров П.А. Столыпин взял курс на проведение социально-экономических преобразований, стержнем которых должна была стать аграрная реформа. Подписанный царем в междумский период Указ о дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования, был опубликован 9 ноября 1906 г. и стал отправной точкой столыпинской аграрной реформы2. Согласно указу, каждый домохозяин-общинник получал право закрепления надела в личную собственность. Решение о выделении участка принималось на сходе общины большинством голосов, при этом выделившийся домохозяин имел право обменять свою землю на целый участок в виде хутора или отруба. Соответствующее оформление выделенных наделов возлага- лось на специальные землеустроительные комиссии Министерства внутренних дел [Дарчиева 2015: 153].
На основе данного указа депутаты 2-й Думы должны были разработать новое земельное законодательство. Решением этой непростой задачи занялась специальная комиссия в составе 53 депутатов, представлявших различные думские партии1.
Во время обсуждения аграрных преобразований неожиданно остро встал вопрос о казачьем землевладении. Радикальная программа комиссии, в значительной мере отражавшая интересы малоимущих казаков и предполагавшая улучшение их положения за счет состоятельной верхушки казачества, была категорически отвергнута руководством Терского казачьего войска. При обсуждении аграрного вопроса Караулов полагал, что желательна не «национализация земли, в широком смысле, а широкая муниципализация земли, обращение земли в собственность отдельных областей, сосредоточение в руках населения, связанного общим происхождением, общей историей и общими, разумеется, хозяйственными условиями. Архангельский земледелец ничего общего не имеет с обитателем южнорусских губерний; и это убеждение, очевидно, в населении несомненно существует»2.
Реакция начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска А.М. Колюбакина последовала незамедлительно: 14 мая 1907 г. в секретном циркуляре атаманам отделов он пишет о «вреде» от деятельности Караулова, а через месяц в новом циркуляре призывает атаманов и вовсе запретить казачьему депутату разъезжать по станицам и встречаться с своими избирателями «не только на станичных сходах, но и в частных собраниях» [Дунюшкин 2003: 88].
Как видим, администрация Терской области пыталась воспрепятствовать деятельности законно избранного депутата. И это не удивительно, ведь Караулов стремился улучшить положение простого казачества не путем изъятия земель таких же малоимущих горцев, а за счет земель крупных землевладельцев, к числу которых относилась и верхушка Терского казачьего войска.
После роспуска 2-й Государственной думы Караулов принимал живейшее участие в общественной жизни края, состоял членом различных обществ. Он активно участвовал в создании Общества любителей казачьей старины и занимался научно-исследовательской деятельностью. В этот период он написал несколько книг по истории терского казачества.
Караулов не смог принять участие в выборах в 3-ю Государственную думу, так как был отстранен генерал-губернатором «за вредную деятельность» (впоследствии Правительствующий сенат признал эти действия незаконными). Политическая и депутатская деятельность Караулова была продолжена в 4-й Думе (15.11.1912– 02.03.1917).
В Думе 4-го созыва Караулов примкнул к фракции прогрессистов, а также стал секретарем казачьей группы. Материалы стенографических отчетов и заседаний казачьей фракции свидетельствуют о весьма широком поле деятельности депутата. Он часто выступал с докладами на общих собраниях Думы, пристально следил за общим ходом думских дел, изучал поступавшие в Думу от разных ведомств материалы и активно участвовал в их обсуждении в комиссиях и подкомиссиях (по вероисповедному и земельному вопросам, по военному и морскому делам, по местному самоуправлению и многому другому).
Как депутат от съезда уполномоченных казачьих станиц Караулов с думской трибуны привлекал внимание членов Думы не только к специфическим казачьим проблемам, но и к решению вопросов горских народов Терской области. В своих выступлениях оратор связывал интересы региона с общеполитическими и экономическими вопросами Российской империи.
Одной из первоочередных задач российского правительства на Северном Кавказе было проведение земской реформы, имевшей большое значение для экономического и политического развития края. Проблема земского самоуправления в Терской области привлекала к себе широкое внимание общественности и власти, прежде всего наместника. Решение вопроса о введении земства затягивалось по причине того, что правительство считало местное население не подготовленным «к развитым формам общественной жизни». Но главное препятствие заключалось в том, что Военное министерство и МВД выступали против введения земств в Терской и Кубанской областях, поскольку считали эти формы самоуправления неподходящими для казачества1. Законопроект «О введении земских учреждений в Терской области» внесли в 4-ю Государственную думу 14 января 1914 г., и первым, кто его подписал, был Караулов. Депутаты, подписавшие законопроект, считали, что противоречия между горским населением Терской области и не горским вытекали из имевшего места разрыва в уровне и качестве жизни. Горцы не имели доступа к получению образования и квалифицированной медицинской помощи, полностью отсутствовали просветительские учреждения, отсутствовала письменность на родном языке – все это создавало атмосферу вражды и озлобления горских народов по отношению к российской власти [Туманов 1915: 125-126]. Предложения думцев сводились к следующему: ввести в Терской области земские учреждения по действовавшему общему положению 1890 г.; образовать в пределах Терской области в каждом отделе и округе земскую организацию уездного типа, соединив вместе Грозненский и Веденский округа и выделив город Владикавказ в особую земскую единицу; вопросы войскового и станичного казачьего хозяйства и быта передать органам войскового казачьего самоуправления [Туманов 1915: 128]. Предложения депутатов позволили бы, не нарушая традиционных форм организации хозяйственного быта казаков, вместе с тем не лишать горское население в установлении местного самоуправления. МВД данное предположение Думы не поддержало на основании того, что земство «не отвечает ни укладу жизни, ни нравам, ни понятиям казаков», а значит неприемлемо для хозяйственного устройства их быта. Противодействие МВД, так же как и большинства Государственной думы, реорганизации казачьего самоуправления объяснялось желанием сохранить сословную замкнутость казачества – этой монархически настроенной, консервативной части российского общества.
Караулов принципиально выступал за укрепление отношений казачества с горцами, пусть даже изначально на уровне руководства и влиятельных лиц. Так объединили свои усилия на благо и процветания Терской области две талантливые, яркие личности – городской голова города Владикавказа Г.В. Баев и депутат от Терского казачьего войска М.А. Караулов. Одним из важных вопросов для экономического развития Владикавказа был проект о строительстве Кавказской перевальной железной дороги, которая соединила бы Северный Кавказ и Закавказье.
Проект перевальной железной дороги из Владикавказа в Тифлис рассматривался на самом высоком правительственном уровне. 8 мая 1914 г. министр путей сообщения статс-секретарь С. Рухлов представил доклад в Совете мини- стров «О разрешении сооружения распоряжением и за счет казны Перевальной железной дороги через Главный Кавказский хребет по направлению к городу Тифлису», который 16 мая вынес положительное решение. Проект поступил на рассмотрение в Государственную думу. Благодаря членам Государственной думы М.А. Караулову и М.М. Далгату, «оказавшим полную поддержку при отстаивании интересов города в великом для нас деле сооружения перевальной железной дороги, верится, что дорога будет сооружена», – писал городской голова Г.В. Баев1. Воплощение этого проекта, несомненно, способствовало бы индустриальному росту как Северо-Кавказского региона, так и всей страны. Однако в силу разных причин этот важный для страны проект не удалось реализовать.
Самодержавие в позднеимперский период по-прежнему рассматривало казачество как важную опору в борьбе против сил, способных поколебать устои российской государственности. В гражданском быту казачество подчинялось МВД, а в отношении исполнения воинской повинности – военному министерству. Особая роль казачьих верхов во властных структурах Терской области позднее даст основание характеризовать систему управления области как «узко-кастовое, военно-казачье управление» [Цаликов 1913: 71]. Одним из важных вопросов для казачества являлся вопрос о самоуправлении. Большинство казачьих депутатов в 3-й и 4-й Думах старались добиться введения такой формы самоуправления в казачьих войсках, чтобы ограничить произвол власти военного министерства.
В Государственную думу 4-го созыва (27 февраля 1913 г.) казачьей группой, кадетами и прогрессистами был внесен законопроект «Об устройстве местного самоуправления в казачьих войсках»2. По мнению депутатов, причиной оскудения казачества являлось неэффективное управление казачьими территориями. Во-первых, система управления была слишком сложной и бюрократизированной; любой вопрос должен был проходить как минимум три инстанции: военно-окружной штаб, казачий отдел Главного штаба, Военный совет; во-вторых, управление состояло преимущественно из военных, чаще всего некомпетентных в хозяйственных вопросах; в-третьих, отсутствовали какие-либо хозяйственные органы.
Инициаторы законопроекта предлагали ввести систему самоуправления, которая учитывала бы местные условия и особенности. Авторы предлагали, что выборы в органы местного самоуправления будут бессословными и при отсутствии ценза. Авторы законопроекта добивались либерализации милитаристского, военно-бюрократического управления казачьими войсками. Дальнейшего движения законопроект не имел.
Первая мировая война отодвинула многие текущие проблемы социальноэкономического характера на неопределенное время. И многие насущные законопроекты государственной важности не были реализованы.
Список литературы М.А. Караулов - "монархист-демократ" Государственной думы (1907-1917)
- Дарчиева С.В. 2015. Государственная Дума Российской империи и вопросы экономического, политического и культурного развития Северного Кавказа (1906-1917 гг.): монография. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-А. 260 с
- Демин В.А. 1996. Государственная дума России (1906-1917): механизм функционирования. М.: РОССПЭН. 216 с
- Дунюшкин И.Е. 2003. Юг России: Накануне катастрофы. Борьба органов государственной власти и терского казачества с национал- клерикальным сепаратизмом на Северном Кавказе в начале XX в. Екатеринбург. Изд-во Уральского ун-та. 272 с
- Сергеев В.Н., Шапсугов Д.Ю. 2003. Парламентская деятельность депутатов российского казачества (1906-1917). Ростов на/Д: Изд-во СКАГС. 511 с
- Томсинский С.Г. 1924. Борьба классов и партий во второй Государственной думе. М.: Красная Новь. 175 с
- Туманов Г.М. 1915. Итоги земских совещаний на Кавказе. Тифлис. 129 с
- Цаликов А.Х. 1913. Кавказ и Поволжье. Очерки инородческой политики и культурно-хозяйственного быта. М.: М. Мухтаров. 184 с
- Чемакин А.А. 2016. Имперская народная партия и независимая группа IV Государственной думы: русские национал-демократы в 1913-1917 гг.: дис. … к.и.н. СПб. 328