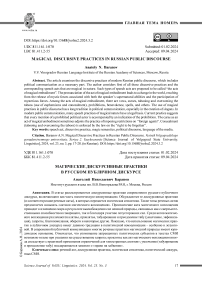Магические дискурсивные практики в русском публичном дискурсе
Автор: Баранов А.Н.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Теория и практика речевой коммуникации
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются дискурсивные практики современного русского публичного дискурса, включающего как часть политическую коммуникацию. Обсуждаются те дискурсивные практики (и соответствующие речевые акты), в которых передается магическая семантика. Такие типы речевых актов предлагается называть «актами магического воплощения». Произнесение акта магического воплощения приводит к изменению мира в результате высвобождения сил неясной природы, связанных как с сверхъестественными способностями говорящего, так и благодаря участию потусторонних сил. Среди актов магического воплощения различаются клятвы, проклятья, табуирование и преодоление табу (умолчание, эвфемизация), запреты, благопожелания, обереги и некоторые другие. Показано, что использование магических практик в публичном дискурсе имеет давнюю традицию в политической коммуникации - особенно в лозунговой. В современной публичной коммуникации многие речевые практики магической природы имеют юридическое основание. Отмечается, что упоминание запрещенных политических субъектов в текстах СМИ возможно только при указании на существование запрета; проклятье как акт магического воплощения иногда соседствует с практикой применения ограничений для «иностранных агентов»; умолчание (табуирование и преодоление табу) поддерживается законом о «праве на забвение».
Речевой акт, дискурсивная практика, магическая семантика, политический дискурс, язык сми
Короткий адрес: https://sciup.org/149146319
IDR: 149146319 | УДК: 811.161.1:070 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.3.2
Текст научной статьи Магические дискурсивные практики в русском публичном дискурсе
DOI:
Цитирование. Баранов А. Н. Магические дискурсивные практики в русском публичном дискурсе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2024. – Т. 23, № 3. – С. 17–28. – DOI:
Sine ira et studio.
Дискурс и дискурсивные практики
Согласно одному из распространенных пониманий дискурса, его основу составляют дискурсивные практики, принятые в данном языковом сообществе при функционировании языка в конкретной проблемной области. В такой интерпретации естественно говорить о политическом дискурсе, дискурсе Третьего рейха, дискурсе Великой французской революции, дискурсе Перестройки, а также о научном дискурсе, переговорном дискурсе, дискурсе зеленых. Индивидуальные речевые практики также образуют свои дискурсы. В этом случае часто говорят о дискурсе Горбачева, дискурсе Сталина, дискурсе Рейгана и т. п.
Под дискурсивной практикой в данном исследовании понимаются тенденции в использовании близких по функции альтернативных языковых средств выражения определенного смысла [Баранов, 2000, с. 246]. Эти тенденции находят отражение в частоте употребления соответствующих феноменов фонетического, морфологического, синтаксического и семантического уровней. Так, в языке математики доказательство теоремы можно было бы назвать и другими альтернативными номинациями: аргументация теоремы , демонстрация теоремы , проверка теоремы , приведение исчерпывающих логически непротиворечивых аргументов в пользу тезиса и пр. Тем не менее как дискурсивная практика закрепился термин доказательство теоремы . Остальные приведенные номинации достаточно случайны и не могут рассматриваться как норма для данного типа дискурса.
Таким образом, дискурс Горбачева – это совокупность дискурсивных практик Горбачева, проявляющихся в его политических выступлениях, интервью и т. д. Тоталитарный дискурс – это совокупность дискурсивных практик, характерных для политического языка тоталитарного общества, а дискурс о безопасности – совокупность дискурсивных практик, встречающихся в дискуссиях о бе- зопасности государства и формирующих эти дискуссии как часть политического дискурса в целом.
В политическом дискурсе советской эпохи периода 30–50-х гг. XX в. к числу дискурсивных практик относилось обязательное упоминание в текстах публичной сферы классиков марксизма-ленинизма. Так, А.С. Чикоба-ва в известной в свое время статье «О некоторых вопросах советского языкознания», инициировавшей дискуссию о «новом учении о языке» академика Н.Я. Марра, без указания страниц ссылается на Ленина и Сталина:
-
(1) В самом деле, раз все развитие человеческого общества обусловлено развитием производственных отношений, и язык, это – «важнейшее средство общения» ( Ленин 1), «орудие борьбы и развития» ( Сталин ), естественно, должен быть обусловлен в своем развитии теми же отношениями (Чикобава А. С. О некоторых вопросах советского языкознания // Правда. 1950).
Характерная дискурсивная практика эпохи развитого социализма, широко использовавшая в советских СМИ, – вводный оборот в частности :
-
(2) На церемонии вручения наград тов. Л.И. Брежнев, в частности , сказал: – Не так давно мы говорили, что между нашими странами над бескрайними океанскими просторами перекинут широкий и прочный мост – мост мира и дружбы. Сегодня, товарищи, мы имеем полное право сказать, что этот мост проходит и через просторы космоса (Награды героям космоса // Огонек. 1980).
Еще одна характерная дискурсивная практика брежневских времен – обращение к генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу, которая предполагала полный вариант имени и отчества в сочетании с прилагательным дорогой . Распространенность этой номинации породила многочисленные саркастические шутки и анекдоты, один из которых воспроизводится у Александра Зиновьева:
-
(3) Или вот такой анекдот, например. В квартире Брежнева зазвонил телефон. Брежнев снял
трубку и сказал: « Дорогой Леонид Ильич слушает» (Зиновьев А. А. Русская судьба, исповедь отщепенца).
В приведенных примерах дискурсивные практики несут смысловую нагрузку. Так, упоминание классиков марксизма-ленинизма должно было свидетельствовать о приверженности автора соответствующей идеологии. Использование вводного оборота в частности отражало точность и объективность советских СМИ. Номинация дорогой Леонид Ильич демонстрировала пиетет, который как бы испытывал автор текста по отношению к генеральному секретарю, а по факту – к руководителю государства.
Дискурсивная практика не обязательно несет дополнительную смысловую нагрузку, связанную с идеологией. Так, словосочетание ограничение стратегических вооружений вряд ли можно рассматривать как идеологически мотивированное: это термин, использование которого показывало включенность говорящего в соответствующий дискурс – переговорный процесс. Появление в речи альтернативных, но не общепринятых номинаций типа уменьшение ядерного оружия , редукция количества стратегических вооружений вплоть до элиминации указывало на то, что говорящий по крайней мере в данной коммуникативной ситуации вышел за пределы специального дискурса.
Совокупность дискурсивных практик формирует дискурс как таковой – институционализирует его, если не формально, то по неписанным правилам и обычаям. В оформившийся дискурс, имеющий долгую историю существования, могут проникать практики других дискурсов – часто очень далеких по тематике и структуре. Так, в политической коммуникации присутствуют некоторые практики поэтического дискурса – метафоры, языковая игра, звуковой повтор и пр. (подробно см.: [Баранов, Северская, 2016]). Приведем характерный пример поэтической техники аллитерации в политической публицистике:
-
(4) Про тив кого это НАТО и про тив кого эта ПРО ? Нам все время кажется, что про тив нас. <...> Так кто у России про тивник? (Веталь В. Так кто у России противник? // Newsland).
Магическая функция языка
Роман Якобсон, выделяя функции языковой системы, включил в набор функций магическую, или заклинательную, функцию. В известной статье «Лингвистика и поэтика» он писал: «...магическая, заклинательная функция – это, по сути дела, как бы превращение отсутствующего или неодушевленного “третьего лица” в адресата конативного сообщения. “Пусть скорее сойдет этот ячмень, тьфу, тьфу, тьфу, тьфу! ” <...>. “Вода-водица, река-царица, заря-зорица! Унесите тоску-кручину за сине море в морскую пучину... Как в морской пучине сер камень не вставает, так бы у раба божия имярека тоска-кручина к ретивому сердцу не приступала и не приваливалась, отшати-лась бы и отвалилась”» [Якобсон, 1975, с. 200].
Приводимые Романом Якобсоном примеры очевидно относятся к перформативам, то есть речевым высказываниям само произнесение которых является совершением некоторого действия – дела (ср. название курса лекций основоположника теории речевых актов Дж. Остина «How to do things with words» [Austin, 1962]; русский перевод: [Остин, 1986]). К речевым актам с магической функцией относятся проклятия, клятвы, божба, молитвы, заговоры, славословия, наложение табу, обереги и пр. Назовем речевые акты с магической функцией «актами магического воплощения», имея в виду, что за ними нет собственно научно доказанной основы. В то же время говорящий, очевидно, перевоплощается в мага, волшебника и т. п., приписывая своим словам функцию непосредственного воздействия на действительность. Итак, произнесение речевого акта магического воплощения приводит к изменению мира в результате высвобождения сил неясной природы, что происходит по разным основаниям:
-
1) благодаря сверхъестественным способностям говорящего (эвфемизация как снятие или ограничение проклятья; клятва – один их типов иллокуции обещания; другие перформативные акты);
-
2) благодаря участию сверхъестественных сил (реализация санкции в клятве – Провалиться мне на этом месте! ; речевые акты оберега и проклятья также апеллируют к неким силам, внеположным человеку);
-
3) благодаря 1) и 2).
В акте магического воплощения языковой знак в определенном смысле становится частью денотата, то есть приобретает неконвенциональные характеристики, отсутствующие в семантике обычных слов и речевых высказываний (см., например: [Мечковская, 1998, с. 42]). Воздействующая сила акта магического воплощения заключается в самих словах и не нуждается в посредниках – в адресате, которому направлены обычные речевые акты побуждения. В то же время адресат акта магического воплощения (если он есть) оказывается, скорее, объектом воздействия магических сил, то есть «пациенсом». Самого акта произнесения (локуции) речевого сообщения может быть достаточно для высвобождения магических сил, однако в ряде случаев он включен в некоторый ритуал – в последовательность невербальных и, возможно, вербальных действий, – выполнение которого и позволят достичь необходимого перлокутивного эффекта. Как и перформативы Дж. Остина, акт магического воплощения стирает грань между словами и миром, превращая говорящего в демиурга языка в сильном смысле, то есть не просто в творца языка, а в человека одних слов которого достаточно, чтобы изменить мир.
Разумеется, акты магического воплощения воздействуют на мир по-разному. Так, речевой акт проклятья (в том числе наведения порчи) – Чтоб ты сдох! ; Ни дна, ни покрышки! – порождает плохое, наводя его на адресата; благо-пожелания, славословия – Слава КПСС! ; Миру – мир! ; Свят Свят Господь Саваоф! – наоборот, наводят на адресата хорошее. Использование оберегов типа Чур меня! ; Не к ночи будь помянут! отводит плохое от говорящего.
Некоторые типы клятв при нарушении предполагают санкцию со стороны сверхъестественных сил:
-
(5) – А мы будем бороться с голодом! Денег дам – сколько хочешь! – хрипел богатый человек, весь упакованный в поскрипывающую кожу. – Вот клянусь в небесах, пока не сели... Да разрази меня Господь !.. (Солнцев Р. Полураспад. Из жизни А.А. Левушкина-Александрова, а также анекдоты о нем // Октябрь. 2002);
-
(6) Трактирщик. <...> ( Придворной даме, шепотом. ) Под любым предлогом заставьте принцессу вернуться сюда, в эту комнату.
Придворная дама. Силой приволоку, разрази меня нечистый ! (Шварц Е. Л. Обыкновенное чудо);
-
(7) – Ну, ты, помолчала бы. Ведь только языком виляешь, сволочь, а сама небось до смерти рада. Баба выпрямилась, стала креститься и клясться: – Да разрази меня гром ... да провалиться мне в тартарары ... да чтоб мне не видать отца с матерью... – Ладно, ладно. Замолчи (Эртель А. И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги);
-
(8) На другой день в балашовский особняк пожаловал поэт Петр Орешин. – Дай, Серега, взаймы пять червонцев, – сказал он Есенину. – В субботу отдам. Будь я проклят . – Нет ни алтына, душа моя. И Есенин, вынув бумажник, бросил его на стол: – Все, что найдешь, твое (Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги).
В клятвах Разрази меня гром / Господь / Бог! ; Да провалиться мне в тартарары / сквозь землю! ; будь я проклят актуальное значение идиом-клятв кодируется во внутренней форме актом магического воплощения.
Так или иначе связаны с актом магического воплощения табуирование (операция изъятия номинации из дискурса) и преодоление табу в эвфемизации: уборная → отхожее место → сортир → клозет → туалет → руки помыть . Семантика ругательств – особенно в обсценных формах – часто передается во внутренней форме актами магического воплощения: пошел к черту / дьяволу ; черт побери . Ритуализованные формулы приветствия, речевые формулы вхождения в контакт и выхода из него ( доброе утро – до свидания ) также включают магический по своей сути компонент благопожелания.
Магические практики в публичном дискурсе: традиции
Магические практики в политическом дискурсе нельзя рассматривать как что-то новое и нестандартное. Как и в обычной речи, роль магического в политическом дискурсе, особенно в политической пропаганде, довольно высока. В ряде работ по лозунговой коммуникации советской эпохи выделялись лозунги-здравицы (благопожелания) и лозунги-проклятья [Левин, 1988; Баранов, 1993]. Так, лозунги (9)–(14):
-
(9) Да здравствует ленинизм – знамя революционной борьбы, коммунистического созидания и мира!
-
(10) Слава советским воинам!
-
(11) Слава советской науке!
-
(12) Да здравствует наш вождь и учитель ВЕЛИКИЙ СТАЛИН!
-
(13) Да здравствует великая партия Ленина-Сталина, ум честь и совесть нашей эпохи!
-
(14) Слава русскому народу – народу-богатырю, народу-созидателю! –
представляют собой характерные примеры здравиц, размещавшихся на носителях наглядной агитации. Кроме того, они могли произноситься диктором во время демонстрации.
Лозунги-приветы, в ситуации лозунговой коммуникации не могли использоваться в функции приветствия, поскольку экспозиция лозунга такого типа происходила не при встрече двух субъектов (даже персонифицированных), а как вид благопожелания дружественному актору (в том числе союзнику) политической сцены:
-
(15) Привет германскому народу, стонущему под игом гитлеровских черносотенных банд, – пожелаем ему победу над кровавым Гитлером! (Звезда. № 261. 04.11.1941);
-
(16) Братский привет нашим братьям украинцам, белоруссам, молдованам, литовцам, латышам, эстонцам, карелам, временно попавшим под ярмо немецко-фашистских мерзавцев! (Звезда. № 261. 04.11.1941).
Здесь очевидно реализуется акт магического воплощения, поскольку никакой реальной встречи с германским народом или с братьями украинцами, белорусами, молдованами, литовцами и т. д. нет. Иными словами, коммуникативная интенция лозунга-привета состоит в обнародовании экспонантом 2 своего хорошего отношения к другим политическим субъектам-адресатам речевого акта в форме волшебной передачи хорошего отношения этим субъектам.
В речевом акте проклятья, наоборот, сверхъестественным образом передается порча:
-
(17) Будь ты проклят, мир слез и несчастий, да погибнут в страшных мучениях анафемы человечества! [«Виселица»..., с. 162];
-
(18) Старый мир да захлебнется в нашей крови и погибнет! [«Виселица»..., с. 159].
Некоторые лозунги, по существу, соответствуют заклинаниям:
-
(19) Мы придем к победе коммунистического труда (Ленин В. И. От первого субботника на московско-казанской железной дороге ко всероссийскому субботнику-маевке // Полное собрание сочинений. Т. 41);
-
(20) Владыкой мира будет труд! Три года пролетарской диктатуры (плакат, худож. В. Белкин. М.: Гос. изд-во).
Заклинание – характерный акт магического воплощения, само произнесения которого гарантирует изменение состояния мира (в широком понимании) так, как это предусматривает его пропозициональная составляющая. Для не верящих в магию такие речевые акты передают в дискурсе интенцию уверенности говорящего в изменении мира так, как это предсказывается в пропозициональной части заклинания.
Характерный пример заклинания реализуется в лозунге советского периода Партия – бессмертие нашего дела .
Не следует думать, что советские люди были склонны к мистике: ритуализация политического дискурса нивелировала любые искренние коммуникативные намерения – в том числе и имеющие магическое начало. Ритуализация политического дискурса, превращение его в «деревянный язык» (langue de bois – [Seriot, 1985; Thom, 1987]) приводили к возникновению побочных функций, не связанных с коммуникацией. Плакаты с заклинаниями широко использовались как средство декорирования унылых строений (см. рисунок).
Впрочем, и обычный – неполитический дискурс – показывает, что носители русского языка небезразличны к магии слова. Внутренняя форма языка всегда привлекала внимание как магический инструмент раскрытия «истинного смысла»: семья – осмысляется как «семь я», шумовка – как производное от слова шум , студент – как производное от слова скудный (версия А.С. Шишкова), этруски – как это русские, хитрушки (версия Тредиаковского) и т. д. Осознание мотивации актуального значения, основанное на желании носителя языка увидеть такую мотивацию, является решающим фактором возникновения народной этимологии. Часто наивная попытка мотивации приводит к изменению означающего: пиджак превращается в спинжак (от слова спина ), поликлиника – в полукли-

Размещение лозунга-заклинания на плакате, выполняющем политическую и декоративную функции Location of the slogan-spell on a banner that performs political and decorative functions
нику , микроскоп – в мелкоскоп , фельетон – в клеветон (Лесков), лопатка – в копатку . Народная этимологизация нередко оказывается настолько устойчивой, что способствует формированию новых слов. Именно в результате наивной этимологизации в русском языке появилось слово зонт , которое на синхронном уровне рассматривается как производящее для слова зонтик , хотя реальный процесс заимствования направлен в противоположную сторону (от голландского zondek ). Наивные этимологические рассуждения даже кладутся в основу идеологизированных систем, призванных компенсировать проблемы самоидентификации, существующие в российском обществе (таковы были имевшие широкий общественный резонанс выступления и публикации сатирика М. Задорнова).
Наконец, эксплицитная перформативная формула (1 л. ед. или мн. ч., наст. вр.) характерный пример акта магического воплощения. Кочующий из одного изложения теории речевых актов в другое пример перформативного употребления:
-
(21) Я объявляю вас мужем и женой [Серль, 1986, с. 191] –
выполняет именно такую функцию, поскольку брачующиеся с помощью «просто» слов меняют свой социальный статус с соответ- ствующими правовыми, социальными и психологическими последствиями. Статус перформативного употребления речевых форм как магической практики подчеркивается невозможностью истинностной оценки эксплицитного перформатива.
Магические практики в публичном дискурсе: новаторство
Оберег относится к числу наиболее типичных актов магического воплощения. Е.Е. Левкиевская отмечает, что произнесение оберега гарантирует защиту от неблагоприятных факторов, связанных с действиями говорящего – уже совершенных или предполагаемых, – от негативного воздействия неожиданно возникшей ситуации, а также снимает возможные магические препятствия реализации планов говорящего: «Делаем X , чтобы не случилось Y » [Левкиевская, 2002, с. 16]. Часто оберег как речевой акт сочетается с выполнением действия (жеста): Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить (часто в сочетании с соответствующим жестом); Стучу по дереву ( три раза ) (часто в сочетании с соответствующим жестом). Разумеется, допустим и чисто вербальный вариант: Чур меня .
В публичном дискурсе (и в политической коммуникации) оберег может поддерживаться институционально – в виде соответ- ствующих законодательных или подзаконных актов. Так, в ст. 4 Федерального закона РФ № 2124-1 «О средствах массовой информации» указывается:
«Запрещается... распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, или об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена ».
Из приведенного фрагмента новеллы закона следует, что упоминание запрещенных политических субъектов в текстах СМИ возможно только при указании на существование запрета:
-
(22) В Ираке суд приговорил к смертной казни двух граждан Франции за принадлежность к террористической организации «Исламское государство»* ( ИГ, запрещена в России ) (В Ираке двух французов приговорили к смертной казни за связи с ИГ // Известия. 28.05.2019);
-
(23) А ситуация для Башара Асада лично и для Сирии в целом становилась катастрофической: с одной стороны, на силы официального Дамаска напирали террористические дивизии ИГ, с другой – оппозиция с десятком других террористических группировок, самая крупная из которых – «Ан-Нусра» ( запрещена в РФ ) (Международный терроризм будет мимикрировать под «гражданские» движения // Парламентская газета, 2020.09.30);
-
(24) Сейчас он участвует в операции НАТО Resolute Support, ее цель скорее миротворческая –
обучение армии и полиции, помощь в борьбе против «Талибана» ( запрещен в РФ ) (Владимир Веретенников. Американцы считают себя супернародом // lenta.ru. 07.04.2019).
В примерах (22), (23) и (24) упоминание соответствующей организации сопровождается пометами: запрещена в России , запрещен / запрещена в РФ . Разумеется, информационная функция о запретах в приведенных примерах реализуется, однако помета о запрете часто повторяется в тексте СМИ почти при каждом упоминании соответствующего политического субъекта:
-
(25) Террористическая группировка «Исламское государство» ( запрещена в РФ ) известна в мире под несколькими аббревиатурами. Изначально она называлась «Исламское государство Ирака и Леванта», сокращенно – ИГИЛ. Однако из-за особенностей перевода на различные языки названия группировки появились и другие аббревиатуры – ДАЕШ, ДАИШ. А после того, как движение переименовало себя в «Исламское государство» ( группировка запрещена в РФ ), стало использоваться еще одно сокращение – ИГ. <...> В итоге под знаменем ИГИЛ ( запрещена в РФ ) в определенный момент воевало до 80 тысяч человек. Своей целью ИГИЛ ( запрещена в РФ ) поставила создание исламского эмирата на территории Ирака, Сирии и Ливана. <...> Бывало так, что ответственность за одно и то же нападение брала и «Аль-Каида», и ИГИЛ ( запрещена в РФ ) (Откуда взялась запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» // Российская Газета. 26.03.2024).
Небольшая по объему заметка – порядка 4000 знаков – содержит 10 упоминаний о запрете ИГИЛ. Очевидно, что столь частое упоминание запрета излишне информативно и нарушает Принцип Кооперации Г.П. Грайса, согласно которому коммуникативный вклад «на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» [Грайс, 1985, с. 222]. Объяснить такое нарушение Принципа Кооперации можно, если исходить из того, что кроме собственно информационной функции, маркировка запрета передает акт магическо- го воплощения – оберег. Частое повторение уведомлений о запрете меняет облик текстов современных российских СМИ.
К числу новых дискурсивных практик, выполняющих функции оберегов, относятся приемы ухода от правовых рисков по ст. 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации. До последнего времени соглашение между участниками публичной коммуникации и правоприменителями относительно легитимных способов выражения мнения, если отвлечься от некоторых тонкостей, сводилось, в сущности, к тому, что эксплицитное введение в дискурс пропозиции лексическими маркерами мнения, предположения, оценки и т. п. признавалось правомерным и не подпадало под действие ст. 152 ГК РФ. Это обеспечивало необходимый баланс между положениями Конституции РФ о свободе мнения и слова и правом гражданина на защиту своего доброго имени – чести, достоинства, деловой репутации и пр. Иными словами, фраза Петров ограбил банк в существующей судебной практике будет признана утверждением, а фразы видимо / вероятно / возможно (и т. п. – группа 1), считаю / думаю / полагаю (и т. п. – группа 2), Петров ограбил банк – предположением (маркеры группы 1) и мнением (маркеры группы 2).
Поток публикаций негативного характера вызвал обратную реакцию со стороны тех, кто так или иначе затрагивался в соответствующих текстах и становился объектом пропагандистских кампаний и компаний черного пиара. Определенную роль в изменении отношения к формальным и неформальным соглашениям сыграло и изменение общественнополитической ситуации. Между тем обвинения в «злоупотреблении правом» в связи с делами о защите чести и достоинства небеспочвенны. Действительно, некоторые тексты современных СМИ в попытке уйти от правовых санкций обнаруживают признаки того, что называется злоупотреблением языком по Дж. Локку (abuse of language [Lock, 2009], см. также: [Kress, Hodge, 1979]).
Суть приемов ухода от правовых рисков по ст. 152 ГК РФ состоит в том, чтобы максимально использовать лексические маркеры предположения, мнения, вероятности и т. п. для эксплицитной маркировки потенциально опасных фрагментов текста (см., например: [Осадчий, 2013]). Результатом таких магических действий, как и в случае маркировки запрета, оказывается существенное изменение облика текстов СМИ, которые в ряде случае перенасыщены словами с семантикой мнения, предположения, вероятности и под. (подробно об этом см.: [Баранов, 2022]). Появляются стилистические и семантические «монстры», которые семантически или прагматически противоречивы. Например, в семантическую сферу действия выражения с семантикой факта попадает слово или словосочетание с семантикой предположения:
-
(26) Назовем вещи своими именами : сам Рыбкин скорее всего и передал своим юристам поддельные векселя для обращения в суд. А если это так, то именно Александру Рыбкину предстоит ответить за подделку документов.
В приведенном примере выражение называть вещи своими именами передает семантику факта. Действительно, странно выглядит фраза Назовем вещи своими именами: он возможно / вероятно / скорее всего настоящий убийца при норме Назовем вещи своими именами: он и есть настоящий убийца . Иными словами, введение в сферу действия модальности факта выражений, передающих семантику предположения, семантически некорректно.
Данные Национального корпуса русского языка подтверждают этот вывод. Во всех 324 примерах употребления выражения назвать вещи / всё своими именами, найденных в корпусе в различных формах, в семантической сфере действия обсуждаемой идиомы обнаруживается пропозиция (и связанная с ней номинация), которая представляется говорящему истинной (подчеркнуто в примерах), а модальностей предположения, вероятности нет: Ее заботило мое отношение к его, назовем вещи своими именами, тунеядству; Агрессоры (назовем вещи своими именами); взяткодатели (назовем вещи своими именами) неохотно распространяются о том, кому пришлось сунуть; Вкладчики не хотят мириться с очередным грабежом и называют вещи своими именами. Они открыто обвиняют ЦБ в рейдерском захвате сво- его банка под предлогом «оздоровления» банковской системы.
Злоупотребление маркерами модальностей может повлечь нарушения прагматической природы. Например, обсуждение гипотетической ситуации в обычном случае не предполагает излишних подробностей, поскольку ситуация не реализовалась и не понятно, будет ли иметь место. Действительно, нереализованная ситуация не может быть известна говорящему в деталях. Между тем формальная расстановка маркеров с целью ухода от правовых рисков приводит к нарушению этого естественного ограничения, например:
-
(27) «... Вероятно , Дрегваль постарается донести до руководства “Россетей” необходимость возврата Лебедева, минуя совет директоров. Второй сценарий : назначить Лебедева исполняющим обязанности, пока совет директоров не начнет задавать вопросы о временщиках в руководстве. Поэтому, вероятно , Дрегвалю придется буквально вымолить у Бударгина место для Лебедева для личного самосохранения», – считает собеседник «Правды УрФО» в госхолдинге (Энергобезопасность Екатеринбурга подорвали крысы в ЕЭСК // Правда УРФО. 2017. 9 янв.).
Лексемы вероятно и сценарий указывают на гипотетические варианты развития ситуации, а грамматическая форма будущего времени ( постарается , начнет , придется ) вообще снимает вопрос о верификации описываемых событий – она невозможна, а невери-фицируемые высказывания в соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ № 3 от 2005 г. не являются утверждениями в смысле ст. 152 ГК РФ. Однако подробное описание того, что Дрегвалю придется буквально вымолить у Бударгина место для Лебедева для личного самосохранения семантически аномально, поскольку экстраполяция в будущее таких подробностей отражает стремление автора статьи представить нынешнюю ситуацию угрожающей для Дрегваля.
Семантическая некорректность текста при использовании практик ухода от правовых рисков может быть связана с неудачными попытками преобразования грамматических утверждений в вопросы. Так, название статьи Денег нет, но вы держитесь? Оффшорные миллионы чиновников Минобороны? выгля- дит довольно странным из-за вопросов, которые нарушают условия успешности данного типа речевого акта. В статье указывается, что миллионы у чиновников есть и что их вполне достаточно – чиновникам «держаться» не надо. Заголовок статьи в виде общего вопроса в такой ситуации выглядит аномально, но объяснимо, если иметь в виду попытку ухода от правовой ответственности.
Проклятье как акт магического воплощения иногда проявляет себя в практике применения еще одной новеллы законодательства – ФЗ № 121 от 20 июля 2012 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», согласно которому:
«Материалы, издаваемые некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и (или) распространяемые ею, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, должны сопровождаться указанием на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента».
Понятно, что появление соответствующих указаний имеет и информационный характер, однако согласно существующей практике, так маркируется, например, каждый пост в блоге иностранного агента. Часто текст указания превышает объем самой реплики, что опять-таки нарушает Принцип Кооперации, если только не видеть косвенной иллокутивной функции данного речевого акта.
Еще одна дискурсивная практика магического характера – умолчание. Ее суть состоит в том, что неупоминание кого-либо или чего-либо приводит к тому, что неупоминае-мое исчезает из общего поля зрения участников ситуации общения и как бы перестает существовать. Функцию умолчания выполняет Закон о «праве на забвение»: ФЗ РФ от 13 июля 2015 г. «О внесении изменений в ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и статьи 29 и 402 ГПК РФ». Согласно этому закону, заявитель вправе обратиться к оператору поисковой системы Интернета с требованием изъять из выдачи информационного поиска недостоверную или неактуальную информацию, потерявшую значение для заявителя.
Аналогичная практика используется в политическом дискурсе, когда политические противники не упоминаются по имени или их имена заменяются альтернативными описаниями (фактически эвфемизмами – блогер , пациент берлинской клиники , этот гражданин , данная личность , этот персонаж ):
-
(28) По словам президента, российские спецслужбы знают, что американские коллеги отслеживают их геолокацию, и не считают нужным скрываться, когда пользуются телефонами, а слежку за Навальным, судя по расследованию, вычислили в том числе по биллингу телефонов сотрудников спецслужбы. «Но если это так – а это так, я вас уверяю, – то это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае», – заявил Путин (Владимир Путин увидел следы западных спецслужб почти повсюду // Ведомости. 2020.12.17);
-
(29) «... Эти сюжеты снимают за большие деньги спонсоров, берут разную муть, чушь всякую собирают про моих знакомых или людей, про которых я никогда не слышал; про места, где я бывал и о которых никогда не слышал. <...> ...За этим стоит определенная политическая цель – вытащить людей на улицы, в том числе несовершеннолетних, что вообще недопустимо, в том числе путем нарушения закона. Этот персонаж , кстати, судимый (премьер имел в виду Алексея Навального ** – «МК»), говорит: все плохие, изберите меня президентом. Это бесчестная позиция, способ достичь собственных шкурных целей», – ответил Медведев (Екатерина Пичугина. Медведев прокомментировал расследование Навального, осмотрев убойный цех свиней // Московский комсомолец. 04.04.2017).
Использование эвфемизмов – характерный вид магической практики умолчания, причем если умолчание в точном смысле не вводит в дискурс табуированный феномен, то эв-фемизация вводит, хотя и с помощью иной номинации – чаще всего описательной (определенной дескрипции по Б. Расселу, позволяющей легко установить референт). Однако стандартная номинация остается под запретом, что подчеркивает ее магический статус.
Особенность современных актов магического воплощения в русском публичном дискурсе состоит в том, что некоторые из них имеют правовой фундамент. Последствия этого ожидают своего изучения.
Заключение
Возникает вопрос о реальности актов магического воплощения с точки зрения выполнения постулата искренности и перлокутив-ного эффекта, который они оказывают. Действительно, насколько говорящий искренне проклинает, восхваляет, отводит порчу и пр.? Каков результат этого вербально-магического воздействия на мир? Эти вопросы уместны, однако они выходят за пределы языкознания как науки. В рамках собственно лингвистического исследования важно, как оформляется коммуникативное намерение (иллокуция) тех или иных речевых высказываний, как сочетаются различные типы иллокуций в одном речевом акте и как внутренняя форма речевого акта влияет на его актуальное значение.
Реальное словоупотребление – дискурс – отражает наивную логику (natural logic – по Дж. Лакоффу) говорящих. Если носители языка продолжают разделять мифологические представления о магии, то эти представления обязательно воплотятся в дискурсивных практиках. Задача лингвистики – зафиксировать такие словоупотребления и исследовать их семантический и прагматический потенциал.
Список литературы Магические дискурсивные практики в русском публичном дискурсе
- Баранов А. Н., 1993. Языковые игры времен перестройки: феномен политического лозунга // Русистика. № 2. С. 64–72.
- Баранов А. Н., 2000. Введение в прикладную лингвистику. М.: УРСС. 360 с.
- Баранов А. Н., 2022. Корпусный эксперимент в лингвистической экспертизе // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегод. Междунар. конф. «Диалог» (2022). Вып. 21. С. 42–49. DOI: 10.28995/2075-7182-2022-21-42-49
- Баранов А. Н., Северская О. И., 2016. Поэтические практики в современном политическом дискурсе // Общественные науки и современность. № 4. С. 159–170.
- «Виселица» – революционные листовки о Парижской Коммуне: подпольная печать 70-х годов, 1931 / предисл., публ. коммент. С. Валка // Литературное наследство. Т. 1. М.: [б. и.]. С. 157–164.
- Грайс Г. П., 1985. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс. С. 217–237.
- Левин Ю. И., 1988. Заметки о семиотике лозунгов // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 22. S. 69–85.
- Левкиевская Е. Е., 2002. Славянский оберег. Семантика и структура. М.: Индрик. 336 с.
- Мечковская Н. Б., 1998. Язык и религия. М.: Фаир. 352 с.
- Осадчий М. А., 2013. Управление правовыми рисками в публичной коммуникации // Фундаментальные исследования. № 10–3. С. 679–683.
- Остин Дж. Л., 1986. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М.: Прогресс. С. 22–129.
- Серль Дж. Р., 1986. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. Вып. 17. М.: Прогресс. С. 170–194.
- Якобсон Р. О., 1975. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс. С. 193–230.
- Austin J. L., 1962. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford at the Clarendon Press. 167 p.
- Kress G., Hodge R., 1979. Language as Ideology. L.: Routledge. 182 p.
- Lock J., 2009. Of the Abuse of Words. L.: Pengiun. 144 p. (Penguin Great Ideas.).
- Seriot P., 1985. Analyse du discours politique sovietique. Cultures et sociétés de l’Est. P.: [s. n.]. 364 p.
- Thom F., 1987. La Langue de bois. P.: Éditions Julliard, coll. «Commentaire». 225 p.