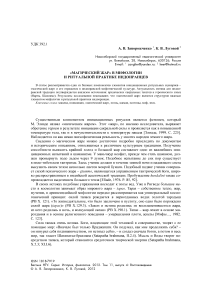«Магический жар» в мифологии и ритуальной практике индоиранцев
Автор: Запорожченко Андрей Владимирович, Луговой Кирилл Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается один из базовых компонентов элементов инициационных ритуальных сценариев - «магический жар» и его отражение в индоиранской мифоэпической культуре. Актуальность мотива для индоиранской традиции подтверждается анализом источников: архаических сакральных текстов и героического эпоса (Нарты, Шахнаме). Результаты исследования показывают, что «магический жар» является структурно важным элементом мифологии и ритуальной практики индоиранцев.
Закалка, инициация, "магический жар", огонь, шаман, осетины, миф, эпос
Короткий адрес: https://sciup.org/14737815
IDR: 14737815 | УДК: 392.1
Текст научной статьи «Магический жар» в мифологии и ритуальной практике индоиранцев
Существенным компонентом инициационных ритуалов является феномен, который М. Элиаде назвал «магическим жаром». Этот «жар», по мнению исследователя, выражает обретение героем в результате инициации сакральной силы и проявляется как в повышенной температуре тела, так и в нечувствительности к температуре накала [Элиаде, 1999. C. 225]. Наблюдается он как некая психофизическая реальность у многих народов земного шара.
Сведения о магическом жаре можно достаточно подробно проследить по документам и историческим описаниям, относящимся к различным культурным традициям. Получение способности выносить крайний холод и большой жар составляет одно из важнейших инициационных испытаний в шаманизме. У маньчжур неофит, прежде чем стать шаманом, должен пронырнуть подо льдом через 9 лунок. Подобное испытание до сих пор существует в индо-тибетском тантризме. Здесь ученик должен в течение зимней ночи и падающего снега высушить своим телом несколько листов мокрой бумаги. Подобный подвиг ученик совершает силой психического жара – gtummo , являющегося упражнением тантрической йоги, широко распространенным в индийской аскетической традиции. Пробуждение kundalini также сопровождается выделением большого тепла [Eliade, 1976. P. 85, 92].
В своих истоках подобные упражнения восходят к эпохе вед. Уже в Ригведе большое место в космологии занимает образ мирового жара – tapas . Тapas – собственное тепло, жар, мучение, в древнеиндийской мифологии нередко рассматривается как универсальный космогонический принцип: силой тапаса рождается в первозданных водах золотой зародыш (РВ X. 121). «То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту, оно одно было порождено силой жара ( tapas )» (РВ X.129.3). «Закон и истина родились из воспламенившегося жара, из него родилась и ночь, и волнующий океан» (РВ X.190.1). Тапас – жар лежит в основе мироздания и в основе религиозного поведения – умерщвления плоти, аскезы [Мифы…, 1982. C. 123].
Сила тапаса очень велика. Боги, владеющие этой техникой в совершенстве, творят с ее помощью мир: «Вначале был только Праджапати. Он подумал, как мне продолжить себя? – он изнурял себя подвижничеством, он истязал себя», – и создал сначала богов, а потом и весь мир, так гласит Шатапатха-брахмана (Satapatha brahmana, II.2.4). Мысль и Воды творят посредством тапаса, который становится средоточием творческой энергии (Satapatha brahmana, Х.5.3; XI.I.6).
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 4: Востоковедение © А. В. Запорожченко, К. В. Луговой, 2012
Творение, по мнению ведийских поэтов, возможно только в состоянии тапаса – аскетического транса, самоистязания, сосредоточенности мысли, медитации. Силой тапаса владеют и великие мудрецы индийского эпоса, и боги опасаются их великой силы. Человек, овладевший тапасом, достигает божественного статуса. Так, искусные умельцы Рибху, овладев силой тапаса, получили бессмертие и вошли в сонм богов (АВ III.30.2). Владение магическим жаром обеспечивает обладание и другими сверхъестественными качествами, например магическим полетом. «Несущие в себе огонь» отшельники-муни, «подпоясанные ветром», летят по небу, «глядя вниз на все формы», «оседлав ветры», летят по пути Апсар и Гандхарвов, а в это время смертные могут видеть перед собой только их лежащие на земле безжизненные тела (РВ X.136).
Оба значения понятия тапас (жар и аскеза) тесно взаимосвязаны. Даже в относительно поздних сочинениях эти два значения обнаруживают единство: «Асат возжелало, предалось самоистязанию, от тапаса пошел дым!» (Тайттирия-брахмана, II.2.9, 10).
Таким образом, в брахманской литературе тапас рассматривался не просто как жар, а как жар магический, вызываемый напряжением воли аскета, находящегося в йогическом трансе или экстазе. Человек, овладевший силой тапаса, приравнивается к богам (пример Рибху). Тапас – это принадлежность великих богов и мудрецов, показатель магической силы и творческой энергии.
Представление о жаре как магико-религиозной силе является очень древним мистическим опытом, характерным для большого числа первобытных традиций. Для более точного уяснения понятия «тапас» представляется возможным обратиться к религиозной практике ряда народов Сибири, где обнаруживается похожая связь между магическим жаром и шаманским экстазом.
По мнению Ж. Балаша, венгерские слова «очаровывать», «колдовать» восходят к мансийскому существительному rej – «тепло». Но это не простой жар, а божественный. Когда мансийский шаман впадает в экстаз, он говорит, что rej Торуна сошел на него или что великий rej спустился на него и принудил его говорить. Часто великий божественный rej прямо соотносится с шаманским трансом. Шаман, впадая в экстаз, чувствует некоторый вид жара в голове и теле [Balazs, 1968]. Возможно, такой жар, отождествляемый также и с вызывавшим его трансом, могли понимать под тапасом и индоарии. Вера именно в такой жар, соединенная с физической тренировкой тела, позволяла аскету преодолевать холод снега и сушить мокрые полотенца. Медитирующий аскет, ощущающий магический жар, мог рассматриваться как ипостась бога-творца, а сам обряд как актуализация картины творения мира.
Тапас в Ведах связан с солнцем и огнем [Эрман, 1980. С. 102], из него идет дым и т. д. Аналогичные представления зафиксированы у сибирских народов. Так, академик П. С. Пал-лас пишет о голубом дыме, поднимающемся над мансийским шаманом во время камлания, когда на него нисходит дух (или rej ) великого бога. Однако В. Зуев, непосредственно руководивший этнографическими исследованиями у хантов и манси, считает, что это густой дым, поднимающийся от постоянно горящего во время обряда огня [Balazs, 1968]. Ограниченность пространства усиливала одурманивающее воздействие пара и дыма. Нередко в костер добавляли растительные наполнители, дающие наркотический эффект.
Аналогичная практика имела место и в архаичной индоиранской ритуальной традиции. В результате своего тысячелетнего подвижничества, во время которого он висел вниз головой над костром, Кави Ушанас получил от Шивы знание, недоступное богам: способность проникать в чужие мысли и оживлять умерших чтением особой мантры. На инициационный характер сюжета указывает тот факт, что Ушанас стал приемным сыном Шивы, который проглотил и выплюнул его [Hopkins, 1986. P. 179–180].
Тесная связь с огнем и дымом составляет один из характерных элементов шаманских сеансов [Hamayon, 1977. P. 172]. Шаман во время инициации должен показать себя «хозяином огня» [Eliade, 1976. P. 74–75]. К тому же дым от костра, который в течение длительного времени вдыхал Кави Ушанас, является одним из лучших средств достижения ритуального экстаза (так же, как висение вниз головой) [Hamel, 1932]. Исходя из этого, часто встречающееся в индийской ритуальной литературе выражение «Агни в сердце», употребляемое для обозначения особого сакрального состояния, можно рассматривать как отражение концепции «магического жара» [Eliade, 1976. P. 92].
Интересные сведения содержатся в Авесте. В Ясне 51.16 описывается обретение Виштас-пой магических способностей cistis и xsatra maga , которых он достигает на путях Вохумана. Все эти качества завещаны ему Ахура Маздой и составляют тесное единство с огненной хварно [Herzfeld, 1947. P. 137]. Понятие сistis имеет целый спектр значений. Это «религия», «божественное зрение», «особое сакральное состояние», «пламенное знание мистериальных секретов». Показательно, что cistis Виштаспа получает вместе с xsatra maga , где maga – состояние, отличное от обыденного, которое можно определить как транс или экстаз, а xsatra имеет тесные связи с металлом (как один из Амеша Спента Кшатра – «господин металлов») и огнем («солнце держащая кшатра » – небесный свод и одновременно расплавленный поток металлов) [Gnoly, 1980, P. 193–194]. Исходя из этого можно согласиться с гипотезой Х. Ню-берга, который считал, что в данном случае получение божественного дара cistis происходит путем выполнения определенных ритуальных действий, связанных с огнем и металлами, через прохождение особой инициации, целью которой является достижение экстатического состояния – мага [Nyberg, 1938. Р. 198]. По мнению В. Нолле, в младоавестийском сочетании Хшатра Вайрья слышатся поразительно древние отголоски кузнечной магии, шаманистское эхо палеометаллической эпохи [Nölle, 1960].
Огненные испытания, которые следует рассматривать как своеобразные инициации, выдерживают и другие персонажи, носящие титул кави. Так, Кави Сайаварш (Сиявуш), сын Кави Усана проходит между близко расположенными кострами и остаётся невредимым (Шах-наме, Ш. 32). В иранской традиции подобные огненные ордалии были связаны с богами Митрой и Артой (Asa) и проводились для определения божественной избранности испытуемого или его невиновности. В более важных случаях применялись и другие виды огненных ордалий, например, поливание частей тела огненным металлом [Boyce, 1975. P. 71]. Через такие испытания пришлось пройти и пророку Заратуштре, для того чтобы доказать свою божественность и правильность своего учения. Фактически же Заратуштра выполнил основные шаманские трюки, подтверждающие способность шамана быть «хозяином огня»: хождение через огонь (Ясна 31.3) и по раскалённому металлу (Ясна 32.7), хватание голой рукой расплавленный металл (Ясна 51.9). Всему этому легко найти аналогии в этнографических описаниях шаманских обрядов [Элиаде, 1987. C. 176–179]. В эпоху Сасанидов этот же прием использовал верховный Магупат Картир (Кирдер).
Огонь составлял важный элемент шаманских сеансов. Для шаманских инициаций, например, были характерны обряды, в которых неофит должен был показать свою нечувствительность к огню, власть над ним. При подготовке к трансу шаман может глотать горящие уголья и брать голыми руками раскаленное железо [Eliade, 1976. P. 93]. Во время торжеств, посвященных шаманской инициации у арауканцев, шаманы и их ученики ходят босиком по огню, не сгорая сами и не повреждая свои одежды. Такие же фокусы с огнем проделывали шаманы Северной Азии и Северной Америки [Анучин, 1914. C. 30]. Нередко в хождениях по углям принимают участие не только специально обученные шаманы, но и все присутствующие. Мадрасские йоги делают такое огненное хождение безопасным для определенного числа зрителей, которые не только не готовятся к этому заранее, но и настроены скептически к таким чудесам (В такой церемонии как-то участвовал епископ Мадраса и его провожатые).
М. Элиаде считает, что «эта чудесная сила и власть означают знание состояния экстаза или, на других культурных условиях, доступ к состоянию совершенной духовной свободы» [Eliade, 1976. P. 93–94]. Нечувствительность к экстремальному холоду и температуре горячих углей – это материальное воплощение выхода из человеческого состояния, превышение его, совершенного йогом или шаманом. Вероятно, большую роль в подобных чудесах играет самовнушение, вера. Так, один европеец, попытавшийся на Фиджи исполнить танец на раскаленных углях вместе с островитянами, испугался и на середине пути вернулся назад, в результате чего сжег себе ступни. Островитяне, естественно, не пострадали [Ibid. P. 92].
Оставив в стороне споры о природе подобных явлений, можно отметить наличие их в индоиранской религиозной практике с древнейших времен. Понятие tapas («магический жар») по своим характеристикам является типологически сходным с шаманским жаром rej мансийских шаманов и аналогичным явлением у других народов мира. Тесная связь экстаза и магического жара, выступающего в качестве его выражения, сохранилась в практике йогической медитации, являющейся в данном случае наследницей шаманской техники экстаза.
Не удивительно, что столь важный мотив нашел отражение в фольклоре, прежде всего – в текстах, связанных с инициациями особо отмеченных персонажей. Представления о магическом жаре как проявлении избыточного сакрального могущества являются необходимым атрибутом многих героев, где понятия «жар» и «гнев, ярость» тождественны. На реальном, т. е. не фольклорном уровне, и жар, и ярость – составляющие особого состояния скандинавских берсерков, связь которых с шаманами не раз отмечалась исследователями [Гуревич, 1979; 1999; Мелетинский, 1968]. В нартовском эпосе нечувствительность героя к огню, выражающая контроль над этой стихией (сакральное могущество, которое обретается шаманами в процессе инициации), связана, прежде всего, с Сосланом и Батразом.
Через инициацию испытаний огнем / жаром, подобных тем, которым подвергаются шаман и кузнец, проходит Сасрыква / Сосруко. Наиболее отчетливо это выражено в абхазском эпосе. Новорожденный не плачет, не издает ни звука до того момента, как нартский кузнец закалит его. В результате закалки магическим огнем происходит резкая перемена в поведении младенца – он подает голос («лицо его разрумянилось, и улыбка появилась на его лице» ) [Осетинские…, 1948].
В абхазском варианте эпоса при рождении тело младенца было раскалено подобно углям, оно было жарче огня. В адыгских вариантах ребенок был горячий, сверкающий огнем [Ардзинба, 1985. C. 134]. Жар, раскаленность тела младенца – состояние, имманентно присущее новорожденному. Эта черта образа тесно связана со спецификой рождения героя, с темой громового удара. Тело ребенка подобно молнии, от которой он рождается.
Иначе говоря, рождение героя происходит собственно в результате закалки, подобно тому, как завершается становление шамана и кузнеца или как после прохождения инициационных обрядов юноша включается в число полноправных членов коллектив [Ардзинба, 1988. С. 284].
Закалка Сасрыквы представлена в двух вариантах. В абхазском эпосе кузнец закаляет Сасрыкву в кипящей стали. С утра до полудня он находился в расплаве и вел себя в нем так, словно купался в теплой воде. В полдень Аинар-жьи вынул клещами ребенка из «купели». В тот миг, когда кузнец вынул его, Сасрыква подал голос: «Мама, мама, я хочу есть!» Аинар-жьи трижды наполнял сосуд расплавленным металлом и трижды поил Сасрыкву. Затем он накормил его раскаленными углями [Ардзинба, 1985. С. 154]. Инициационность данной темы и связь с концепцией «магического жара» проявляются в том, что только после закалки (посвящения) Сосрыква (как и Батраз, или Патараз в адыгском варианте) способен питаться раскаленными угольями, уподобляясь шаману во время камлания.
По варианту адыгской версии эпоса, после рождения тело Сосруко стало крепчайшей сталью. Отнесли Сосруко к Тлепшу и семь раз закалили. После этого его тело чуть мягче стало. В некоторых вариантах адыгского и абхазского эпосов в функции закалки предстает также купание новорожденного в воде.
С мотивом закалки новорожденного тесно связан мотив наречения именем. В эпосе адыгов: имя ребенку дает сразу после закалки кузнец Тлепш. По-видимому, в адыгских сказаниях сохраняется архаичная последовательность мотивов сюжета: закалка – наречение именем. Существуют определенные основания для такого вывода. В абхазских и адыгских версиях вслед за закалкой обычно описываются деяния героя. Наречение именем в этом сказании можно сопоставить с ситуациями, описанными в эпосе других народов. В богатырских сказках «молчаливость» героя длится «до получения имени», или само наречение именем «часто связано с первым подвигом» [Там же. C. 135].
В закалке Сослана может быть отмечен еще один мотив. Попытка кормления младенца молоком в абхазском эпосе или помещения его в молоко в осетинском эпосе, видимо, соотносится с мифологическим представлением о молоке как лучшем средстве для тушения небесного огня. Это представление, возможно, отражено в абхазской загадке: «Если бы загорелась вода, то как потушить ее?». У моздокских кабардинцев долго существовал обычай – поливать молоком место, где ударила молния, и водить хоровод с пением специальной песни, посвященной божеству грома и молнии. Этот обычай может быть сопоставлен с поверьем славян: огонь, возникший от удара молнии, при тушении его водой разгорается еще сильнее и может быть потушен только (парным) молоком. Обращает на себя внимание осетинское сказание о рождении и закалке Сослана, согласно которому подросший герой стал выговаривать своей матери, что едой, которой кормят его, достойно кормить лишь собак. Претензии Сослана были удовлетворены закалкой его в ладье (колоде), наполненной волчьим молоком (ср. с легендой о Ромуле и Реме и т. п.) [Там же. C. 149].
Батраз, сказания о котором принадлежат более поздней эпохе, где уже расчленены образы эпического героя и колдуна, еще объединенные в Сослане, с одной стороны, занимает более активную позицию в процессе обретения магического жара (например, известен целый ряд сюжетов, где он практически насильно заставляет небесного кузнеца закалить его) [Нарты, 1989. C. 227–228]. С другой стороны, паранормальный жар (этот мотив значительно более устойчив), являющийся атрибутом новорожденного героя, нуждается в «укрощении», т. е. Батраза сразу же после рождения необходимо облить холодной водой [Там же. C. 230–234]. Правда, в эпическом контексте обливание Батраза водой изоморфно закалке Сослана, поскольку в качестве обоснования необходимости этого номинируется «превращение булата в черное железо», но в том, что в данном случае речь идет скорее об усмирении чуждой социуму, хотя и необходимой герою стихии, убеждают как данные этнографии, так и сравнительной фольклористики. Согласно абхазскому эпосу, после появления на свет и закалки кузнецом Айнаром новорожденный Сасрыква укладывается спать в железную люльку, выкованную Айнаром. Она стоит под сенью могучего грецкого ореха, макушка которого достигает небес; колыбель раскачивается сама по себе, и растет в ней младенец не по дням, а по часам [Ардзинба, 1988. С. 286].
Это «усмирение водой» неофита в результате инициации имеет очевидные параллели со сказанием о рождении Батраза. Но еще больше поражает прямой параллелизм указанного мотива и ирландского эпического сюжета о первом подвиге Кухулина, где гнев его гасится посредством погружения его в три чана с ледяной водой, причем вода в них вскипает от температуры тела героя [Похищение Быка…, 1985]. Надо отметить, что на близость образов Кухулина и Батраза обратил внимание еще Ж. Дюмезиль [1990. C. 64–71], но французский ученый увидел в этой близости, прежде всего, проявление универсальной «божественновоенной» функции.
Важность инициационных ритуалов в традиционной культуре трудно переоценить. Помимо структурирования социальной жизни коллектива путем расчленения ее на определенные сакральные промежутки и придания ей соответствующего вектора движения от обыденного к священному и наоборот, посвящение, как и любой ритуал, способствует объединению и очищению общества. Инициация, будучи повторением мифической истории Космоса, способствует возвращению социума во времена начала, и, погружаясь в него, человечество выходит оттуда возрожденным. Кроме того, временная смерть, обязательная составляющая любого посвящения, в более поздних религиозных концепциях стала непременным условием духовного очищения, напрямую связанного с бессмертием души, а то и с телесным бессмертием. Как пишет М. Элиаде, религиозное значение, придаваемое обрядовой смерти, «должно было привести к победе над страхом реальной смерти и к вере в возможность жизни души после смерти» [Элиаде, 1999. С. 324].
«MAGICAL HEAT» IN MYTHOLOGY AND RITUAL PRACTICE OF INDO-IRANIANS