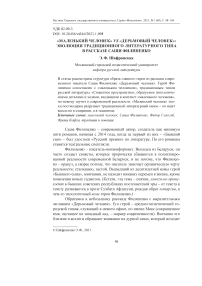"Маленький человек" vs "дерьмовый человек": эволюция традиционного литературного типа в рассказе Саши Филипенко
Автор: Шафранская Элеонора Федоровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена структура образа главного героя из рассказа современного писателя Саши Филипенко «Дерьмовый человек». Герой Филипенко сопоставлен с «маленьким человеком», традиционным типом русской литературы. «Сюжетное пространство», образуемое типологическими деталями и ходами, входящими в контекст «маленького человека», по-новому звучит в современной реальности. «Маленький человек» эпохи постмодерна разрушает традиционный литературный канон - он ищет выход не в смирении, а в эскапизме.
Маленький человек, саша филипенко, федор сологуб, франц кафка, традиция и новация
Короткий адрес: https://sciup.org/146282254
IDR: 146282254 | УДК: 82.09-3 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.098
Текст научной статьи "Маленький человек" vs "дерьмовый человек": эволюция традиционного литературного типа в рассказе Саши Филипенко
Саша Филипенко – современный автор, создатель как минимум пяти романов, начиная с 2014 года, когда за первый из них – «Бывший сын» – был удостоен «Русской премии» по литературе. По его романам ставятся театральные спектакли.
Филипенко – писатель-нонконформист. Выходец из Беларуси, он часто создает сюжеты, которые пророчески сбываются в политизированной реальности современной Беларуси, и не потому, что Филипенко – оракул, а скорее потому, что писатель замечает органическую черту реальности: стагнацию, застой. Вышедший из десятилетней комы герой «Бывшего сына», минчанин, не находит никаких перемен в жизни, кроме появления новых гаджетов. (Кстати, эта тема – спячки, ничего-не-проис-ходит в бывших советских республиках постсоветской эры – от текста к тексту развивается в прозе Сухбата Афлатуни, рождая образ летаргии , в чем-то типологичный коме героя Филипенко.)
Обратимся к небольшому рассказу Филипенко с выразительным заглавием «Дерьмовый человек». Его герой – среднестатистический городской типаж, служащий в некоем офисе, по имени Макс (сокращенное имя, звучащее на западный лад, – маркер современности). Внезапно его близкие и коллеги обращают внимание на дурной запах, который исходит
от Макса. Молва об этом оскорбительном для окружающих инциденте бежит впереди самого запаха: по телевизору показывают скандальное шоу о нем, в котором принимают участие близкие Макса, его увольняют с работы, жена не пускает Макса в его собственную квартиру – от него отворачиваются все. Врачи не находят никаких отклонений – Макс здоров: «Без пяти минут олимпийский чемпион» [7, с. 216].
Разговор с женой:
«Чем пахнет, Насть?
– Да дерьмом! Дерьмом твоим пахнет…» [Там же, с. 206].
С начальниками:
«Как дела, Макс?
– Спасибо, хорошо.
– Послушай, тут по офису пошел…
– Душок! – смеясь собственной остроте, перебил зам» [Там же, с. 209].
С врачом:
«…вы знаете, почему от меня воняет?
– Думаю, это ваш нормальный запах» [Там же, с. 215].
Приходится искать уединения вдали от людей – в заброшенной деревне, но и там о нем знают: хозяин хибары, у которого Макс снимает жилье, говорит: «Про тебя знает вся страна!» [Там же, с. 219].
Со временем, конечно, что-то случается – и запах уходит, но Макс не возвращается к прошлой жизни.
Первое восприятие сюжета рассказа – анекдот. Однако остаточные впечатления о рассказе Филипенко настойчиво напоминают сюжетное пространство «маленького человека» русской литературы XIX века, а именно ту ситуацию, когда, по словам Ю.М. Лотмана, «наименования предметов, действий, имена персонажей и пр. – попадают в структуру данного сюжета, уже будучи отягчены предшествующей социо-культурной и литературной семиотикой. Они не нейтральны и несут память о тех текстах, в которых встречались в предшествующей традиции» [4, с. 329]. Ближе всего к образу «дерьмового человека» стоит поздний собрат «маленького человека» – господин Саранин из рассказа Федора Сологуба «Маленький человек» (1907). С ним тоже случается маленький казус (он выпивает купленные им же капли, предназначенные жене, чтобы умерить ее корпулентность). Саранин начинает уменьшаться в размерах – процесс остановить не представляется возможным, с каждым днем он становится все меньше и меньше. Рождаются слухи, насмешки, дело доходит до начальства, его просят уйти в бессрочный отпуск, чтобы не дискредитировать департамент в глазах общественности. Рушатся связи, репутация, уходит право голоса (голос превращается в писк, который никто уже не слышит). Жена делает неплохое состояние на беде мужа. Наступает день, когда Саранин превращается почти в ничто. «Саранин, крохотный, как пылинка, поднялся в воздух. Закружился. Смешался с тучей пляшущих в солнечном луче пылинок. Исчез. <…> …По сношению с Академией наук, решили считать его посланным в командировку с научной целью. <…> Саранин кончился» [6, с. 288–289].
О подобной метаморфозе и с подобной экзистенциальной меркой к сути «маленького человека» (служащего, потому зависимого) и рассказ Франца Кафки «Превращение» (см.: [8, с. 26]), в котором Грегор Замза, превращенный в ползающее насекомое, умирает, высохнув от голода и физических страданий, а «насчет того, как убрать это, можете не беспокоиться. Уже все в порядке» [3, с. 400], – говорит служанка, посредством веника и совка, своих ежедневных орудий труда, вынесшая Грегора на помойку. Таков финал еще одного «маленького человека».
Если же идти в глубь русской литературы, к самому процессу, когда, этап за этапом, складывается феномен русской литературы, «маленький человек», то обращает внимание присутствие в картине мира этого образа какой-то одной навязчивой идеи, или недостающей детали в быту, приобретению которой посвящается остаток жизни, или странной и убогой мечты.
Внешний облик, связанный с вещью, условно мундиром, – так можно обозначить и мечту, и отсутствие той вещи, которая приведет, по мысли «маленького человека», к заветной гармонии, к пределу счастья. Именно в отсутствии должного внешнего вида, как кажется «маленькому человеку», причина его несчастий.
Сетует гоголевский Поприщин: «Я надел старую шинель… <…> Она не узнала меня, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом; да и сукно совсем не дегати-рованное. <…> Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, – тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет – вот беда» [1, с. 194–198].
Материальная деталь внешнего облика «маленького человека» превращается в рассказе Филипенко в нематериальную – обонятельную. Эту замену можно трактовать по-разному: иная культурно-экономическая среда, меняется отношение к вещи, однако коннотация почти та же. Человек не вписывается в социальную норму, никем не прописанную, но существующую в мифологии повседневности. Служащий в безликом офисе, или департаменте (ведь читатель не знает род занятий Макса – так создан среднестатистический социальный статус героя), Макс, благодаря своему неожиданно появляющемуся дурному запаху, становится изгоем. Он никак и ничем не может противостоять миру, ополчившемуся против него, и защититься.
Башмачкин («Шинель»), Поприщин («Записки сумасшедшего») Гоголя, Девушкин («Бедные люди»), Голядкин («Двойник»), Шумков («Слабое сердце»), Прохарчин («Господин Прохарчин») Достоевского, Маракулин («Крестовые сестры») Ремизова, и даже сологубовский Пе-редонов («мелкий бес» как парафраз «маленького человека») – не все из этих персонажей стоят на одной ступени в Петровской табели о рангах, однако всех их объединяет страх. Чем, как не страхом, можно объяснить сервильность чеховских Тонкого («Толстый и тонкий») и Червякова («Смерть чиновника»).
Терзается Макар Девушкин: «…что люди-то скажут?» [2, т. 1, с. 21], «Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают» [Там же, с. 63], «Одного боюсь: сплетен боюсь» [Там же, с. 65].
Вася Шумков в упоении работой и из страха, что не успевает выполнить ее к сроку, начинает «строчить сухим пером по бумаге» [2, т. 2, с. 43].
Господин Прохарчин в бреду проговаривается о своем страхе потерять место: «…а оно место такое есть, что возьмет да и уничтожается место» [2, т. 1, 255].
И даже Подпольный человек Достоевского живет в страхе: «Я испугался того, что меня все присутствующие <…> не поймут и осмеют» [2, т. 5, с. 128–129].
Сологубовскому Передонову мерещится, что кот – враг, он о нем знает такое! «Передонов думал, что кот отправился, может быть, к жандармскому и там вымурлычит все, что знает о Передонове и о том, куда и зачем Передонов ходил по ночам, – все откроет, да еще и того примяукает, чего и не было. Беды!» [6, с. 142].
Ремизовский Маракулин ждет «себе к Пасхе повышения и награду <…> а вместо повышения и наградных его со службы выгнали» [5, с. 6], «и страшно ему как-то всех стало, и знакомого и незнакомого. Стыдно и страшно по улицам ходить: все будто что-то знают про него» [Там же, с. 9].
Страх потерять место, боязнь мнения окружающих по самым разным поводам, вплоть до мелочей (вроде «ради чужих и пьешь его», чай [2, т. 1, с. 17]), – свойство «маленького человека».
Есть если не страх, то беспокойство и у героя Филипенко: Макс помногу и подолгу моется; нанимает проститутку, чтобы она обнюхала его, выявив источник запаха; не доверяя вердикту одной клиники, он бежит в другую; суматошно ищет объяснение запаху в интернете. В итоге, так и не выяснив, что с ним происходит, Макс садится в машину: «Я не знаю, куда мне ехать. В гостиницу не хочется, домой тоже. Мне нужно куда-нибудь, где нет людей. С другой стороны, думаю я, переживать не стоит. Ерунда. С кем не бывает? Все пройдет, обязательно пройдет!» [7, с. 217].
Если классический «маленький человек» доводит себя в своем беспокойстве и страхе, в своем маниакальном стремлении соответствовать социальной норме до сумасшествия: Поприщин, Голядкин, Шумков, Передонов; или же, по воле автора, до физического исчезновения: Башмачкин, Прохарчин, Саранин и т. д., – то современный герой эпохи постмодерна выходит за пределы общепринятой социальной парадигмы. Эскапизм – вот тот выход, который выбирает Макс. Такой вектор сродни герою романа Александра Иличевского «Матисс», в котором «Королев бросает вызов – непублично, без эпатажа, без деклараций – тем нормам, которые сковали человека, его свободу ритмоорганизующими, мифологизированными, как бы раз и навсегда данными ходами-путями-способа-ми проживания. И он из Королева становится Королем – в своем царстве: просто на земле, просто среди природы» [9, с. 38].
В самой завязке сюжета содержится намек на ту неэстетичную метаморфозу, которая случается с героем Филипенко, – это несвобода, вынужденность подчинения. Когда, двигаясь по дороге в машине, Макс замечает «вымокшего шоколодного щенка» [7, с. 203] и предлагает жене подобрать его, жена запрещает ему сделать это, естественный порыв сочувствия обрубается без объяснений. И как ответ – приходит запах, по своему происхождению коррелирующий с цветом щенка. Та вонь, которая сопровождает Макса с этого момента, – мощный сигнал ему что-то изменить в своей жизни. Читатель не знает, по каким принципам живет Макс, лишь догадывается, что он психологически несамостоятелен и социально зависим. Когда он меняет свою жизнь, запах исчезает. Теперь у него появляется новое зрение (как у героя Иличевского) и новое обоняние. Придя к коллегам, к жене, к врачам, он чувствует, что тот дурной запах исходит теперь от них всех, а он «чист»: «…в этом офисе совершенно невозможно дышать» [Там же, с. 221].
Интерпретируя структуру современного литературного образа в парадигме «традиция – новация», можно констатировать, что реальность становится другой, зависимость среднестатистического служилого человека от социума уже не представляется безысходной экзистенциоло-гемой, как в эпоху подчинения личности Табели о рангах. Новая реальность формирует иные парадигмы, иные формы и возможности существования.
Для тех персонажей рассказа Филипенко, кто по-прежнему существует в «традиции», Макс – дерьмовый человек, они ничтоже сумняшеся предают его. Читателю же представлена возможность иной оптики: по ге- незису образа мы видим «маленького человека», по своей сути никакого, однако неожиданно оказавшегося способным и сильным, чтобы отстоять свое право на существование, сделать выбор, не жалеть о нем, даже суметь наладить на своем «медийном амплуа» и интересе падких до подобных историй туристов род заработка.
“LITTLE MAN” VS “SHITTY MAN”: THE EVOLUTION
The Moscow City Teachers Training University Department of Russian Literature
Список литературы "Маленький человек" vs "дерьмовый человек": эволюция традиционного литературного типа в рассказе Саши Филипенко
- Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. Т.3. Повести. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. 191-214.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972.
- Кафка Ф. Превращение // Кафка Ф. Роман. Новеллы. Притчи. М.: Прогресс, 1965. С. 342-401.
- Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1988. С. 325-349.
- Ремизов А. Крестовые сестры: Повесть. М.: Современник, 1989. 124 с.
- Сологуб Ф. Свет и тени. Избранная проза. Минск: Мастацкая лiтература, 1988. 383 с.
- Филипенко С. Дерьмовый человек // Филиппенко С. Травля: Роман, рассказы. М.: Время, 2017. С. 203-221.
- Шафранская Э.Ф. "Маленький человек" в контексте русской литературы конца XIX - начала XX в. (Гоголь-Достоевский-Сологуб) // Русская словесность. 2001. № 7. С. 23-27.
- Шафранская Э.Ф. Роман А. Иличевского "Матисс" // Русская словесность. 2008. № 4. С. 37-40.