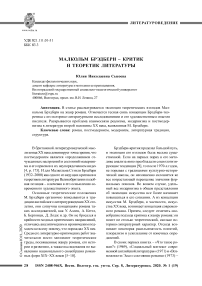Малкольм Брэдбери - критик и теоретик литературы
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эволюция теоретических взглядов Малкольма Брэдбери на жанр романа. Отмечается тесная связь концепции Брэдбери-теоретика с его историко-литературными исследованиями и его художественным опытом писателя. Раскрывается проблема взаимосвязи реализма, модернизма и постмодернизма в литературе второй половины ХХ века, выявленная М. Брэдбери.
Роман, постмодернизм, модернизм, литературная традиция, структура
Короткий адрес: https://sciup.org/149131944
IDR: 149131944 | УДК: 821.111.01-31
Текст научной статьи Малкольм Брэдбери - критик и теоретик литературы
В британской литературоведческой мысли конца ХХ века доминирует точка зрения, что постмодернизм является «продолжением отчужденных настроений и состояний модернизма и его приемов в их неупорядоченном виде» [4, p. 175]. И для Малкольма Стэнли Брэдбери (1932–2000) как одного из ведущих критиков и теоретиков литературы Великобритании подобная позиция – ключевая в его осмыслении современного художественного опыта.
Основные теоретические положения М. Брэдбери органично вписываются в традиции английского литературоведения ХХ столетия, они созвучны концепциям романа таких исследователей, как У. Аллен, А. Кеттл, Б. Бергонци, Д. Лодж и др. Он не бросался в крайности модных критических направлений, отличаясь аналитическим и ироническим подходом ко всему новому, что порождал ХХ век. Среди его литературно-критических работ значительное место занимают теоретические труды, посвященные жанру романа, его истории и развитию, а также исследования по выявлению национального своеобразия романных форм XIX–XX веков [5–10].
Брэдбери-критик проделал большой путь, и эволюция его взглядов была весьма существенной. Если на первых порах в его методике анализа явно преобладали социологизирующие тенденции [9], то после 1970-х годов, не порывая с традициями культурно-исторической школы, он несомненно склоняется ко все возрастающей переоценке значения формальных поисков. Во всяком случае, удельный вес модернизма в общем представлении об эволюции искусства все более начинает повышаться в его сознании. А из концепции искусства М. Брэдбери, в частности, искусства ХХ века, возникает концепция современного романа. Причем, следует отметить своеобразие подхода критика к жанру романа: он носит не столько теоретический, сколько историко-литературный характер. Отсюда возникает некоторая расплывчатость понятий, плюрализм и ускользание от конечных определений.
В своих первых книгах – «Что такое роман?» (1969), «Социальный контекст современной английской литературы» (1971) и «Возможности: Эссе о состоянии романа» (1973) – он уделял много внимания проблемам реализма и призывал плодотворному соединению модернистских и реалистическо-гуманистических традиций в «Социальном контексте…», а в «Возможностях…» даже связывал будущее английского романа с восстановлением утраченного в модернизме интереса писателей к изображению характера, хотя и подчеркивал необходимость синтеза реалистических и нереалистических форм. Однако уже в сборнике статей о модернизме («Modernism: 1890– 1930», 1978), выпущенном под его редакцией вместе с Дж. МакФарлейном, позиция М. Брэдбери начинает претерпевать значительные изменения.
Брэдбери осознавал свое положение писателя-постмодерниста, что оказывало значительное воздействие на его позицию теоретика. Весь дальнейший путь критика после этого выглядит как усиление убежденности в провиденциальном значении модернизма – не только чисто художественного, но прежде всего как духовного движения, кардинальным образом изменившего мироощущение современного человека.
Один из наиболее важных моментов в понимании концепции Брэдбери – принципиальное неразграничение им понятий «модернистский» и «современный» и, соответственно, модернистской и современной литературы, что вносит порой (в частности, когда речь идет о литературе и искусстве постмодернизма) определенную путаницу.
В статье «The Novel no longer novel» [7, p. 89] Брэдбери отмечает, что на всей истории романа второй половины ХХ столетия лежит тень модернизма. Для критика чрезвычайно важно наделение искусства гуманистическим пафосом, который он, однако, не всегда видит в современных произведениях, например, в авангардистском американском романе или в произведениях «массовой культуры». В значительной степени отсутствие гуманистического импульса в искусстве – следствие философии и эстетики модернизма.
Для многих писателей начала ХХ века – таких, как Гертруда Стайн и Вирджиния Вульф, – значение нового направления модернизма, по мнению Брэдбери, определялось тем, что художник, обнажая внутреннюю сущность искусства как такового, в то же время получил возможность проникнуть в глубины человеческой природы, творить искусство, сочетающее сознательное и бессознательное, эстетические устремления с творческими усилиями разума.
Но были и другие писатели, которые вкладывали в новые теории абстрактной формы совсем иной смысл: для них они были реакцией на современную историю, представляющую собой процесс дегуманизации. Брэдбери пишет: «Абстракция может вырасти из стремления к формальным новшествам или эстетическому освобождению. Но она может быть и ответной реакцией, поиском эстетического аналога тем историческим процессам технологизации, механизации и обезличивания, которые вытеснили человеческую фигуру из центра бытия, стерли различия между одушевленными и неодушевленными предметами, изменили композиционные соотношения человека и вещи» [1, с. 215–221].
Рассматривая творчество модернистов с подобной точки зрения, Брэдбери выделяет в литературе два типа абстракции: с одной стороны, эстетизированные портреты сознания, как у Вирджинии Вульф, а с другой – механические шуты Ивлина Во, лицедействующие на сцене жизни. Литература все больше усваивала абстрактную интонацию иронии, что означало не обращение к новому содержанию, а отказ от содержания вообще. Даже когда модернизм миновал вершину своего расцвета и в романе 1930–1950-х годов стал утверждаться чисто абстрактный формализм, а затем наступил период возрождения реализма, это господство дегуманизации и иронии как художественного принципа в изображении человеческой личности тем не менее продолжалось.
Разумеется, сегодня модернистский стиль исчерпал себя, модернизм стал понятием историческим. Но наступил период возрождения экспериментаторства, и реализм в романе подвергается серьезному пересмотру. Для Брэдбери последние сорок лет ХХ века были важным творческим периодом для романа: «Это было время, когда форма не только менялась и значительно трансформировалась в Великобритании, Европе и США, но и получала новые и проникающие инъекции из источников всего мира: из литературы Афри- ки, Латинской Америки, Японии, Восточной Европы. Их достижения не имели того чувства четкого развития, которое мы сейчас приписываем модернистскому движению» [7, p. 90]. Начало нового эстетического периода Брэдбери связывает именно с эпохой постмодернизма.
Под широкое знамя постмодернизма Брэдбери ставит такие пестрые явления, как театр абсурда, французский «новый роман», американский «новый журнализм», всевозможные направления в живописи – от поп-арта и оп-арта до абстрактного экспрессионизма и фотореализма – тем самым сближая современный авангардизм и массовую контркультуру. «Для него эти явления однородны, – считает Е. Гениева, – генетически связаны не только потому, что фактом своего существования они обязаны феномену дегуманизации, но и потому, что они подчас в трагически абсурдной форме воплощают этот феномен» [3, с. 214].
В этом отношении заслуживает внимания точка зрения российской исследовательницы Р. Гальцевой о том, что вместе с постмодернизмом мы переживаем второе крушение гуманизма. По ее мнению, «постмодернизм занят хаотизированием внешнего и обессмысливанием внутреннего мира человека» [2, с. 322]. А один из ведущих теоретиков постмодернизма И. Хассан, говоря о модернизме и постмодернизме, различает эти два явления по степени дегуманизации: модернизм имеет дело с дегуманизацией искусства, постмодернизм – с дегуманизацией планеты и концом человечества.
М. Брэдбери, исходя из своих наблюдений за развитием жанра романа во второй половине ХХ столетия, отмечает, что живопись и роман снова сблизились, как это бывает в периоды экспериментальных поисков в искусстве. Возник новый культ – синестезии (совмещение ощущений различных органов чувств: например, определенный звук представляется окрашенным определенным цветом), что находит выражение прежде всего в «хэппенингах», в синтетическом действе, переданном различными средствами, в формах пародии. Брэдбери справедливо утверждает, что все эти явления оказывают воздействие на развитие романа, который с готовностью оставляет стезю реализма и обращается к исследованию своей собственной лексической и структурной природы. Однако этот возврат к формализму происходит на иных, чем раньше, основах, и у нового формализма нет ничего общего с формализмом модернистов, когда мир был хаотичным, но, по крайней мере, целостным. И как следствие этого стремления писателей к формальным экспериментам Брэдбери отмечает, что и в методологии анализа литературных произведений наблюдается тенденция к исследованию исключительно языковой структуры произведения. Он спорит, в частности, с Дэвидом Лоджем, которого называет недостаточно «формальным критиком», делающим ставку не на структуру романа, а на язык. Расширенность определения романа Брэдбери (что многие называют неопределенностью) рассматривается в большей мере как его возражение критической практике и теории Лоджа, которую он оценивает одновременно как «незаконченную» и «слишком монолитную», слишком озабоченную вербальной структурой прозы, и недостаточно – развивающейся структурой и неотъемлемой референциальностью. Избегая предполагаемой узости лингвистического анализа Лоджа или сущности любого критического метода, фокусирующего внимание на какой-либо одной черте, Брэдбери выступает за «синтезирующее действие». Он требует критики такой же обширной, как сам роман, который для него выступает, конечно же, как литературная манифестация либерального гуманизма: уникальным и непринужденным, скорее открытым для «случайности», чем заплесневелым от предписаний как эстетического, так и политического формализма [8, p. 289]. Романист, утверждает Брэдбери, имеет «двойное обязательство»: перед своим искусством и перед своим миром, перед тем, что Брэдбери различает как «форму» и «случайность». Сложность объединения этих двух противоположных сил является дилеммой, поставленной перед современным человеком в общем и перед современным писателем в частности.
Осмысливая современное искусство, Брэдбери приходит к выводу, что для него характерно «ироническое отношение к самой идее искусства как некоего неделимого, самодовлеющего и замкнутого в себе единства»
[1, с. 218]. Новое искусство сознательно стремится к абстракции, и в этом смысле оно постреалистично. Эти черты особенно наглядно проявляются в живописи, но все более проникают и в другие формы художественного выражения, в том числе и словесные: драму, поэзию, прозу.
М. Брэдбери придает большое значение тому влиянию, которое оказала на литературу Вторая мировая война. Начиная с 1945 года в искусстве наступил период необычайного творческого подъема и в то же время небывалого многообразия стилей. Всевозможные «измы» стремительно сменяли друг друга, и в итоге недолговечность стала чертой художественной продукции. Наступил своего рода стилистический перерасход: стиля как такового, моды как формы и формы как моды. В нашем современном мире мода и стиль поменялись ролями, и показательно, что авангардизм, продолжающий традиции модернизма и сюрреализма, был интегрирован массовой культурой или контркультурой. «Нет сомнения, – считает Брэдбери, – что сегодня мы живем в период коренного изменения стиля в условиях всеобщей ломки социальной, сексуальной и гносеологической, мы существуем в мире, в котором проблема стиля приобрела важную социальную функцию» [1, с. 218].
Но в то же время произошло и возрождение модернистской абстракции, но уже проникнутой новым чувством отчаяния, что нашло выражение в пустотах минималистской живописи, в молчании персонажей некоторых пьес Беккета.
В романе второй половины ХХ века, по наблюдению М. Брэдбери, текст не вызывает у читателя чувства сопереживания или антропоморфных ассоциаций, предметы предстают безжизненными и никак не связанными с людьми, а те, в свою очередь, превращаются в карикатуры или фантастические неодушевленные предметы, которыми манипулирует автор. Всевозможные системы и шифры представлены в изобилии, но они несут чисто внешнюю, формальную функцию и заимствованы либо из старых литературных арсеналов, либо у современной истории с ее хаосом и скрытыми подспудными движениями. Автор ускользает от нас, почти теряет конт- роль над повествованием и при этом либо пускается в рассуждения о своем праве распоряжаться, как ему вздумается, созданной им художественной системой, либо настаивает на ее вымышленном характере.
В то время как художники сосредоточились на технических приемах письма как таковых, писатели обратились к лексической поверхности текста. Они создавали недолговечные тексты, в которых главное значение имели не персонажи, взывающие читателей к сопереживанию, не те или иные системы ценностей и даже не композиционные приемы, например, использование приема «точки зрения», а произвольные ритмические структуры, возникающие из противопоставления традиционным художественным средствам свободных вариантов композиции или пародии на структуру и форму. Таким образом, современный роман выступает как «конструкция, игра с бесчисленным количеством вариантов, а часть сюжета произведения становится процессом его собственного создания» [8, p. 5]. Традиционные отношения между художником, полотном и зрителем, а также между писателем, персонажем, сюжетом, текстом и читателем сами являются предметом произвольного художественного толкования.
Наперекор тогда еще модным концепциям, которые трактуют реальность как феномен языка и не более, Брэдбери не остановился перед ожидаемыми упреками в консервативности и заявил, что для него неприемлема литература, превращенная в «лингвистический или структурный шифр», даже если ее автором выступит сам Борхес. Впоследствии это неприятие и структурализма, и всех выросших на его почве школ становилось у Брэдбери все более упорным. По мере того как подобные подходы – «метаязык», «метаписьмо» – переставали быть только феноменом эстетики и философии, но приобретали статус канона, обязательного для любых видов интеллектуальной деятельности, ирония Брэдбери становилась все язвительнее, что отмечалось и самим писателем.
По мнению Брэдбери, все формы раскрытия знаний (от религиозной и научной до журналистского расследования) – это формы вымысла, с романом в центре. Потому что литература признает себя как вымысел и исследует свой собственный скептицизм, и это одно из самых важных средств открытия и наименования мира. В то же время она должна оставаться ответственной за чувство правды и ощущение реальности и достоверности индивидуальной человеческой природы. «Мои собственные книги представляют собой комические и сатирические исследования современного беспорядка, недостоверности и боли, а иногда находят либерализм абсурдным и ставят критический скептицизм под сомнение, но они не изображают конец либерализма, – писал Брэдбери. – Либерализм для меня – это то, о чем роман: задача сомнительных идеологий и бесчеловечных систем найти через симпатию и воображение, что в изменяющемся и быстро развивающемся мире конца ХХ века значимо, весомо и ценно. Вот почему роман всегда под сомнением, но никогда не умирает» [11, p. 129]. Весьма справедливо утверждение критика о том, что «действительно хороший роман борется со своей природой – природой романа как такового – и со своим собственным временем» [12, p. 56]. Это показывает в некотором смысле борьбу внутри автора, и, таким образом, критик видит в этом форму скептицизма, когда попытка открытия лучше, чем уже обозначенное открытие.
Как и многие исследователи этого жанра, М. Брэдбери изначально убежден в неопределимости этого литературного явления: «Роман наименее подвержен формальному определению или характеристике. У него нет определенной типографской формы или контекста исполнения и какого-то количества повторяющихся условностей. По этой причине все теории романа необыкновенно расплывчаты и являются теориями о неопределенности» [8, p. 11]. В одном из своих интервью Брэдбери заявил: «Написание романа неотъемлемо есть форма исследования; оно имеет свои логические, интеллектуальные и эстетические императивы, произошедшие от тех споров, что окружают его. На мой взгляд, невозможно рассматривать форму ни как только набор технических приемов, ни как самоцель» [12, p. 30]. По мнению исследователя, форма историзирована, но не в марксистских терминах, а в том понятии, что «для романиста обязательно осмысление его культуры – здесь и сейчас – с особой ответственностью за язык» [12, p. 30].
Несмотря на то особое значение, которое придает М. Брэдбери роману как «завершенному целому», он подчеркивает его «образно-поэтический рост» [10, p. 57], «органичное развитие» «разворачивающейся сказки» [8, p. 56]. В написании романа есть своя логика, та, которую ищут и писатель, и читатель. Таким образом, роман для Брэдбери скорее не четко определяемая литературная форма, а вереница «возможностей». Однако, чтобы завершить свое либерально-гуманистическое определение романа, Брэдбери выступает против тех возможностей, которые противоречат авторским обязательствам: «Моя точка зрения заключается в том, что в то время как не существует единственной динамичной жанровой характеристики романа, его основные структурные характеристики проистекают из его размера, повествовательного характера и композиционных обязательств; это должно восприниматься как структура или действие, вовлекающее людей и события в закрытый, авторски обусловленный мир, с присущими ему принципами, ценностями и отношениями, по которым они могут быть упорядочены и оценены» [8, p. 56]. И несмотря на то, что это положение так же «неопределенно» и «расплывчато», как и многие другие в концепции М. Брэдбери, подобная позиция является результатом тщательного изучения и осмысления художественного опыта ХХ века. Кроме того, такое пристальное внимание критика к художественной структуре произведений других авторов обусловливает совершенствование и собственной писательской техники.
В результате анализа произведений современной английской и американской литературы М. Брэдбери приходит к выводу об «усилении повествовательной стороны художественных произведений и, как следствие, о возрастании роли сюжета, характеров, взаимосвязи реалистического видения жизни и фантазии» [13, p. 8]. Критик прослеживает развитие романного творчества с XVIII века до наших дней, так как вне исторического подхода невозможно дать адекватную оценку происходящих в этом жанре изменений, и выдвигает мысль о том, что в современном за- падноевропейском романе наметилась тенденция к использованию писателями новых принципов отражения действительности. В развитии современного романа Брэдбери намечает две тенденции. Одна из них заключается в «тяготении к реализму, социальному докумен-тализму и взаимосвязи с историческими событиями» [13, p. 8]. Другая отражает «склонность к совершенствованию формы, развитию сюжета и исследованию писателями самих себя» [13, p. 8]. Эта двойственность взгляда на роман – с одной стороны, стремление писателей к художественному эксперименту, а с другой – к сохранению традиций, – является одной из главных отличительных черт концепции Брэдбери.
М. Брэдбери считает, что главное достоинство романа, этой литературной формы, в которой издавна шла борьба между реализмом и сюжетным повествованием, с одной стороны, и абстракцией и чистой формой – с другой, заключается в том, что жанр романа выдерживает решающий по своему значению спор между гуманизмом и абстракцией. На взгляд критика, этим, по сути дела, определяется жизненность и значение романа.
На формирование современного романа, утверждает М. Брэдбери, оказали определенное воздействие как глубокое освоение литературного наследия, так и развитие науки, достижения которой проникают во все сферы человеческой деятельности. Он отводит важную роль философии и психологии, влияющих на взгляды наших современников на развитие природы и общества. Критик считает этот фактор принципиально важным для исследования новых методов отражения внутреннего мира современного человека в образах героев литературных произведений.
И хотя очевидно, что понятие модернизма в концепции Брэдбери выступает намного четче, чем понятие постмодернизма, его взгляд на современный роман связан прежде всего с литературной жизнью Великобритании последних десятилетий ХХ века. Основные положения его концепции неотделимы от его опыта критика и историка литературы, и от его собственного писательского опыта. В своих работах он обращается и к таким мастерам художественного слова, как Л. Стерн и Г. Филдинг, и к малоизвестным авторам, недавно появившимся на литературном горизонте. Благодаря широкому охвату литературной ситуации для Брэдбери открываются новые пути для более глубоких исследований в этой области. Он указывает на необходимость рассматривать конкретные проявления взаимосвязанных традиций в творчестве английских писателей в контексте всей западноевропейской и американской литератур. Этот принцип представляется ему наиболее плодотворным для выявления национальных особенностей современного романа.
Список литературы Малкольм Брэдбери - критик и теоретик литературы
- Брэдбери, М. Собака, затянутая песками / М. Брэдбери // Иностранная литература. – 1980. – № 1. – С. 215–221.
- Гальцева, Р. Второе крушение гуманизма / Р. Гальцева // Континент. – М. : Париж, 1996. – № 89. – С. 321–323.
- Гениева, Е. Берега Малькольма Брэдбери / Е. Гениева // Иностранная литература. – 1980. – № 1. – С. 210–215.
- Baldick, Ch. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms / Ch. Baldick – N. Y. : Oxford University Press, 1990. – 291 p.
- Bradbury, M.S. The Modern British Novel / M.S. Bradbury. – London : Secker & Warburg, 1993, 2001 (rev. ed.). – 622 p.
- Bradbury M.S. The Modern World: Ten Great Writers / M.S. Bradbury. – L. : Secker & Warburg, 1988. – 294 p.
- Bradbury, M.S. No, Not Bloomsbury / M.S. Bradbury. – L.: Deutch, 1987. – 373p.
- Bradbury, M.S. Possibilities. Essays on the State of the Novel / M. S. Bradbury. – L. : Oxford Univ. Press, 1973. – 297 p.
- Bradbury, M. S. The Social Context of Modern English Literature / M. S. Bradbury. – Oxford : Blackwell, 1971. – 277p.
- Bradbury, M. S. What is Novel? / M. S. Bradbury. – Bristol : Edward Arnold, 1969. – 72 p.
- Contemporary Novelists / ed. by L. Henderson. – 5th ed. – L. ; Chicago : St. James Press, 1991. – 1053 p.
- Haffenden, J. Novelists in interview / J. Haffenden. – L. ; N. Y. : Methuen, 1985. – 328 p.
- The Novel Today. Contemporary Writers on Modern Fiction / ed. by M. S. Bradbury. – Rowman and Littlefield: Manchester : Manchester Univ. Press, 1977. – 256 p.