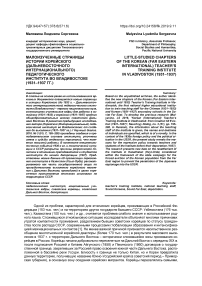Малоизученные страницы истории Корейского (Дальневосточного интернационального) педагогического института во Владивостоке (1931-1937 гг.)
Автор: Малявина Людмила Сергеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе ранее не использовавшихся архивных документов освещаются новые страницы в истории Корейского (до 1933 г. - Дальневосточного интернационального) педагогического института (Владивосток) - первого национального вуза, готовившего учительские кадры для работы в китайских (1931-1933) и корейских (1931-1937) средних общеобразовательных школах советского Дальнего Востока. В развитие предыдущего исследования автора (Корейский (Интернациональный) педагогический институт во Владивостоке: от создания до выселения (1931-1937 гг.) // Научный диалог. 2016. № 3 (51). С. 195-208) приведены сведения о преподавательском составе института, уточнены имена и судьбы отдельных персоналий, что является новизной работы. В контексте внешнеполитических событий 1930-х гг. и политической ситуации в СССР раскрыты причины репрессивной политики в отношении преподавателей и студентов института до начала депортации (1937). Представлены новые данные об организации переселения института в Казахстан (Кзыл-Орда), рассматриваемого как часть государственной акции по принудительному выселению корейского населения с Дальнего Востока, проводимой в целях «пресечения проникновения японского шпионажа» на территорию СССР.
Педагогический институт, национальные учительские кадры, советские корейцы, советский дальний восток, депортация
Короткий адрес: https://sciup.org/149134065
IDR: 149134065 | УДК: 94(47+57):378.6(571.6) | DOI: 10.24158/fik.2019.9.11
Текст научной статьи Малоизученные страницы истории Корейского (Дальневосточного интернационального) педагогического института во Владивостоке (1931-1937 гг.)
Одной из проблем, характерной для этнических корейцев, проживающих в Российской Федерации (153 тыс. чел.) и на территориях других государств бывшего СССР: Узбекистана (176 тыс. чел.), Казахстана (100 тыс. чел.) и др., считается проблема слабого знания и использования родного языка. Сложившуюся этноязыковую ситуацию исследователи объясняют многими причинами: утратой компактности проживания, разделением бывших советских корейцев по статусу гражданства после распада СССР, современными процессами глобализации образования и интенсификацией межнациональных контактов [1]. Не менее важной причиной признается насильственное разобщение многотысячной корейской диаспоры (более 170 тыс. чел.) в результате массового выселения в 1937 г. с территории Дальнего Востока – исторически сложившейся зоны проживания корейцев в России. Корейцы начали добровольно переселяться на Дальний Восток с середины XIX в. после подписания Россией и Китаем Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров о государственной границе, закрепивших за Россией право освоения южной части Дальнего Востока, расположенной в бассейне реки Уссури. Близость к границе не только Китая, но и Кореи превратила данную территорию, получившую название Южно-Уссурийский край (в советский период – Приморская губерния), в основную зону оседания корейских мигрантов. Корейцы переселялись семьями, не стремились к обратному возвращению, жили компактно, в национальных поселениях, создаваемых вдоль корейской границы [2]. Локальность размещения позволяла им сохранять самобытность, язык, традиции, культуру, создавать школы с преподаванием на родном языке. Исследователи объясняют это тем, что в традиционном корейском мировоззрении наличие образования у человека рассматривалось как условие его общественного престижа и успешной карьеры [3]. Поэтому они всегда стремились обучать своих детей, особенно мальчиков.
Ленинская политика коренизации, основанная на тезисе о праве этнических меньшинств на получение образования на родном языке и сохранении национальных культур, давала возможность более 15 лет поддерживать культурно-национальную среду дальневосточных корейцев. Она обеспечивалась действовавшими во Владивостоке корейским музыкально-драматическим театром, корейским клубом имени Сталина, изданием газетной и книжно-журнальной продукции на корейском языке, наличием национально ориентированных образовательных учреждений (Корейский педагогический техникум в Никольске-Уссурийском, корейское отделение при Советской партийной школе, Корейский педагогический институт) [4, л. 41–42]. Депортация 1937 г. разрушила естественно сложившуюся общность дальневосточных корейцев, которая так и не смогла восстановиться после их переселения в Казахстан и Среднюю Азию.
Одним из последствий сталинской депортации стало прекращение деятельности Корейского педагогического института, занимавшегося целевой подготовкой учительских кадров для корейских общеобразовательных средних школ (в советской педагогической системе 1920–30-х гг. – школы II ступени). Историки уже неоднократно пытались восстановить его историю, включая фрагментарные сведения о нем в исследования, посвященные жизни корейцев в СССР [5]. Однако в связи с тем, что изучение темы репрессий и депортаций в советской историографии длительное время находилось под запретом, а использование архивных документов было ограничено, многие страницы истории института по-прежнему остаются малоизвестными. В имеющихся работах мало сведений о его руководителях и преподавателях, есть разночтения в названии и структурах института, численности студентов, преподавательского состава. Это сохраняет актуальность обращения к истории института, дает возможность дополнить историю его деятельности новыми, ранее неизвестными фактами.
Привлечение архивных документов позволяет прежде всего устранить неточности в отношении названия института, целей создания и сроков начала его работы. Несмотря на то что в историю он вошел как Корейский педагогический институт, первоначально он создавался как Дальневосточный интернациональный (корейско-китайский. – Л. М. ) педагогический институт (сокращенно в документах – Интерпединститут). Об этом свидетельствует решение Дальневосточного краевого исполнительного комитета от 25 июня 1931 г. [6]. Создание вуза аргументировалось ростом числа школ «повышенного типа» с семилетним и девятилетним сроками обучения для «восточных народностей» (термин документа. – Л. М. ) и необходимостью их обеспечения преподавателями «высокой квалификации, знающими язык и письменность соответствующей национальности». Выбор китайско-корейского профиля института определялся тем, что корейцы и китайцы входили в пятерку самых крупных по численности этносов региона. После доминировавших русских (62,4 %) и украинцев (16,7 %) корейцы на протяжении 1920-х гг. устойчиво занимали третье место в дальневосточном социуме (168 тыс. чел., или 8,9 %), а китайцы – четвертое (72 тыс. чел., или 3,8 %) [7, с. 21, 39]. Для обучения их детей, начиная с первых лет советизации региона, в крае начала формироваться сеть начальных и средних школ с обучением на родном языке. Динамику роста количества корейских школ и обучающихся в них детей отражает таблица 1, составленная на основании справки о работе среди национальных меньшинств, подготовленной инструктором Далькрайисполкома Яковом Моисеевичем Теном [8].
Таблица 1 – Динамика количественного роста корейских школ в Дальневосточном крае за 1929–1934 гг.
|
Тип школы |
1929/30 учебный год |
1933/34 учебный год |
||
|
школ |
учащихся |
школ |
учащихся |
|
|
Начальная |
207 |
16 090 |
287 |
21 956 |
|
Неполная средняя (7-летка) |
8 |
1 197 |
49 |
4 673 |
|
Средняя |
– |
– |
2 |
70 |
Однако серьезной проблемой работы корейских школ (помимо слабой материальной базы – «существующие школьные помещения большинства школ представляют крупные корейские фанзы») являлась, как отмечалось в справке, нехватка и слабая подготовленность их педагогов. В документе подчеркивалось, что «по образовательному цензу корейские учителя стоят ниже русских учителей. В русских средних школах учителя с законченным высшим образованием составляют примерно 10 %, а в корейских средних школах учителей с законченным высшим образованием вовсе нет». Для решения этой проблемы была начата их подготовка в профильных педагогических образовательных учреждениях, первым из которых стал корейский педагогический техникум, открытый в 1924 г. в городе Никольске-Уссурийском (готовил учителей для начальных корейских школ). Свой вклад в обеспечение работы корейских школ должен был внести и новый педагогический институт.
Согласно решению Далькрайкома, институт должен был начать работу с 1 октября 1931 г. Поскольку он создавался как совместный корейско-китайский институт, в его структуре предполагалось функционирование двух параллельных секторов: корейского и китайского. Студентов (в первый год обучения планировалось набрать 90 чел.) предполагалось «вербовать» (формулировка документа. – Л. М. ) не только в пределах края, но и из других районов СССР. Приоритет при отборе рекомендовалось отдавать для китайского сектора – рабочим, для корейского – рабочим и колхозникам. Возможных абитуриентов, учитывая их объективно невысокую образовательную подготовку (допускался прием лиц с начальным 4-классным образованием), планировалось «подтягивать» до необходимого образовательного уровня (не ниже 7 классов) на специальных подготовительных курсах при институте.
Архивные документы (докладные записки и справки руководства вуза, материалы проверок его работы вышестоящими организациями и пр.), которые ранее не были доступны, дают возможность более полно восстановить все страницы истории института, поскольку мнения исследователей о его положении значительно расходятся – от признания благополучности до оценки существования как «жалкого». Наиболее ценными источниками представляются отчеты и справки, подготовленные его первым директором Петром Николаевичем Огаем для вышестоящих инстанций (Наркомпрос РСФСР, Дальневосточный краевой комитет ВКП(б), Дальневосточный отдел народного образования).
По содержанию документов видно, что становление вуза изначально сопровождалось рядом проблем, порожденных спешностью принятого решения. Так, в докладе в отдел культуры и пропаганды Далькрайкома ВКП(б) «О состоянии Дальневосточного интернационального педагогического института и необходимых мероприятиях для его дальнейшего развития» (январь 1934 г.) [9] директор информировал, что институт приступил к своей деятельности лишь с 4 ноября 1931 г. (с месячным отступлением от планируемого срока). Из-за отсутствия помещения первые два года учебные занятия со студентами проводились во вторую смену в здании русского Индустриально-педагогического института, расположенного по адресу ул. Китайская, д. 18, где Интерпединститутом арендовались три классные комнаты. Работа института стала стабильной лишь с 1933/34 учебного года, когда ему было полностью передано все здание и имущество Индустриально-педагогического института, который в 1933 г. был переведен в Благовещенск.
Непростым оказался и вопрос с преподавательскими кадрами. Изначально, по предложению Далькрайисполкома, предстояло его решать путем привлечения на работу в институт китайцев и корейцев, уже состоявших на педагогической работе в крае, и за счет приглашенных специалистов. К концу 1932/33 учебного года преподавательский состав института включал 35 человек (20 корейцев, 10 китайцев, 5 русских преподавателей). Более половины из них (69 %) имели высшее (19 чел.) или неоконченное высшее (5 чел.) образование. 11 чел. (31 %) получили среднее образование.
Как показывает анализ списочного состава института [10], кадровую основу (данные по состоянию на 1 января 1934 г.) составляли молодые (30–35 лет) преподаватели-корейцы. Многие из них являлись уроженцами Посьетского района Владивостокского округа, в середине 1920-х гг. решениями Приморского губернского комитета ВКП(б) были направлены на учебу в центральные вузы для получения высшего образования, входили в состав партийно-советского актива Владивостокского округа, имели разный по продолжительности опыт работы среди корейского населения.
Можно перечислить лишь некоторые имена. Так, Ен Сик Ли (доцент по диалектическому материализму) являлся выпускником Ленинградского коммунистического университета (1926), ранее преподавал обществоведение в Корейском педагогическом техникуме в Никольске-Уссу-рийском. Федор Елисеевич Пак – доцент по кафедре математики, окончил Московский государственный университет (1931), владел русским, немецким, украинским языками, по совместительству работал в Дальневосточном государственном университете. Борис Васильевич Хан – доцент по истории ВКП(б), окончил Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова в Москве (1932) и аспирантуру, параллельно работал во Владивостокском обкоме ВКП(б). Владимир Николаевич Лян – доцент политэкономии, являлся выпускником аспирантуры при Ленинградском институте востоковедения, владел русским и английским языками. Насыщенную педагогическую биографию имел Павел Филиппович Ни – доцент по химии, выпускник Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Исследователи отводят ему важную роль в истории просве- щения дальневосточных корейцев, так как более пяти лет он проработал учителем (после окончания Омской учительской семинарии (1915) и Владивостокского учительского института (1918) в школах корейских деревень Нижнее Янчихе, Ново-Киевское, Красное, принимал участие в подготовке пяти учебных пособий на корейском языке (словари, корейский букварь «Красное дитя», букварь для взрослых «Долой неграмотность»), перевел на корейский язык учебники по химии для средней школы [11].
Наряду с молодежью к работе были привлечены и более возрастные преподаватели, получившие профильное образование в учительских семинариях: Антон Константинович Хан (и. о. доцента по педагогике, завкафедрой языка и литературы), Константин Петрович Ким (преподаватель русского языка), Тихон Вениаминович Огай (завкафедрой педагогики), Константин Степанович Хагай (завкафедрой математики в 1932 г.) и другие лица.
Директор института Петр Николаевич Огай (1902 г. р., уроженец деревни Фаташи Посьет-ского района, член ВКП(б) с 1928 г., преподаватель всеобщей истории) с 1923 по 1926 г. обучался в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ) им. Сталина (Москва). Ко времени назначения на должность руководителя имел пятилетний опыт как административной, так и преподавательской работы. По данным личного дела, оформленного в мае 1933 г., которое хранится в бывшем партийном архиве Хабаровского края, в 1926–1927 гг. работал преподавателем на окружных курсах партийно-советского актива; в 1928–1929 гг. был инспектором по делам национальных меньшинств Владивостокского окружного отдела народного образования. С сентября 1930 г. по февраль 1932 г. учился в аспирантуре Дальневосточного коммунистического университета (Хабаровск) и там же возглавлял его корейское отделение. Свою работу по организации института в анкете, представленной в деле, оценивал следующим образом: «…мне удалось под руководством партийной организации в основном поставить на ноги единственный национальный (корейско-китайский) вуз во всем СССР…» [12, л. 5].
С этим нельзя не согласиться. Несмотря на зафиксированные в документах проблемы: недостаток кадров и учебных пособий, нехватка бумаги для организации переводческой и издательской деятельности, высокий (до 10 %) отсев обучающихся, перерывы в занятиях в период участия студентов в массовых работах (посевная, уборочная, лесозаготовки) – институт все же укреплял свои позиции. До 1933 г., находясь в статусе интернационального, вуз имел два сектора: корейский (заведующий Николай Трофимович Цой) и китайский (заведующий Иван Николаевич Гуйский). Студенты каждого сектора обучались на своем языке. Сектор состоял из отделений, где готовили учителей-предметников по химии, биологии, математике, обществоведению, русскому и родному языку и литературе для средних национальных школ. Срок обучения на каждом отделении составлял 4 года. В первые два учебных года было открыто четыре отделения: три (социально-экономическое, математическое, химическое) в корейской секции, одно (отделение языка и литературы) – в китайской.
С 1933/34 учебного года после закрытия китайского сектора (аргументировалось отсутствием в крае китайских школ-семилеток) институт стал исключительно «корейским педагогическим» вузом и вплоть до депортации 1937 г. работал в составе четырех факультетов (исторического, математического, естествоведения, языка и литературы) и девяти кафедр. Обучение осуществлялось на корейском языке. Исключение составляли предметы, которые в разные годы вели русские преподаватели (А.А. Жиркова (русский язык), И.В. Попов (ботаника), В.В. Ишерский (педология), Г.А. Лопатинский (заведующий кафедрой русского языка), С.И. Ривкин (история народов СССР), А.Т. Булдовский (зоология) и др.). В 1935 г. при вузе, как и повсеместно, был открыт вечерний (двухгодичный) учительский институт в составе физико-математического, исторического и литературного отделений. В этом же году состоялся и первый выпуск института в составе 17 преподавателей химии и естествознания. Второй выпуск (1936) составил 16 чел.: 8 учителей истории и 8 преподавателей физики и математики [13].
Несмотря на возникающие сложности при отборе, происходил постепенный рост численности студентов. Это можно проиллюстрировать следующими цифрами. В 1931/32 учебном году на обучение было набрано 78 чел. (в том числе 67 корейцев) при плане 90 чел. Набор следующего года составил 130 чел. (в том числе 119 корейцев). В 1932/33 учебном году были набраны только студенты-корейцы (176 чел.). Рост следующих наборов составлял: 234 чел. в 1934/35, 293 чел. в 1935/36 и 309 чел. в 1936/37 учебном году [14]. Все студенты обеспечивались стипендиями, приравненными к размеру выплат слушателям высших советских партийных школ и дифференцированными по курсу обучения (от 50–60 р. на младших курсах до 150 р. на старших). Имелось собственное пригородное хозяйство (14 га), в котором выращивались традиционные для корейского рациона рис, овощи, соевые бобы.
Но изменение политической ситуации в стране, активизация борьбы с «фракционерами», «классово чуждыми элементами», поиски «агентов иностранных разведок», характерные для 1930-х гг., поставили институт перед новыми проблемами, выразившимися в увеличении числа различных проверок, обследований и «чисток» со стороны партийно-советских органов. Так, уже летом 1933 г. по итогам работы комиссии по «чистке» институтской партийной ячейки из института были исключены 10 студентов (Пак Чун-гун, Ли Хо Чен, Ли Дон Гун, Ко Иль Бэм и др.) с формулировкой «как классово чуждые, антисоветские и националистические элементы, пытавшиеся протащить в институт теорию преимущества капиталистической системы хозяйства над советской и отрицающие наличие классовой борьбы в национальном вузе». В июне 1933 г. был снят с работы заведующий рабочим (подготовительным) факультетом института Ким Дя Ик. Причиной увольнения, как свидетельствуют документы, стала «политическая неподготовленность студентов», выразившаяся в том, что один из слушателей рабфака при посещении института представителями крайкома ВКП(б) не смог ответить на вопрос «кто такой Сталин?» [15].
Проверки и обследования участились после выхода постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой», обязывавшего местные партийные организации усилить внимание к вузовскому сектору. Уже осенью 1936 г. работа института наряду с другими вузами края была обследована специальной партийной комиссией. Ее выводы были отражены в секретной справке от 22 ноября 1936 г. «Об организации учебного времени, учебной работы и о порядке и дисциплине в высших учебных заведениях Дальневосточного края в 1936–1937 учебном году». Она была направлена в бюро Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) на имя Н.И. Ежова и М.Ф. Шкирятова. В справке отмечалось, что качество подготовки в вузах края находится на низком уровне. Вузы не обладают нужными кадрами, лабораториями, кабинетами и библиотеками. Работа руководителей вузов и общественных организаций (партийные и комсомольские ячейки, профсоюзные организации) признавалась неудовлетворительной и не обеспечивающей подготовку специалистов, «полностью отвечающих современным требованиям социалистического строительства» [16].
Неудовлетворительные оценки работы института (нехватка учебных площадей, слабая подготовленность студентов, в частности плохое владение русским языком и корейской письменностью, «засоренность» (термин документа. - Л. С. ) преподавательского состава «чуждыми в политическом отношении людьми») можно найти и в ряде других документов, сохранившихся в архивах. В отношении оценок следует пояснить, что многие выявленные недостатки в работе института (занижение требований к абитуриентам, слабая успеваемость студентов, особенно на первых курсах, недостаточная квалификация преподавательского состава) существовали реально. Но они были характерными и для других вузов (и не только дальневосточных) и порождались объективными причинами. Не хватало выпускников средних школ, что порождало борьбу между вузами за абитуриентов. До 1935 г. действовал принцип классового набора в вузы, когда приоритетным было не наличие необходимых знаний, а социальное происхождение будущего студента. На преподавательскую работу методом «выдвиженчества» привлекали «пролетарскую» молодежь без необходимого уровня образования для ускоренного замещения ими так называемой «старой профессуры».
У корейского института были и свои проблемы. Часто фиксируемое в документах слабое знание студентами русского языка можно было связать с тем, что основным языком преподавания в корейских школах, откуда поступали абитуриенты, являлся родной язык. Русский язык преподавался как иностранный и лишь в отдельных школах. Для хорошего овладения корейской письменностью студентам не хватало необходимых учебных пособий (в основном были разработаны для начальной школы), издание которых зачастую тормозилось отсутствием бумаги. Однако сама обстановка второй половины 1930-х гг. позволяла все обнаружившиеся проблемы списывать на действия «фракционеров», «классово чуждых лиц», которые исключались из партии, лишались работы, подвергались арестам или высылке. Так, следствием борьбы с «фракционностью» в среде корейских коммунистов стало снятие в январе 1936 г. с работы и исключение из партии первого директора института П.Н. Огая с формулировкой «как активный неразоружившийся фракционер контрреволюционной националистической группировки “корбюро”» [17]. Такие же обвинения «во фракционности» и последующие увольнения коснулись следующего руководителя института Николая Трофимовича Цоя (был утвержден директором осенью 1936 г.), заведующего рабфаком Бориса Хана, руководителя учебной части Ивана Михайловича Ни, ряда преподавателей и студентов. Итогом «очищения» стала ситуация, которую очередной и последний директор института Андрей Боробов (был назначен в июле 1937 г.) в письме первому секретарю Далькрайисполкома И.М. Ва-рейкису описал так: «Я один, все помощники были арестованы...» [18].
Окончательным ударом по институту стал выход в августе - сентябре 1937 г. ряда решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР о выселении корейского населения с территории Дальнего Востока для «пресечения проникновения японского шпионажа в районы Дальневосточного края» [19, с. 723– 732]. Документом о начале депортации явилось постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 августа 1937 г., содержащее указание краевым органам (Дальневосточному крайкому ВКП(б), Даль- крайисполкому, Управлению НКВД по Дальневосточному краю) выселить все корейское население из пограничных районов ДВК в Южно-Казахстанскую область и Узбекскую ССР. Далее отдельными документами шли уточнение групп выселяемых, сроков переселения и конкретизация мест вселения. В частности, решением от 28 августа устанавливалось, что «на общих основаниях» должны быть выселены корейцы-коммунисты, комсомольцы и вся корейская интеллигенция (учителя, агрономы, врачи). Решение от 4 сентября содержало указание об отправке книг на корейском языке и наглядных пособий с корейским текстом, признавало «нецелесообразным» оставление во Владивостоке корейского педагогического института и давало распоряжение о его перемещении в Казахстан. Для исполнения вышестоящих решений последовала серия принятия аналогичных постановлений на местном уровне. Одним из них стало постановление Приморского обкома ВКП(б) от 17 сентября 1937 г. «О переселении некоторых корейских учреждений и организаций из гор. Владивостока» [20]. В документе констатировалось принятие к исполнению решения о переселении Корейского педагогического института «всем штатом преподавателей, научных сотрудников и студентов» в Казахстан. Дополнительно принималось решение переселить вместе с педагогическим институтом учительский институт и корейский рабфак.
О том, как было организовано переселение института, свидетельствуют немногочисленные выявленные на сегодняшний день документы. В основном это телеграммы, направленные его директором А. Боробовым из Владивостока в Хабаровск в Далькрайисполком и Далькрайком ВКП(б). По датам документов видно, что подготовка к переселению института была начата еще до принятия постановления Примобкома ВКП(б). Так, в первой телеграмме, датированной 14 сентября 1937 г., содержался примерный подсчет требуемых для переселения вагонов. Запрашивалось 47 товарных вагонов для перевозки учебного оборудования и «прочего движимого имущества института и рабфака». Предлагалось вывозить только бессемейных студентов. Студентов, семьи которых проживали в районах, предлагалось отпустить из института, вероятно дав им возможность переселяться всем вместе. Второй телеграммой (20 сентября 1937 г.) запрашивались 226 тыс. р. для компенсации расходов на переезд. Сюда включались расходы на выдачу выходных пособий (8 тыс. р.), подъемных профессорско-преподавательскому составу (61 тыс. р.), выплаты суточных членам семей (152 тыс. р.) и приобретение тары для упаковки (29 тыс. р.). Отсутствие денег стало причиной третьей телеграммы (от 21 сентября 1937 г.) с текстом, что «задержка денег институту грозит срывом переезда» [21].
Выявление новых документов поможет более полно восстановить весь процесс подготовки. Пока удалось установить, что из Владивостока институт выехал, предположительно, вечером 24 или утром 25 сентября. На это указывает телеграмма, отправленная в Хабаровск 25 сентября 1937 г. в 14:45 с железнодорожной станции Губерово (445 км от Владивостока), «следуем эшелоном корейского пединститута». Целесообразно привести дальнейший текст телеграммы, так как он является еще одним свидетельством сложностей, с которыми пришлось столкнуться переселенцам. «Станции не обеспечивают кипятком. Начиная [с] Ворошилова (ныне город Уссурийск; 112 км от Владивостока. – Л. М. ) продажа хлеба не организована. Места мягкого [вагона], предоставленные областной тройкой научным работникам, частью заняты обслуживающими. Поезд переполнен» [22].
Историкам еще предстоит выяснить, сколько человек выехало в Казахстан, как сложилась судьба преподавателей и студентов института. О самом вузе известно, что он продолжил свою деятельность в городе Кзыл-Орде как Кзыл-Ординский педагогический институт (в настоящее время Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата). После принятия постановления ЦК ВКП(б) «О реорганизации национальных школ» (24 января 1938 г.) институт утратил свой «корейский» профиль и перешел на русский язык обучения. Однако, как отмечают казахстанские исследователи, в течение последующего десятилетия преобладающую часть студентов и преподавателей продолжали составлять корейцы.
Подводя итоги, можно отметить, что, несмотря на непродолжительный период деятельности (6 лет работы), институт внес определенный вклад в повышение образовательного уровня корейского населения Дальнего Востока и сохранение родного языка. Поэтому его деятельность, как и судьба его коллектива и выпускников, не должна быть забыта. Этому может способствовать совместная работа российских и казахстанских ученых, направленная на поиск и изучение новых архивных документов, позволяющих сделать историю института более полной и объективной.
Ссылки:
-
1. См.: Ким Г. Об истории принудительно-добровольного забвения родного языка корейцами Казахстана // Диаспоры. 2003. № 1. С. 110–146 ; Son Zh.G. Problems of Transformation of the Korean Language in the Russian Korean Society / / The Contemporary Relevance of Document Culture: Knowledge, Media, Power / comp. H.H. Lee. Seul, 2015. P. 185–221.
-
2. См.: Ким Е.У. Переселение корейцев в Россию: начало и этапы // Энциклопедия корейцев России. 140 лет в России / Г.Н. Лин [и др.] ; под ред. Цой Брони. М., 2003. С. 113–122 ; Корейцы на российском Дальнем Востоке. Вторая половина XIX – начало XX в. : документы и материалы / сост. Н.А. Троицкая [и др.]. Владивосток, 2001. 375 с. ; Петров А.И. Корейская диаспора на Дальнем Востоке России. 60–90-е гг. XIX в. Владивосток, 2000. 303 с.
-
3. Ланьков А.Н. Быть корейцем… М., 2006. 542 с.
-
4. Корейцы в Дальневосточном крае : информ. справка // Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. П-2. Оп. 11. Д. 200. Л. 41–48.
-
5. См.: Бэ Ы.Г. Краткий очерк истории советских корейцев (1922–1938). М., 2001. 137 с. ; Ким Г.Н., Сим Е.С. История просвещения корейцев России и Казахстана. Вторая половина XIX в. – 2000 г. Алматы, 2000. 356 с. ; Кузин А.Т. Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы. Южно-Сахалинск, 1993. 368 с. ; Сон Ж.Г. Российские корейцы: всесилие власти и бесправие этнической общности. 1920–1930. М., 2013. 531 с.
-
6. ГАХК. Ф. 137. Оп. 4. Д. 15. Л. 227.
-
7. Дальневосточный (ДВК) край в цифрах : справочник / под ред. Р. Шишлянникова, А. Рясенцева, Г. Мевзоса. Хабаровск, 1929. 281 с.
-
8. ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 233. Л. 30–33.
-
9. Там же. Д. 165. Л. 9–19.
-
10. Там же. Л. 1, 103.
-
11. Ким Г.Н. Социально-педагогические аспекты образования корейцев Казахстана в 1950–1990 гг. [Электронный ресурс]. Гл. 5. URL: http://world.lib.ru/k/kim_o_i/ch5rtf.shtml (дата обращения: 01.07.2019).
-
12. ГАХК. Ф. П-2. Оп. 10. Д. 2610. Л. 5.
-
13. Ни И.М. Второй выпуск Корейского педагогического института // Красное знамя (Владивосток). 1936. 4 июля.
-
14. ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 165. Л. 10, 97 ; Д. 225. Л. 12 ; Ф. 353. Оп. 1. Д. 221. Л. 52–53.
-
15. ГАХК. Ф. П-2. Оп. 11. Д. 165. Л. 7, 95.
-
16. Там же. Д. 225. Л.3–7.
-
17. Там же. Д. 725. Л.145.
-
18. Там же. Д. 225. Л. 15–16,27.
-
19. ВКП(б), Коминтерн и Корея. 1918–1941 : сб. документов / сост. Ж.Г. Адибекова, Л.А. Роговая. М., 2007. 814 с.
-
20. ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1316. Л. 178.
-
21. Там же. Л. 64, 112, 126.
-
22. Там же. Л. 167.
Список литературы Малоизученные страницы истории Корейского (Дальневосточного интернационального) педагогического института во Владивостоке (1931-1937 гг.)
- Ким Г. Об истории принудительно-добровольного забвения родного языка корейцами Казахстана // Диаспоры. 2003. № 1. С. 110-146.
- Son Zh.G. Problems of Transformation of the Korean Language in the Russian Korean Society // The Contemporary Relevance of Document Culture: Knowledge, Media, Power / comp. H.H. Lee. Seul, 2015. P. 185-221.
- Ким Е.У. Переселение корейцев в Россию: начало и этапы // Энциклопедия корейцев России. 140 лет в России / Г.Н. Лин [и др.]; под ред. Цой Брони. М., 2003. С. 113-122.
- Корейцы на российском Дальнем Востоке. Вторая половина XIX - начало XX в.: документы и материалы / сост. Н.А. Троицкая [и др.]. Владивосток, 2001. 375 с.
- Петров А.И. Корейская диаспора на Дальнем Востоке России. 60-90-е гг. XIX в. Владивосток, 2000. 303 с.
- Бэ Ы.Г. Краткий очерк истории советских корейцев (1922-1938). М., 2001. 137 с.
- Ким Г.Н., Сим Е.С. История просвещения корейцев России и Казахстана. Вторая половина XIX в. - 2000 г. Алматы, 2000. 356 с.
- Кузин А.Т. Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы. Южно-Сахалинск, 1993. 368 с.
- Сон Ж.Г. Российские корейцы: всесилие власти и бесправие этнической общности. 1920-1930. М., 2013. 531 с.
- Дальневосточный (ДВК) край в цифрах: справочник / под ред. Р. Шишлянникова, А. Рясенцева, Г. Мевзоса. Хабаровск, 1929. 281 с
- Ким Г.Н. Социально-педагогические аспекты образования корейцев Казахстана в 1950-1990 гг. [Электронный ресурс]. Гл. 5. URL: http://world.lib.ru/k/kim_o_i/ch5rtf.shtml (дата обращения: 01.07.2019)
- ВКП(б), Коминтерн и Корея. 1918-1941: сб. документов / сост. Ж.Г. Адибекова, Л.А. Роговая. М., 2007. 814 с