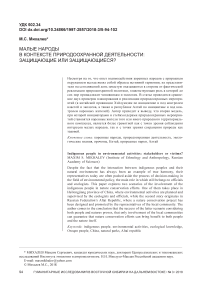Малые народы в контексте природоохранной деятельности: защищающие или защищающиеся?
Автор: Михалев Максим Сергеевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific
Статья в выпуске: 3 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
Несмотря на то, что опыт взаимодействия коренных народов с природным окружением всегда являл собой образец истинной гармонии, их представители на сегодняшний день зачастую оказываются в стороне от фактической реализации природоохранной политики, главенствующая роль в которой до сих пор принадлежит чиновникам и экологам. В статье проводится сравнение двух примеров планирования и реализации природоохранных мероприятий (в китайской провинции Хэйлунцзян по инициативе и под контролем властей и экологов, а также в республике Алтай по инициативе и под контролем коренных жителей). Автор приходит к выводу, что вторая модель, при которой инициаторами и стейкхолдерами природоохранных мероприятий становятся коренные жители того или иного природного территориального комплекса, является более грамотной как с точки зрения соблюдения интересов малых народов, так и с точки зрения сохранения природы как таковой.
Коренные народы, природоохранная деятельность, экологические знания, орочоны, китай, природные парки, алтай
Короткий адрес: https://sciup.org/170175869
IDR: 170175869 | УДК: 502.34
Текст научной статьи Малые народы в контексте природоохранной деятельности: защищающие или защищающиеся?
Природа и человек:в поисках диалектического единства
Масштабы глобального экологического кризиса хорошо известны и вызывают вполне понятную озабоченность не только у ученых, но и у политиков, простых граждан, религиозных деятелей1. Загрязнение воздуха, водных ресурсов и почвы, вырубка лесов и опустынивание, истощение невозобновляемых природных ресурсов, изменение климата и сокращение биологического разнообразия на планете достигают в наши дни таких пропорций, что необходимость срочных действий, способных переломить негативные тенденции или хотя бы приостановить дальнейшую деградацию окружающей среды, не вызывает сомнений. Речь идет – и это не преувеличение – о судьбе человечества.
В то же время не стоит забывать и о том, что характер и масштаб этих действий требуют серьезного, взвешенного подхода, ибо хаотичные, нескоординированные и малопродуманные акции способны принести гораздо больше вреда, чем пользы. Требует четкого понимания и то, кто именно и по каким причинам должен обладать мандатом на принятие решений в деле охраны окружающей среды. Связано это с тем, что любые ограничительные или разрешительные действия в сфере экологии не должны нарушать баланс интересов между странами, народами, группами граждан и отдельными индивидами. Другими словами, по мере усиления экологического кризиса вопрос охраны окружающей среды становится в широком смысле этого слова политическим, а стало быть, к его решению должны привлекаться не только биологи и экологи, но и представители других наук, в том числе антропологии. В силу того, что речь идет не просто о природе, но о взаимоотношениях человека и природы, представителям науки о человеке также должно быть дано слово. К сожалению, роль антропологов в настоящее время сводится, в основном, к изучению экологических концепций и практик (т. н. традиционных экологических знаний), выработанных народами планеты в ходе их исторического развития, и составлению на основе этих исследований рекомендаций экологам и политикам, за которыми всегда остается последнее слово в вопросе принятия решений2.
При этом вызывает озабоченность, что люди как биологический вид вообще и малочисленные народы планеты в частности с точки зрения большинства «кабинетных» экологов являются в какой-то степени злом, своей деятельностью лишь наносящим природе ущерб. Эта убежденность находит, к примеру, свое яркое отражение в стратегии создания заповедников как неких экстерриториальных единиц, доступ в которые людям, в том числе и представителям коренных народов этих мест, по большому счету оказывается воспрещен. С точки зрения необходимости сохранения окружающей среды сама по себе идея полного изъятия из хозяйственного оборота заповедных земель серьезных вопросов не вызывает, но ровно до того момента, пока желание огородить огромные пространства первозданной природы и запретить к ним доступ человека не становится самодовлеющим, что ставит под угрозу выживание малых народов, для которых эти земли являются родным домом3. При этом в лишении аборигенного населения права доступа к своей земле присутствует, на самом деле, и заметный элемент горькой иронии, ведь именно эти люди на протяжении многих веков жили в гармонии с природным окружением. Ситуация ухудшилась лишь с появлением пришельцев из промышленно развитых регионов, которые сначала внесли разлад во взаимоотношения человека и природы, а затем, основательно подорвав основы их мирного сосуществования, стали вводить запреты в отношении самых пострадавших народов, лишая их доступа к местам их традиционных промыслов4.
Ситуация, при которой инициаторами запретов и ограничений выступают не представители коренного населения, а те самые люди, которые в свое время способствовали нарушению баланса во взаимоотношениях человека и его природного окружения, безусловно, достойна пристального внимания и обсуждения. При этом важная роль в такой дискуссии должна принадлежать антропологам, которые смогли бы взглянуть на проблему с точки зре- по защите окружающей среды на предмет использования традиционных экологических знаний в процессе принятия решений (см.: [5]).
ния интересов малых народов, страдающих от подобной природоохранной деятельности. Не лишним было бы рассмотреть этот вопрос и с точки зрения самой окружающей среды. Все дело в том, что любые природные территориальные комплексы (ПТК), лишившиеся, благодаря запретительным мерам экологов или стоящих на их стороне политиков, полноценного присутствия на своей территории коренных жителей, в результате также могут серьезно пострадать. С одной стороны, это связано с тем, что человек как биологический вид составляет важную и неотъемлемую часть любого такого комплекса. При этом его участие в природных процессах является столь же важным условием его функционирования, как и участие любого другого живого существа. Искусственное же исключение человека из его природного окружения способно привести в том числе и к нежелательным экологическим последствиям, когда оставшийся в результате без своих традиционных обитателей ПТК может лишиться очень важного составного элемента. С другой стороны, не стоить забывать и о том, что зачастую на смену коренному населению, привыкшему к жизни в тех или иных природных условиях и умеющему находить необходимый баланс между хозяйственной деятельностью и потребностями окружающей среды, приходит население пришлое, такими навыками не обладающее и не стремящееся ими овладеть. В таких условиях ситуация и вовсе может стать угрожающей.
Какие последствия может повлечь за собой отчуждение коренных жителей от своего природного окружения, каким должен быть баланс между потребностью снизить негативное воздействие человека на природную среду и необходимостью его присутствия здесь, а также какой в этом вопросе должна быть роль малых народов, проживающих на этой земле? В данной статье предпринимается попытка найти ответы на эти вопросы, проанализировав и сравнив подходы к природоохранной деятельности, которые были приняты на вооружение в двух не похожих друг на друга регионах, расположенных неподалеку от российско-китайской границы – Орочонской национальной волости Синьшэн в провинции Хэйлунцзян в Китае и Онгудайском районе Республики Алтай в России. В то время как и в том, и в другом случае потребность сохранить для потомков уникальный природный комплекс диктовала необходимость ограничительных и запретительных мер, на Алтае они были инициированы и осущест- влены на практике самими коренными обитателями этих мест, алтайцами, а в Хэйлунцзяне решение принималось экологами и властями провинции без согласования интересов и учета предложений малочисленных народов, их населяющих. Представляется, что сравнение результатов, полученных в том и другом случае, будет способствовать нахождению ответа на вопрос о том, каким именно образом эффективнее всего сочетать экологические потребности современного общества и интересы малых народов планеты.
Синьшэн: люди без леса, лес без людей
«Винтовка рождает власть», – утверждал лидер КНР Мао Цзэдун. Не удивительно, что власть в современном Китае относится к людям, обладающим винтовкой и способным с ней обращаться, с большим недоверием. Коренные орочоны, проживающие в районе, непосредственно примыкающем к российско-китайской границе, безусловно, к таким людям относятся5. Прирожденные охотники и следопыты, никогда по-настоящему не признававшие над собой внешнего контроля, они всегда оставались головной болью для любого правительства страны. Ситуацию усугубляло и то, что до середины XX в. орочоны оставались, по большей части, кочевым народом, а стало быть, не имели стационарных поселений, которые могли бы стать центром цивилизационного притяжения и одновременно центром осуществления надзора со стороны государства. Ситуация стала чуть более управляемой лишь с конца 1950-х гг. после того, как китайскому правительству удалось привести к оседлости подавляющую часть орочонов. Однако наличие у них на руках большого количества огнестрельного оружия, а также знание ими потаенных троп и укрытий в лесах Большого и Малого Хингана все равно делали их плохо управляемой и в целом неподконтрольной властям группой насления.
В КНР всегда стремились к тому, чтобы орочоны в конце концов превратились в пахарей и огородников или же и вовсе стали городскими жителями [10, p. 67]. До той поры, однако, пока у них сохранялась возможность охотиться, это удавалось с трудом. И вот в 1996 г. администрация Орочонского автономного хошуна город- ского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия пошла на радикальные меры и запретила любую охотничью деятельность на своей территории. Орочонам было приказано сложить оружие и перейти на другой образ жизни. Чтобы облегчить им такой переход, была даже запущена специальная программа, призванная стимулировать коренных жителей региона заниматься сельским хозяйством, малым бизнесом и сопутствующими производ-ствами6. С этими целями орочонам были безвозмездно выделены земельные наделы, построены бесплатные всесезонные дома, а также назначены ежемесячные пособия потерявшим средства к существованию охотникам и членам их семей. В расположенной по соседству с Внутренней Монголией провинции Хэйлунцзян, частью которой является и Синьшэн, где также проживает значительное количество орочонов, власти выбрали менее радикальное решение проблемы наличия на своей территории охотников, владеющих огнестрельным оружием. Местным орочонам, которых правительство видело в будущем земледельцами или мелкими бизнесменами, также было велено сдать ружья, но при этом не на совсем, а лишь на временное хранение в близлежащем отделении полиции. На период охотничьего сезона, длящегося, как правило, один месяц в году, им было дозволено брать их под расписку для того, чтобы охотиться в окрестных лесах7.
Безусловно, в подобных условиях орочоны Синьшэна также не имели никакой возможности оставаться профессиональными охотниками, тем более что уже задолго до этого решения властей окрестные леса практически лишились диких животных в результате интенсивного промышленного освоения края. В конце концов, охота постепенно превратилась для них в приятное хобби. Максимум, на что теперь рас- считывают коренные жители Синьшэна, собираясь в лес, – это добыть немного мяса диких животных, таких как кабан или косуля, для собственного потребления, или одну-две шкуры, которыми можно заинтересовать перекупщика. Следует отметить и то, что власти запретили орочонам приобретение нового оружия, а потому на вооружении у них до сих находятся, к примеру, трехлинейки Мосина. После смерти владельца и они становятся собственностью государства. В результате, в полицейском участке Синьшэна в настоящее время хранится лишь чуть более десятка ружей, да и те вскоре, похоже, лишатся своих владельцев [6].
Надо признать, что хорошо прикормленные государством и быстро утерявшие навыки самостоятельной жизни орочоны и сами в наши дни не стремятся в тайгу. Те, кто все еще владеет оружием, объявлены властями национальным достоянием и превратились в подобие фотомоделей с национальным колоритом, которые неплохо зарабатывают, позируя с винтовками в руках или верхом на лошади для глянцевых журналов и снимаясь в художественных фильмах. Остальные же и вовсе не интересуются своей традиционной культурой и даже не хотят жить в построенных специально для них домах в национальном стиле. Они предпочитают сдавать землю в аренду нуждающимся китайским крестьянам из других регионов, живут праздной жизнью рантье и при первой возможности переезжают в города. Там же учатся и их дети, и это несмотря на то, что в том же Синьшэне построена хорошая национальная школа, где существует возможность обучения орочонскому языку. В этом смысле можно утверждать, что политика приручения орочонов оказалась весьма эффективной, а сочетание запретительных мер с программой государственной поддержки в очередной раз подтвердило незыблемость принципа «кнут и пряник»8.
Власти настаивают, что столь радикальные методы по искоренению национальной культуры были необходимы для того, чтобы спасти стремительно исчезающие леса региона, которые действительно сильно пострадали от бесконтрольных, поставленных на промышленную основу вырубок и истребления животного мира с помощью современного оружия. Решение о полном запрете охоты, безусловно, поддержали и экологические организации, при этом полностью проигнорировав тот факт, что до массированного нашествия городских жителей из других регионов страны и прибытия в эти края лесозаготовителей орочоны в течение столетий сохраняли естественный природный баланс и ситуация никогда не становилась критической [7, p. 52]. В результате же инициированного центральным правительством промышленного освоения и всех тех перекосов, что ему неизбежно сопутствуют, именно орочоны оказались главной пострадавшей стороной. Выиграв, в результате, в материальном плане, они лишились возможности вести традиционный образ жизни, а стало быть, лишились и огромного пласта своей культуры как основы национальной идентичности. Самое же страшное заключается в том, что они лишились также оружия и тайги, а значит, и шанса на восстановление когда-нибудь в будущем своей культурной самостоятельности. Единственная дорога, которая открывается теперь перед этим малочисленным народом, – это дорога к полной культурной ассимиляции и растворению в общей массе китайского народа.
История орочонов довольно печальна, но она характерна для большинства современных жителей китайского пограничья, а потому достаточно хорошо изучена [8]. Исследователи при этом неизбежно подчеркивают негативные последствия и для национальной культуры [9], и даже для физического здоровья орочонов [11], к которым привел полный или частичный запрет на охоту. Политический же аспект проблемы, который состоит в стремлении государства обезопасить свои приграничные и удаленные от центра территории от людей, имеющих оружие и способных жить за пределами контролируемых властями поселений, в публичном поле практически не обсуждается. В частных беседах, однако, об этом говорят довольно открыто, при этом орочоны полностью осознают истинную подоплеку данного решения (Полевые материалы автора9, далее – ПМА).
В свете вопроса о роли малых народов в реализации природоохранных мероприятий, который ставится в данной статье, хотелось бы особо подчеркнуть, что фактическое разоружение и последующее приведение в покорность лишившихся своей идентичности орочонов было проведено именно под прикрытием борьбы за сохранение природного разнообразия. Подобное обоснование позволило государству легко осуществить крайне непопулярные меры, заручившись широкой поддержкой общества и даже убедив самих орочонов в необходимости такого шага. Ирония при этом заключается в том, что пострадавшей стороной в предпринятой властями кампании по защите леса оказались не только коренные жители этих мест, которые потеряли, по-видимому, безвозвратно свою культуру. В числе пострадавших оказалась и сама природа, ведь на смену орочонам, любившим и понимавшим тайгу, а потому заботившимся о ее сохранности для следующих поколений, пришли богатые туристы и браконьеры из других районов страны, которые зачастую используют варварские, истребительные методы охоты. Когда-то орочоны могли покарать браконьера, и те их побаивались. Лишившиеся же оружия защитники леса сами сделались беззащитными.
В результате, преградив доступ в лес для прирожденных охотников и следопытов, власти открыли его для браконьеров, а огородив тайгу полицейскими кордонами от ее исконных хранителей, поддерживающих там порядок традиционными методами, превратили ее в угрюмую ничейную территорию, своеобразную серую зону, которая, как магнит, притягивает нечистоплотных людей, а зачастую и попросту криминальные элементы [6]. Лес, из которого выселили его законных хозяев, не превратился в результате в первобытный рай, а стал, скорее, похож на заколоченный и покинутый жильцами дом, который всегда становится убежищем для сомнительных личностей и ареной для сомнительных действий. И в этом смысле никакие заборы и пропускные пункты не способны теперь решить проблемы отчужденных от своих хранителей природных угодий. Парадоксально, но в то же самое время сами бывшие хозяева лесов живут в статусе иждивенцев в таких же чужих, бесплатных цементных ночлежках в национальном стиле, которые им, по сути, не принадлежат и которые не вызывают у них никаких положительных эмоций [8, p. 92].
Уч-Энмек: народный заповедник
Коренной алтаец Данил Мамыев хорошо известен и у себя в республике, и за ее пределами как человек, посвятивший свою жизнь сохранению ее уникальной природы. Геолог по профессии и основатель школы экологии души «Тенгри» по призванию, он являлся создателем и до самого недавнего времени директором природного парка Уч-Энмек, расположенного в Онгудайском районе республики Алтай, в долине реки Каракол10. До недавнего времени эта местность была, в основном, известна уникальными наскальными рисунками, подробно описанными новосибирским археологом Кубаревым в 1980-х гг. С тех пор фантастические образы, созданные древними художниками, не перестают будоражить умы ученых неординарностью своих мотивов, в которых многие обнаруживают чуть ли не инопланетное влияние.
Сам же Мамыев относится к находкам археологов без пиетета, ибо считает, что по-настоящему достойны восхищения не петроглифы, а курганы, которые также в изобилии встречаются в этих местах. Он уверен, что эти самые курганы являются ничем иным, как магнитами, способными улавливать сигналы, поступающие из-за пределов нашей галактики. Именно с помощью подобных магнитов сакральное знание попадает из Космоса на Землю, утверждает Данил (ПМА). Сам он при этом не просто верит в то, что на территории созданного им по собственной инициативе парка находится важнейший информационный канал планетарного масштаба и «пуп Земли». Он до недавнего времени предпринимал практические шаги для того, чтобы этот канал функционировал бесперебойно. История жизни этого целеустремленного алтайского активиста представляет собой яркий пример того, что человек может думать по-настоящему глобально, при этом действуя воистину локально.
Мамыев всегда активно сотрудничал как с правительством республики, так и с местными властями в Онгудае. При этом, несмотря на то, что его офис находился в здании районной администрации, его цели были весьма далеки о тех, что преследуют алтайские чиновники. В то время как основатель парка видел своей задачей предотвращение эксплуатации его территории в коммерческих целях и надеялся, что ему удастся снизить нагрузку на курганы Уч-Энме-ка, вызванную притоком туристов, местная администрация требовала, чтобы парк приносил доход. В поисках компромисса Мамыев, который чувствовал обязанность защитить святыни родной земли, но в то же время понимал и необходимость экономического развития региона, предлагал принять на вооружение стратегию контролируемого туризма. Согласно его предложению, только те гости Алтая, что были готовы и способны вести себя так, как это полагается делать в святых местах, допускались бы на территорию парка, причем обязательно в сопровождении местного гида. Эту задумку было не так-то просто реализовать на практике, ведь на более чем 60 тыс. квадратных километров площади парка приходится всего несколько постоянных служащих. Их возможности по недопущению на территорию «диких» туристов и тем более по их сопровождению, конечно же, серьезно ограничены.
Именно по этой причине своей наиважнейшей задачей директор природного парка всегда считал просвещение. Причем не только просвещение прибывающих на Алтай туристов из других регионов, с которыми Мамыев давно проводил разъяснительную работу по поводу того, каким должно быть поведение гостя на земле духов. Дело в том, что и с местными жителями ему также приходилось довольно много дискутировать, ведь они бесповоротно отрицают любой вида туризма, настаивая на том, что посещение Уч-Энмека должно быть полностью запрещено. Данилу приходилось убеждать своих земляков в том, что Алтай является достоянием всего человечества. «Алтай – это не собственность, Алтай – это ответственность; знание о Вселенной, которое здесь содержится, это и есть Бог, а Бог не принадлежит никому», – разъяснял им Ма-мыев. По этой причине, убеждал он жителей Каракольской долины, священной обязанностью жителей Алтая является не только забота о родной земле, но и забота о том, чтобы то особое знание, что именно здесь поступает на Землю, оказалось доступным всему человечеству. По инициативе директора Уч-Энмека в пяти школах долины, к примеру, проходил эксперимент по внедрению комплексного экологического образования, а для школьников республики Мамы-евым в соавторстве с учеными и педагогами был написан учебник по экологии [2]. Он верил, что именно таким образом ему удастся приобрести настоящих соратников на родной земле, ведь без поддержки земляков никакие его проекты не могли быть по-настоящему успешными.
Принимая во внимание воистину глобальный подход Мамыева, не выглядит удивительным то, что он сотрудничал и с экологическими активистами из других стран и регионов Рос-сии11. Подобная активность дает Данилу выход на более широкую аудиторию и служит эффективным инструментом, позволяющим реализовать главную миссию Алтая, заключающуюся, как было уже сказано, в том, чтобы предоставить доступ к полученному здесь знанию как можно большему количеству людей во всем мире. Есть и еще один, довольно прагматический вопрос, решению которого способствовала довольно успешная до недавнего времени международная деятельность директора природного парка Уч-Энмек. Дело в том, что он надеется на то, что когда-нибудь святым местам будет придан особый статус, который позволит взять их под защиту закона, а для этого проблема их сохранения должна стать частью широкого общественного дискурса. В то же самое время Мамыев старается по мере возможности дистанцироваться от международного экологического движения, ибо считает, что по своей природе оно эгоистично и движимо скорее инстинктом самосохранения, чем искренней заботой о природе (ПМА). Он же полагает, что любая природоохранная деятельность должна быть продиктована моральными, а не экономическими или политическими соображениями, и на смену вульгарному утилитаризму в экологическом движении должны прийти сострадание и эстетические ценности.
На Алтае вообще считают, что экология – это не только и не столько забота о сохранении и подержании жизни на нашей планете, но и в не меньшей степени забота о сохранении и поддержании порядка во всей Вселенной. Подобное «космическое» измерение экологии может, на первый взгляд, показаться непривычным и в чем-то сложным для восприятия, но оно, безусловно, имеет право на существование.
Малые народы, природа и государство: в поисках взаимодействия
Если сравнивать цели и методы, использовавшиеся в ходе осуществления природоохранной деятельности в Синьшэне и в Уч-Энмеке, а также принять во внимание национальный состав основных действующих лиц данного процесса в том и другом случае, выбор антрополога в пользу последней модели будет очевидным. Защита родной земли от неподобающего поведения со стороны приезжих, в ходе которой основной акцент делается на просветительской работе, инициированная местными активистами на Алтае, разительно отличается от политики жестких запретов и отчуждения коренных малочисленных народов страны от традицион- ной среды их обитания, которые характеризуют подход властей в Китае. В первом случае антропологу к тому же будут импонировать и отсутствие претензий со стороны коренных алтайцев на обладание сакральными землями, и их желание сохранить историко-природный ландшафт в неприкосновенности без полной его изоляции от людей, и философское понимание ими природы как сложного, многогранного механизма, важной составной частью которого является сам человек. Всего это представителям китайского государства и экологам КНР, выбравшим путь противопоставления человека и его природного окружения, безусловно, не достает.
Что интересно, лишенный предубеждений «практический» эколог также должен встать на сторону Данила Мамыева по той причине, что в данном случае природа берется под охрану теми, кто имеет к ней самое непосредственное отношение, чувствует ее и понимает лучше других. Немаловажно и то, что эти люди обладают сильной мотивацией защищать неприкосновенность окружающей их среды. Местные жители, как правило, движимы не ожиданием солидного вознаграждения и не иллюзорным желанием сделать «что-нибудь хорошее», что иногда отличает, соответственно, руководителей НКО и простых волонтеров, работающих в этих организациях. В случае, когда на защиту той или иной природной территории встают представители малых народов, непосредственно проживающих на данной территории, их мотивация состоит в том, чтобы сберечь родной дом от разрушения и поругания, а это, возможно, самая сильная из всех возможных мотиваций. Немаловажно и то, что, к примеру, в случае с Уч-Энмеком сама природа является для местных жителей объектом поклонения, а не манипуляций, а это гарантирует одушевленность подходов и невозможность проведения ими мероприятий «для галочки».
Единственной стороной, которая, по всей вероятности, предпочтет вариант, реализованный в Китае, будут представители государства и надзорных органов. Не только и не столько потому, что в этом случае им принадлежит монополия на принятие решений и эксклюзивное право контроля над их исполнением, но и потому, что они искренне уверены в неспособности малых народов самостоятельно защитить свой дом от разрушения и посягательств. Именно подобное, снисходительное отношение со стороны государства к коренным обитателям периферийных регионов как к «детям природы» препятству- ет передаче инициативы в экологической деятельности напрямую в их руки. Возникающее в результате отчуждение человека от природы в этом случае мало заботит представителей властей и «городских» экологов, ведь сами они при этом не являются и не чувствуют себя такими же «детьми природы». Для них она не «родная мать», а лишь объект опеки или научного исследования, проявить заботу о котором требует их профессиональный или гражданский долг. Плохо это или хорошо, вопрос дискуссионный, однако необходимость полноценного вовлечения представителей коренного населения в дело охраны природы и чуткий учет их интересов специального доказательства, как представляется, не требует. Как показывает ситуация, сложившаяся после запрета охоты на территориях, населенных орочонами, это будет лучше и для представителей малых народов, и для их природного окружения, а в конечном итоге, и для самого государства.
Список литературы Малые народы в контексте природоохранной деятельности: защищающие или защищающиеся?
- Папа Римский Франциск. Энциклика о заботе об общем доме. Москва: Изд-во Францисканцев, 2015.
- Экология и культура: учеб. пособие для 10-11 кл. / Под ред. И.А. Жерносенко. Горно-Алтайск, Барнаул, 2009.
- Этно-природный парк Уч-Энмек: брошюра. Онгудай, 2011.
- Kareiva, P., Lalasz, R. and Marvier, M., 2012. Conservation in the Anthropocene: beyond solitude and fragility. Breakthrough Journal, no. 2, pp. 29-37.
- Moffa, A., 2016. Traditional ecological rulemaking. Stanford Environmental Law Journal, Vol. 35, no. 2, pp. 101-155.