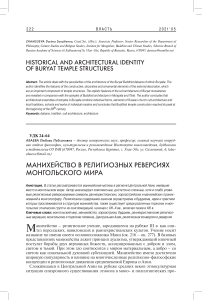Манихейство в религиозных реверсиях монгольского мира
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Религия и общество
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются манихейские мотивы в регионе Центральной Азии, имевшие место в монгольском мире. Автор анализирует комплексные, достаточно сложные, хотя и слабо уловимые религиозные реверсируемые символы раннехристианских, зороастрийских и манихейских проникновений в монголосферу. Религиозное содержание канонов зороастризма и буддизма, идеи и практики которых прослеживаются в структуре манихейства, также существует среди различных тюркских и монгольских этнических групп и их конгломераций, начиная с VIII-X вв., включая также и XIII в.
Монгольский мир, манихейство, зороастризм, буддизм, раннехристианские религиозные вариации, монгольские и тюркские племена, центральная азия, религиозная конверсия и реверсия
Короткий адрес: https://sciup.org/170191549
IDR: 170191549 | УДК: 24-64 | DOI: 10.31171/vlast.v29i5.8561
Текст научной статьи Манихейство в религиозных реверсиях монгольского мира
М анихейство – религиозное учение, зародившееся на рубеже III в. как синтез персидских, вавилонских и раннехристианских культов. Учение носит название по имени своего основоположника Мани (ок. 216 – ок. 277). В базовых представлениях манихейства лежит принцип дуализма, утверждающий извечный постулат борьбы двух верховных божеств, ассоциированных с добром и злом, светом и тьмой. При этом зло соотносится с миром материальным, а добро – со светом как изначальной духовной субстанцией. Манихейство имело достаточно широкую популярность и влияние на многочисленные религиозно-философские концепции и религиозные движения средневековой Европы и Азии.
Сложившаяся в Центральной Азии на рубеже средних веков этнокультурная ситуация синхронного существования этносов в моно- и полиэтнических про- странствах, а также в результате торговых взаимоотношений (Великий шелковый путь) и миссионерской активности вдоль этого Пути обусловила уникальность процессов адаптации в монгольском мире различных инновационных религиозных конверсий, а впоследствии – реверсий, возникавших в процессе интер- и кросс-культурных контактов с сопредельными социумами [Абаева 2013: 146-147].
Известный теоретик культуры М.С. Каган выявил, что «в средневековой культуре в Европе явственно различаются, по крайней мере, четыре культурных слоя (субкультуры): 1) крестьянский, фольклорный, во многом сохраняющий традиции языческой культуры первобытности; 2) религиозная субкультура, живущая в храмах, монастырях и, в частности, жизни людей этого времени; 3) субкультура светская, рыцарская и придворно-аристократическая, политизированная, эти- зированная и эстетизированная в совсем ином духе, чем культура религиозноспиритуалистическая, аскетическая, антигедонистическая; 4) бюргерская культура формирующегося города, культура ремесленников, торговцев, представителей нарождающейся интеллигенции» [Каган 1996: 49]. Ассимиляция и поглощение малых этносов более крупными этносами, интеграция многих этнокультурных традиций под эгидой титульного этноса (имеется в виду Великая монгольская империя – Их Монгол Улс), возможно, также способствовали более гибкому восприятию субъектами Центральной Азии некоторых уникальных инокультурных феноменов, особенно религиозных, представлявшихся им более «полезными» с практической точки зрения на определенном хронологическом срезе их этнической истории [Абаева 2021: 159-161].
Тема раскрытия специфики внедрения конверсионных и реверсивных символов различных религиозных систем в структуру кочевого общества и человека внутри этого общества представляется нам особо актуальной. Изучение феноменов религиозной культуры разных исторических эпох и разных этнических традиций способствует не только выявлению внешних признаков как индикаторов этничности, но и осмыслению некоторой сущностной специфики этнокультурной общности, которая отличает ее от других этнических социумов.
Манихейство считало эволюцию природы, которая должна завершиться окончательным поглощением Тьмы Светом, частью духовного развития человека, цель которого заключается в освобождении себя от Зла. Ответ на вопрос о причинах существования Зла в мире вместе с откровением, указывающим техники победы над злом, являются важнейшими элементами учения Мани. Что касается получаемого человеком откровения о его собственной истинной природе и его роли в судьбах мироздания, то здесь Мани признавал заслуги религиозных учителей – Будды, Зороастра и, прежде всего, Иисуса Христа. Иисус в манихействе выступает в качестве вестника Света, но в процессе окончательной победы Света его превосходит только сам Мани – последний из великих пророков, именовавший себя «апостолом Иисуса» [Кефалайа 1998: 119-138; Смагина 2011: 204-310; Хосроев 2007: 9-108]. Манихейство усвоило многие организационные черты, общие для целого ряда религиозных течений Европы, Азии и Ближнего Востока. Адепты делились на категории слушателей и избранников. Избранники вели суровую аскетическую жизнь, поскольку считалось, что многословие и излишество в еде, как и вообще мирские дела и желания, идут от злых сил. Поначалу Свет и Мрак существовали отдельно, не соприкасаясь и не смешиваясь: граница между ними была непреодолима. Манихейская картина мира начинается с момента, когда Материя – активное начало Мрака – позавидовала красоте Света и пожелала захватить его. Открылись пять стихий Мрака, они же пять миров плоти, из них излились пять стихий Мрака: дым, огонь, ветер, вода и тьма. Материя воплотилась в плоды пяти видов деревьев и дала им созреть. Страна же Света есть обитель покоя, характеризуемого как единство, гармония и согласие. Свет полностью благо- стен – он не знает никакого зла, полностью духовен, нематериален. Все творения Света бессмертны и совершенны по красоте [Смагина 2011: 125-126].
Активное начало и персонификация Мрака – Материя, она же Грех и помысел Смерти. Порождения Мрака распределены по пяти жилищам, порождающим пять темных стихий и миры Сухого (жар и огонь) и Влажного (холод и наслаждение). Мрак полностью бездуховен, лишен благости и гармонии, его творения безобразны. Мрак беспокоен и агрессивен, его силы извечно заняты борьбой друг с другом. В мифологическом пространстве Свет и Мрак расположены вертикально один относительно другого. Свет пребывает «в высоте», Мрак – в самой нижней части вселенной – «бездне».
Учение Мани было основано на представлениях христианского гностицизма, опиравшихся на специфическую интерпретацию Библии, и все же в результате своей эволюции оно впитало значительные заимствования других религий – зороастризма и буддизма. Мани создал цельную религиозную систему, которую представил в форме сложного драматического мифа, главные сюжеты которого – творение мира и человека, судьба человека в мире и пути его спасения. Поскольку от собственных сочинений Мани остались лишь незначительные отрывки, при реконструкции манихейской доктрины не всегда можно отделить наследие основателя от продукта творчества его последователей.
В VII–VIII вв. манихейство проникает в Китай. В 762 г. в манихейство обратился Бегю-каган – глава Уйгурского государственного объединения. В качестве официальной религии оно просуществовало до разгрома каганата в 840 г., но впоследствии сохранилось в уйгурском Гаочанском государстве [Желобов 2012: 9-11]. Оно довольно широко проникло на территорию Южной Сибири, где просуществовало вплоть до монгольского нашествия. Уже с IX в. начинается преследование манихейства в Китае. Тем не менее манихейские общины зафиксированы на территории Туркестана и Китая вплоть до XIV в. При этом манихейство в контексте буддийской общины сохранялось в Южном Китае до начала XVII в. [Желобов 2012: 9-11].
Кочевым уйгурам и тюркам, видимо, импонировала манихейская доктрина борьбы и победы сил света над силами тьмы, в качестве олицетворения которых все же являлись буддийские идеи. Бегю-каган во время военных действий в Китае приказывал уничтожать буддийские монастыри и храмы, гонения были перенесены и на его собственную территорию [Васильев 1983: 96, 103]. Однако, на наш взгляд, конверсия манихейства уйгурами была в значительной степени насильственной акцией. Новое учение распространилось среди знати, большинство простолюдинов оставались буддистами и шаманистами. Принятие манихейства вызывало и вооруженное сопротивление: в 780 г. Бегю-каган был убит из-за слишком резких мер по внедрению новой религии, его преемник формально обратился в несторианство [Абаева 2013: 149; Абаева 2021: 159].
После того как в 840 г. Уйгурский каганат был разгромлен киргизами, уйгуры начали массовое переселение с территории Монголии в оазисы восточной части Таримской впадины. В 866 г. уйгурский хан Буку Чин захватил Турфанский оазис и район Бешбалыка, выбив оттуда тибетский гарнизон, и основал новую династию, сохранив при этом манихейство в качестве государственной религии. Манихейство кочевых уйгуров было воинственным и первоначально активно противостояло буддизму, адептами которого являлось большинство жителей оазисов Таримской впадины. Постепенно, однако, манихейство, вобравшее множество буддийских элементов, стало сближаться с этой религией, выражаясь в идентичных культурных и социальных формах. В 960-х гг. Гаочанн-Уйгурское государство посылало посольства в Китай с буд- дийскими реликвиями, китайские путешественники также описывали расцвет буддизма в манихейском государстве в 980-е гг. [Желобов 2012: 7].
Четыре археологические экспедиции Берлинского этнографического музея в Турфанский оазис в период 1902–1916 гг. обнаружили многочисленные фрагменты рукописей на персидском, парфянском, согдийском, уйгурском и китайском языках, зафиксировав манихейские сочинения, в т.ч. собственные труды Мани, отстоящие от времени жизни основателя доктрины на 400 лет. Турфанские рукописи дают наиболее широкий круг оригинальных источников для исследования манихейства. Многие манихейские рукописи были обнаружены в Дуньхуане [Смагина 2011: 304]. В уйгурских манихейских документах Мани часто стал отождествляться с Майтрейей – Буддой грядущего. Манихейские монастыри практически копировали иерархическую структуру и экономическую политику буддистов. Манихейское жречество постепенно влилось в общую систему классической феодальной иерархии, где высшие священнослужители имели множество разнообразных привилегий. Однако ранняя манихейская система духовного самосовершенствования через аскезу присутствовала и здесь: в некоторых храмах, например, чтобы получить привилегированный статус священнослужителя более высокого ранга, надо было пройти через телесные истязания.
После разгрома Уйгурского каганата киргизами манихейство распространилось на север – до Хакасско-Минусинской котловины. Археологические раскопки в долине Уйбата (Уйбатское городище) выявили манихейский центр, включавший 6 храмов и 5 святилищ стихий, причем архитектурно, по мнению Л.Р. Кызласова, он был «подобен согдийским сооружениям» в Тыве и Синьцзяне КНР [Кызласов 2003: 249]. Недалеко от Уйбатского центра в долине Пююр-сух в 1970-х гг. был раскопан манихейский храм, существовавший в VIII–X вв. Эти находки Л.Р. Кызласов интерпретировал как свидетельство принятия манихейства в качестве официальной религии и в Киргизском каганате [Кызласов 2003: 249]. Немногие хакасские манихейские эпитафии также подтверждают эту версию. По версии Л.Р. Кызласова, манихейское письмо также оказало влияние на знаменитую енисейскую руническую письменность на позднем этапе ее развития. Манихейство в южной Сибири просуществовало вплоть до монгольского пришествия. В дальнейшем оно повлияло на становление культуры саяно-алтайских тюрков – алтайцев, хакасов, тувинцев, а также на хантов, селькупов, кетов и эвенков. Это влияние также прослеживалось и в бытовых верованиях автохтонных (алтайских) этносов Сибири и в лексическом составе их языков [Кызласов 2006: 139-141].
Манихейство на протяжении ряда веков сохраняло достаточно большое число приверженцев своей теории и практики в монгольском мире, даже при широком распространении ислама и правлении мусульманских лидеров. Так называемые гонения на адептов Мани начались в XIII в.
Реликты манихейства, на наш взгляд, присутствуют среди автохтонных этносов Саяно-Алтая (особенно алтайских) в структуре малоисследованного религиозного феномена, именуемого бурханизмом, так и не ставшим популярным вероучением этносов Саяно-Алтая. При этом мировые религии, втянутые в локальные и региональные конверсионные и реверсивные процессы, получили успешное распространение в монгольском мире скорее всего, на наш взгляд, в силу социальных процессов, проникших в их этническую культуру под давлением племенных и родовых лидеров. Возможно, что в результате этих процессов создалась уникальная религиозная культура, где основной категорией являлась все же их традиционная и адаптивная религиозная культура – буддийская. В результате религиозной конверсии этнические культуры этносов – насельников конкретного региона, естественно, в какой-то степени меняли свою этнокультурную компетентность в целом и, конечно, конфессиональные ориентиры в частности. Небезынтересно отметить, что все эти процессы конверсии (а позже – и реверсии) религиозных культур происходили в русле собственно этнических процессов того или иного этноса, и в целом носили плавный эволюционный характер в соответствии с социально-экономическими и политическими условиями меняющегося мира.
Статья подготовлена в рамках государственного задания «Трансформация направлений и школ буддизма: история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями России, Центральной и Восточной Азии (с периода распространения буддизма до современности: Россия – ХVIII–XXI вв.; Китай – II–XXI вв.; Тибет – VII–XXI вв.; Монголия – ХVI–XXI вв.)», № 121031000261-9.
Список литературы Манихейство в религиозных реверсиях монгольского мира
- Абаева Л.Л. 2013. Несторианские раннехристианские религиозные традиции в этнокультурной истории народов Центральной Азии. - Вестник БГУ. Сер. Философия. Социология. Политология. Культурология. № 6. С. 146-149.
- Абаева Л.Л. 2021. Христианские вариации и мотивы в монгольском мире: феномен религиозной конверсии. - Власть. Т. 29. № 3. С. 158-163.
- Васильев Л.С. 1983. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). М.: Высшая школа. 366 с.
- Желобов Д.Е. 2012. "Три религии" гаочанских уйгуров (IX-XII вв.). - Научный диалог. № 9. С. 6-16.
- Каган М.С. 1996. Философия культуры. СПб: Петрополис. 415 с.
- Кефалайа ("Главы"): коптский манихейский трактат (пер. с коптского, иссл., комм. Е.Б. Смагиной). М.: Восточная литература. 512 с.
- Кызласов Л.Р. 2003. Манихейское мировоззрение и раннесредневековые археологические памятники. - Степи Евразии в древности и средневековье. К 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. Кн. II. СПб. С. 249-250.
- Кызласов Л.Р. 2006. Символ креста у манихеев и сакральное пространство города Суяба на реке Чу. - Вестник Московского университета. Сер. 8. История. № 2. С. 138-150.
- Смагина Е.Б. 2011. Манихейство: по ранним источникам. М.: Восточная литература. 519 с.
- Хосроев А.Л. 2007. История манихейства (Prolegomena). СПб: Изд-во СПбГу. 480 с.