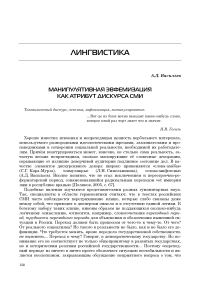Манипулятивная эвфемизация как атрибут дискурса СМИ
Автор: Васильев Александр Дмитриевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 1 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Один из феноменов российского телевизионного дискурса - эвфемизация. Использование эвфемизмов определённых тематических групп имеет декоративно-маскировочный характер, что позволяет манипулировать общественным мнением.
Телевизионный дискурс, лексика, эвфемизация, манипулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/144153008
IDR: 144153008
Текст научной статьи Манипулятивная эвфемизация как атрибут дискурса СМИ
Телевизионный дискурс, лексика, эвфемизация, манипулирование.
…Вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чорт знает что и значит.
Н.В. Гоголь
Хорошо известна исконная и непреходящая ценность вербального материала, используемого разнородными идеологическими жрецами, заклинателями и проповедниками в сотворении социальной реальности, необходимой их работодателям. Причём конструироваться может, конечно, не столько сама реальность, зачастую весьма неприглядная, сколько маскирующие её словесные декорации, скрывающие от излишне доверчивой аудитории подлинное состояние дел. В качестве элементов дискурсивного декора широко применяются «слова-амёбы» (С.Г. Кара-Мурза), «симулякры» (Л.Н. Синельникова), «слова-мифогены» (А.Д. Васильев). Вполне понятно, что не стал исключением и перестроечно-реформаторский период, ознаменовавшийся радикальным переходом «от империи лжи к республике вранья» [Поляков, 2005, с. 67].
Подобные явления изучаются представителями разных гуманитарных наук. Так, специалисты в области герменевтики считают, что в текстах российских СМИ часто наблюдается перетряхивание клише, которые слабо связаны даже между собой, что приводит к дисперсии смысла и к отсутствию единой логики. К богатому набору таких клише, никоим образом не поддающихся сколько-нибудь логичному осмыслению, «относятся, например, словосочетания переходный период, трудности переходного периода для объяснения и обозначения нынешней ситуации в России. Переход должен быть процессом от чего-то к чему-то. От чего? От реального социализма? Но такого в реальности не было, как и не было его дефиниции. Что требуется менять, кроме передела государственной собственности, не выяснено… Переход к чему? Говорят, к демократическому государству. Но понимание его не соответствует не только общепринятому в развитых государствах, но и историческим реалиям российской государственности… Поэтому «переходный период» из ничего в ничто просто обозначает ситуацию нестабильности и является неологизмом, закрывающим обсуждение неприятного вопроса о том, что же происходит» [Артамонова, Кузнецов, 2003, с. 45] (то есть на практике заранее максимально устраняет саму возможность понимания обществом сути событий, их вектора и наиболее вероятных результатов).
Такие маскировочные штампы, предназначенные для порождения мифов и, соответственно, глубоко мифологизированного общественного сознания, могут быть рассмотрены и в несколько ином аспекте. Одним из видов парадигматических отношений, существующих в лексико-семантической системе языка, является синонимия – «совпадение по основному значению (обычно при сохранении различий в оттенках и стилистической характеристике) слов…» [Ахманова, 1966, с. 407]; «синонимы – слова, обозначающие одно и то же явление действительности. Однако, называя одно и то же, синонимы обычно называют это одно и то же по-разному – или выделяя в называемой вещи различные её стороны, или характеризуя эту вещь с различных точек зрения. Именно поэтому синонимы… как правило, не являются словами, абсолютно идентичными друг другу…» [Шанский, 1972, с. 52].
Но нередко «возможность отнесения разных слов к одному явлению определяется не их собственной равнозначностью или смысловой близостью, а различным отношением или оценкой данного явления» [Шмелёв, 2003, с. 143]. С этим во многом связан феномен эвфемизации – непрямого, прикрытого, вежливого, смягчающего обозначения (см. [Ахманова, 1966, с. 521]). Эвфемизация как один из компонентов культуры речи может сделать её и гиперкорректной – в соответствии с представлениями носителей языка об идеальных формах выражения, выступающих в роли важных социальных маркеров-стереотипов. Ср. классические примеры: «… Дамы города N отличались, подобно дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: “я высморкалась”, “я вспотела”, “я плюнула”, а говорили: “я облегчила себе нос”, “я обошлась посредством носового платка”. Ни в каком случае нельзя было сказать: “этот стакан или эта тарелка воняет”. И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намёк на это, а говорили вместо того: “этот стакан нехорошо ведёт себя”» [Гоголь, 1956, с. 150]. – «…Вместо гигантов, сгибавших подковы и ломавших целковые, явились люди женоподобные, у которых на уме были только милые непристойности. Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось “ездою на остров любви”; грубая терминология анатомии заменилась более утончённою; появились выражения вроде: “шаловливый мизантроп”, “милая отшельница” и т. п.» [Салтыков-Щедрин, 1953, с. 152].
Эвфемизация – одна из распространённых разновидностей игры в слова, активно применяемая в том числе и в текстах СМИ. Приведём здесь лишь несколько наиболее частотных примеров эвфемизмов в контекстах, позволяющих объяснить причины эвфемизации. На протяжении реформаторского (переходного) периода широко употребительной стала эвфемизация, тематически обслуживающая сферу трудоустройства. Неслучайна уже сама замена субстантивированного безработный на неработающий: по всей видимости, предполагается, что внутренние формы каждого из этих слов воспринимаются по-разному; ср. «безработный – лишённый возможности получить работу, заработок» [МАС2, 1981, т. 1, с. 75] – и неработающий - см. «работать - 1) заниматься каким-либо делом, применяя свой труд; трудиться; 2) трудясь, создавать, совершенствовать или изучать что-либо; 3) заниматься каким-либо трудом, обеспечивая или обслуживая кого-, что-либо» [МАС2,1983, т. 3, с. 575]; соответственно если безработный лишён кем-то или в силу каких-то обстоятельств возможности трудиться, то неработающий, скорее всего, сам избрал себе такой статус: не работает, потому что не хочет. Потому и безработица - это всего лишь безмятежно-сладостный «период профессиональной невостребованности» (7 канал. 14.06.01), а потому концептуально отождествляется с долгожданным обретением свободы, которая была бы невозможна при бесчеловечном тоталитаризме, почему-то определявшем индивидуумов, не желавших трудиться, как тунеядцев, да ещё и наказывавшем таких свободолюбивых граждан, деспотично принуждая их к общественно полезному труду. Слово неработающий ранее применялось, кажется, исключительно по отношению к предметам неодушевлённым: неработающий станок, неработающий утюг и т. п.
Зато теперь наступило время иных аксиологических установок: «У нас порядка пятьсот человек высвобождается » (гл. инженер шахты «Амурская». — «Время». ОРТ. 21.04.00). «Массовое высвобождение четырёх с половиной тысяч человек (вследствие расформирования ракетной части)» («ИКС». КГТРК. 11.12.01). « Высвобождается первая очередь сокращаемых в угольной отрасли края–597 человек» (Новости. Афонтово. 04.02.03). «У нас в Сосновоборске нет мест, которые могли бы принять высвобождающихся работников завода (мэр – об увольнении почти половины рабочих завода автоприцепов, единственного крупного предприятия в этом городе. – Новости. ТВК. 15.05.02). «В Законодательном собрании пройдут публичные слушания о неотложных мерах по массовому высвобождению рабочих. В ближайшее время потеряют работу несколько тысяч человек. Такое массовое высвобождение грозит социальным взрывом» (Новости. ТВК. 14.02.03). «Не секрет (!), что в преддверии зимы сложилась непростая обстановка в снабжении северян топливом» (т. е. из-за отсутствия топлива в условиях Крайнего Севера могут вымерзнуть целые города и районы. – «Вести». 09.11.98). «Север (из-за срыва завоза продуктов) может ощутить огромные проблемы с продовольствием » (иначе говоря, становится реальной угроза голода. – «Вести». РТР. 02.08.96). «Вова – один из 700000 российских социальных сирот — так называют сирот при живых родителях» («Студия-2». КГТРК. 05.10.02). «Центр “Родник”: здесь есть социальная гостиница — дом ночного пребывания для не имеющих жилья. По словам директора пансионата , количество постояльцев растёт» («Обозрение-7». 7 канал. 05.10.02) (в досоветские времена подобное заведение называлось ночлежкой ). «С самого начала, по официальной версии, армия там (в Чечне) не воевала , а восстанавливала конституционный порядок » («Обозрение-7». 7 канал. 25.06.02). «Журналисты утверждают, что министр обороны (США) Рамсфельд лично одобрил 16 нетрадиционных методов ведения допроса (в военной тюрьме Гуантанамо)... ГУЛАГ на Кубе…» («24». RenTV. 14.06.05) (имеется в виду разрешение пытать пленных). «Альтернативные источники тепла — печки-“буржуйки” в домах жителей дальневосточного Углегорска» (Новости. ОРТ. 07.07.03). «Рабочим (более тысячи человек, уволенным эффективными собственниками угольного разреза “по сокращению”) выделено 20 миллионов рублей на трудоустройство. Эти деньги красиво называются стабилизационным фондом » («Обозрение-7». 7 канал. 14.02.03). «Министр иностранных дел Сергей Лавров говорит о трансформации НАТО» (Новости. ОРТ. 02.04.04) (т. е. приближение НАТО вплотную к границам России). « Социально неадаптированные граждане » (Б. Горный, пресс-секретарь санэпидстанции. Новости. Прима-ТВ. 18.08.03) (т. е. неимущие без определённого места жительства). « Социально направленный ресторан: цена комплексного обеда – 60 рублей» («Детали». Прима ТВ. 06.05.05) (иначе говоря – для бедных). «Рядом со зданием Центрального рынка планируется построить социальный рынок , где будут торговать красноярские огородники» (Радио «Шансон». 20.01.06) (преиму- 152
щественно бедствующие пожилые пенсионеры). Тем не менее следует воздать должное власти в лице чиновников разных уровней, проявляющих неподдельную озабоченность положением населения и радеющих о нём: «Мы решили сделать учителям подарок к Новому году – выплатить зарплату» (зам. главы краевой администрации. – «ИКС». КГТРК. 17.11.98). «Этот подарок красноярцам сделал наш земляк, министр МПС Геннадий Фадеев: новый электропоезд до Боготола. …Би-лет будет стоить не более 110 рублей» (Новости. Прима ТВ. 28.03.03). «Новая жизнь в Емельяновской больнице стала возможной только благодаря властям района» («Вести-Красноярск». 28.03.05). «Дети посёлка Громадск Уярского района получили подарок с губернаторским размахом – новую школу. …Строительство школы возобновилось по инициативе губернатора» («Вести-Красноярск». 01.09.08). « Помощь льготникам станет особо адресной : льготы сохраняются только для тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума» («Вести». РТР. 01.02.99).
Следует заметить, что лексические значения некоторых ключевых слов изменились за сравнительно короткий период либо обросли созначениями и обогатились коннотациями. Так, ср. соответственно в «Словаре русского языка. В 4 т.» под ред. А.П. Евгеньевой (1981–1984) и в «Толковом словаре современного русского языка» под ред. Г.Н. Скляревской (2001): « перестройка — действие по знач. глаг. перестроить-перестраивать и перестроиться-перестраиваться ( перестроить — 1) построить заново, иначе, произвести переделку в постройке; 2) переделать, внеся изменения в систему чего-л., порядок следования чего-л. и т. п.; перестроиться - 1) построиться, расположиться в строю заново, иначе; 2) изменить порядок своей работы, направление своей деятельности, свои взгляды)» — и: перестройка - «осуществлявшиеся в СССР в 1985—1991 годах реформы и преобразования в области экономики, общественной и государственной жизни, направленные на развитие демократии, гласности, на выход страны в мировое сообщество»; « реформа — 1) преобразование, изменение чего-л.; 2) политическое преобразование, не затрагивающее основ существующего государственного строя» — и: « реформа – преобразование, изменение, переустройство какой-л. стороны общественной жизни»; здесь же отсылка к статье слова антиреформатор - «тот, кто выступает против реформ, препятствует их осуществлению» (вероятно, по степени инвектив-ности — некий современный аналог врага народа ).
Прежде оценочно-нейтральное существительное реформа за последние годы обогатилось устойчивым негативно-коннотативным ореолом. По признанию одного из региональных политиков-реформаторов, «слово реформа жителей нашей страны уже просто пугает» (депутат Законодательного собрания Красноярского края А. Клешко. – «После новостей». ТВК. 09. 03.04) (кстати, этот же деятель в общем-то справедливо отметил, что «слово депутат в нашей стране стало ругательным» («Будни». ТВК. 23.01.03), правда, почему-то не объяснив достаточно внятно истоки пейоративности этой, казалось бы, нейтральной лексемы). А ведь, по компетентному мнению другого регионального политика и депутата, «в с е реформы в России сопровождаются ростом тарифов» (В. Сергиенко, председатель Краевого союза промышленников и предпринимателей. – «ИКС». КГТРК. 25.06.02). Прозорливо прогнозируя естественную реакцию граждан, чиновники «на совещании... предложили назвать реформу (жилищно-коммунального хозяйства) преобразованием, чтобы не раздражать население» («ИКС». КГТРК. 14.05.01), но – безуспешно: лингвистический фокус не удался. Поэтому-то «красноярцы шли выразить свой протест так называемой реформе ЖКХ» (Новости. ТВК. 04.03.02), а вдруг ставшие ну просто очень человеколюбивыми чиновники стали напряженно думать, «как защитить ветеранов и инвалидов от реформы ЖКХ» (Новости. Афон-тово. 23.01.03) (между прочим, и смена названия соответствующего ведомства – вместо советского социальное обеспечение сегодняшнее социальная защита - тоже кое-что объясняет).
Вполне закономерно, что для сохранения беззаветной толерантности населения непрестанно изобретаются и вводятся в широкий пропагандистский оборот через СМИ всё новые эвфемизмы к словам реформа и реформировать . Ср.: «В Пенсионном фонде стараются не употреблять слово реформа и говорят о совершенствовании пенсионной системы» (Новости. ОРТ. 01.01.02). «…Почему это и не реформа называется, а модернизация » (чиновник миниобра РФ – о введении т. н. «профильного образования». – «Обозрение-7». 7 канал. 28.10.02). « Урегулировать тарифы жилищно-коммунального хозяйства» («Вести-Красноярск». 14. 10. 02). «Центральный аппарат (министерства обороны) будет не столько реформирован , сколько видоизменен ». Министр обороны РФ С. Иванов: «Не столько реформа , сколько оптимизация » («Доброе утро», Россия. РТР. 21.04.04). «Сергей Иванов боится одного – реформы . Это слово заменено словом модернизация » («24». RenTV. 08.02.07). «Не реформа жилищного законодательства, а упорядочивание » («Вести». РТР. 01.02.05). «Люди плохо воспринимают слово реформа – в результате плохих реформ здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования… Поэтому, может быть, более уместно использовать не слово реформа , а, например, “ изменение к лучшему ”» (А. Жуков, вице-премьер. - Новости. ОРТ. 06.04.05) и т. п. Небезынтересно, что и реформаторы русского правописания также использовали подобный псевдоэвфемистический прием: «…На самом деле то, что подготовлено нами, – это отнюдь не реформа » [Лопатин, 2001, с. 55].
Однако многие носители русского языка, хорошо усвоившие малорадостный опыт собственного существования в перестроечно-реформаторский (тот самый «переходный») период, научились довольно быстро распознавать сущность и цели подобных политкорректных словесных фокусов, ср.: «Почему всюду говорят, что это “ реформа ЖКХ”, а на самом деле – поднятие тарифов?!» (вопрос телезрителя. – ТВК. 04.03.03).
Ранее эвфемистические обозначения перманентных экспериментов над населением (и, кстати, всегда с приблизительно одинаковыми результатами) варьировались и при назывании некоторых их частных воплощений, например: «Не надо называть работу с сельхозпредприятиями банкротством : выздоровление – да, оживление – да… Слово это ( банкротство ) обидное и далеко не всегда уместное» [«Крестьянские ведомости». ОРТ. 19.04.98]. «Самарские чиновники вместо “ задержка пенсий” предпочитают говорить “ смещение сроков выплаты пенсий”» [«Время». ОРТ. 03.04.98] и т. п. Но поскольку от изобретения политкорректных словесных знаков суть называемых ими явлений не меняется, а толерантность граждан повышается почему-то медленно, политтехнологам приходится продолжать исследования синонимических рядов русского языка, попутно обогащая их ресурсы.
Одной из относительно свежих находок стало введение в политкорректный официозно-речевой оборот слова оптимизация (кстати, оно регистрируется не всеми толковыми словарями). Вероятно, предпочтение ему отдаётся из-за скрытой, как и у других заимствований, внутренней формы – может быть, по той же причине многим российским руководителям и их обслуге так полюбилось прилагательное амбициозный, употребляемое ими как положительно оценочное (вроде «амбициозные проекты» – нечто вроде грандиозные) безо всяких на то причин (ср.: «амбициозный – прил. к амбиция – чрезмерное самомнение, самолюбие, не- обоснованные претензии на что-л.» [Толковый словарь, 2001, с. 18–19]). Ср.: «амбиция (фр. Ambition < лат. ambitio) – обострённое самолюбие, самомнение; спесь» [СИС, 1979, с. 31]. Вот лишь один из очень многих примеров подобного словоупотребления – в суждении гендиректора ВЦИОМа В. Федорова по поводу одного из «событий недели», пуска реактора на Волгодонской АЭС: «Первый за долгое время признак того, что амбициозная программа строительства новых ядерных станций в России может стать реальностью. И что наша атомная энергетика остаётся конкурентоспособной» (Фёдоров. Пять событий недели // РГ-Неделя. № 62. 25.03.10. С. 2). В данном случае кое-что объясняется родом профессиональной деятельности г. Фёдорова – социологическими обследованиями («мониторингом») российского населения, в которых значительна роль статистики, или, точнее, интерпретации объективных (?) статистических данных (ср.: апокрифический афоризм, обычно приписываемый Марку Твену: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» [Душенко, 2006, с. 633]). Возможно и иное объяснение, а именно – влияние английского языка, порождающее семантическое калькирование, которое, в свою очередь, приводит к речекоммуникативным неудачам и тупикам, то есть возможностям различных толкований одного и того же высказывания (шире – текста), проистекающим из, как минимум, потенциально вариативного восприятия его ключевых слов (характернейший пример последнего времени – использование словосочетаний контролировать ситуацию, контроль ситуации, взять (брать) ситуацию под (чей-нибудь) контроль, ситуация под контролем, ситуация вышла из-под (чьего-нибудь) контроля и т. п.; подробнее см.: [Васильев, 2000, с. 100–109; Васильев, 2003, с. 135–147]). Ведь хорошо известны способности к изучению иностранных языков современных высших российских руководителей, что, несомненно, самым выгодным образом отличает их от советских предшественников. Например: «… В Германии говорит прямо на чисто немецком языке… Очевидно, что к первому человеку России небесные светила благоволят» (В. Власенко. «Обозрение-7». 7 канал. 07.10.02). – «… В Ново-Огарёво обнялись, обменялись рукопожатиями… Несколько минут Владимир Путин и Тони Блэр говорили по-английски» («Время». ОРТ. 29.04.03). – «Президент Путин и премьер-министр Финляндии продолжили переговоры на английском языке» (Новости. ОРТ. 02.08.05) и т. д. (хотя, кажется, дипломатический протокол и не предусматривает такой модели речевого поведения, в том числе и при общении на самом высоком уровне). Неудивительно, что и первый президент России, находясь на вполне заслуженном им отдыхе, тоже задался благородной целью личного освоения иностранного языка: «Чтобы загрузить мозги, которые у меня не загружены полностью, я начал изучать английский язык» (Б. Ельцин. – «Вести». РТР. 09.06.02). Конечно же, это вряд ли сопоставимо с теми ситуациями и их оценками, которые высказывал великий отечественный лингвист: «Вероятно, многие испытали на себе неприятное впечатление фальши, неискренности, слушая певца или актёра, говорящего в угоду местной публике на непривычном для него наречии. Искусство переходит здесь в лицемерие» [Потебня, 1976, с. 265] (кстати, согласно ст. 68 действующей российской Конституции, государственным языком РФ является русский).
В отличие от вышеприведённых дефиниций существительного амбиция и прилагательного амбициозный, содержащихся в русскоязычных словарях, словарь двуязычный даёт несколько иное толкование соответствующих английских слов, происходящих от того же латинского источника. Ср.: «ambition – 1) честолюбие, амбиция; 2) стремление, цель, предмет желаний; it is his a. to become a wrier его мечта стать писателем; ambitious – 1) честолюбивый; a. of power властолюбивый; 2) претенциозный» [Мюллер, 1956, с. 27]; а также: «ambition – 1) strong desire, esp to be successful: A man who is filled with~usually works hard; 2) particular desire of this kind: He has great~s; 3) object of such a desire: achieve one`s~(s); ambitious – 1) full of ambition: an~voman; ~ to succeed in life; 2) showing or needing ambition: ~plans; an ~ attempt» [Hornby, 1984, с. 20].
Допустимо предположить, что результаты семантических эволюций слов корня, восходящего к одному и тому же источнику (в данном случае – к латыни), в лексиконах разных языков оказались различными; известно множество подобных примеров. Потому представители российской власти, труженики СМИ и некоторые другие речедеятели-полиглоты зачастую вкладывают в употребляемые ими слова несколько иные смыслы, нежели большинство членов языкового коллектива, населяющего то же государство. О таких процессах немало говорили социолингвисты прошлого (Е.Д. Поливанов и др.) и настоящего; ср.: «Общественный дискурс оперирует понятиями типа толерантности, истинность которых полагается очевидной (а ведь подобные случаи не единичны!). Когда же эти понятия конкретизируются в бытовом дискурсе, возникают сомнения: об одном и том же говорит народ и его элита?» [Суспицына, 2007, с. 73]. Кроме того, знание иностранного языка влечёт за собой в том числе и некоторые трансмутации национальной ментальности, выражаемой и воплощаемой именно родным языком: «Человек, говорящий на двух языках, переходя от одного языка к другому, изменяет вместе с тем характер и направление течения своей мысли, притом так, что усилие его воли лишь изменяет колею его мысли, а на дальнейшее течение её влияет лишь посредственно. Это усилие может быть сравнено с тем, что делает стрелочник, переводящий поезд на другие рельсы» [Потебня, 1976, с. 260]. Кроме того, такие слова, как оптимальный – «наиболее благоприятный, наилучший», оптимизм – «бодрое и жизнерадостное мироощущение, исполненное веры в будущее; склонность во всём видеть хорошие, светлые стороны» [МАС 2 , 1982, т. 2, 632], корень которых связан с лат. optimus – «лучший» [Там же], в языковом сознании, несомненно, маркированы позитивно, а значит, та же оценочность передаётся и этимологически родственному оптимизация – «нахождение наибольшего или наименьшего значения какой-л. функции или выбор наилучшего (оптимального) варианта из множества возможных, напр. о . процесса управления» [СИС, 1979, с. 257]. Конечно, можно было бы использовать и исконно русское слово улучшение , но оно для вербально-манипулятивных операций менее предпочтительно: во-первых, оптимизация – терминологично, а значит, наукообразно и в силу этого способно внушать доверие; во-вторых (хотя это сегодня и не столь существенно), обещание улучшения налагает на руководящего речедеятеля некое подобие ответственности (тем более что улучшение может оказаться избирательным, или «точечным», «адресным»; проще говоря, для кого-то действительно реализуется, для кого-то – совсем наоборот; собственно, так и происходит в абсолютном большинстве случаев).
Дополним приведённые выше примеры употребления слова оптимизация как эвфемизма к «дискредитировавшемуся» («дискредитированному»?) слову реформа. К тому же, в отличие от последнего, первое – популяризируемое – обычно именует изменения, пусть и весьма чувствительные для граждан, но в узколокальных масштабах. Итак: «Сокращение (статей социальных расходов) краевого бюджета – это оптимизация бюджетной сети» (Новости. ТВК. 16.11.98) (то есть снижение расходов на здравоохранение и образование). «Оптимизация краевого бюджета – это и доведение до 70 % оплаты жилья» (Новости. 7 канал. 12.02.02) (поскольку так и непонятно, какая именно величина принимается за 100 %, то оптимизация в этом направлении неуклонно продолжается – квартплата растёт по сей день). «Оптимизация расходов в медицинских учреждениях – сокращение количества больничных коек» (Новости. Прима ТВ. 17.12.04) (ср.: «Артемий Филиппович: Человек простой: если умрёт, то и так умрёт; если выздоровеет, то и так выздоровеет… Все как мухи выздоравливают» [Гоголь, 1966, c. 25, 60]). «По мнению чиновников (красноярской) мэрии, то, что придётся платить (за поездку) гораздо больше, количество автобусов и маршрутов будет сокращено, а ездить придётся с пересадками и длинными интервалами, – и есть оптимизация работы городского транспорта» (Новости. 7 канал. 28.08.08) и т. д.
По степени семантической прозрачности близок к приведённым и следующий пример: «Квашнин (начальник российского генштаба) называет процесс... оптимизацией управления» («Обозрение-7». 7 канал. 12.02.02) (комментарий к не санкционированному министром обороны РФ распоряжению генштаба о выводе российских войск из Грузии; в любом государстве такая « оптимизация управления» именуется нарушением уставной субординации и армейского принципа единоначалия).
Судя по некоторым признакам, одним из самых употребительных слов, пришедшим на смену таким, как реформа , станет (уже стало?) модернизация - по-ви-димому, несколько переосмысленное по сравнению с недавним периодом, ср.: модернизация - «действие по знач. глаг. модернизировать - 1) изменить (изменять) что-л. соответственно современным требованиям и вкусам; 2) придать (придавать) прошлому не свойственные ему современные черты» [МАС 2 , 1982, т. 2, с. 286].
Как показывают вышеприведённые цитаты из российского теледискурса, для манипулятивной эвфемизации, наверное, в равной степени успешно применяются слова и исконные, и иноязычного происхождения. Последние, кажется, используются политкорректировщиками социальной реальности всё-таки более охотно – в силу известных специфических свойств лексических заимствований, к которым принадлежит и упомянутая затемнённость их внутренней формы для носителя языка-реципиента, препятствующая чёткому пониманию семантики. Ср. агитационную надпись, которая украшает кооперативную лавку-вагон, и её восприятие адресатами в рассказе М. Булгакова 1924 г.: «Транспортная кооперация путём нормализации, стандартизации и инвентаризации спасёт мелиорацию, электрификацию и механизацию». Этот лозунг больше всего понравился стрелочникам. «Понять ни черта нельзя, – говорил рыжебородый Гусев, – но видно, что умная штука» [Булгаков, 1989, т. 2, с. 402]. И современный теленовостной сюжет (правда, со снисходительной дешифровкой ключевых слов для «малопродвинутой» части аудитории): «в Москве проходит “Инновационный конвент”, а в переводе (!) – форум, на котором молодые учёные представляют свои изобретения» [«Вести». РТР. 10.12.08].
Рассмотренные здесь эпизоды тотальной языковой игры позволяют ещё раз убедиться в том, что «не близостью значений слов, а именно существенными различиями в их семантическом содержании и обусловлены эвфемистические замены» [Шмелёв, 2003, с. 145]. Такие эвфемизмы (псевдоэвфемизмы?) близки к тем, которые определяют как «окказиональные индивидуально-контекстные замены одних слов другими с целью искажения или маскировки подлинной сущности обозначаемого» [Арапова, 1990, с. 590], – однако присутствующие в официозном дискурсе реформа, оптимизация и проч. отнюдь не окказиональны: их использо- вание имеет систематический, массированный и целенаправленный характер. Впрочем, «высшая честность языка не токмо бежит лжи, но тех неопределённых полузакрытых выражений, которые как будто скрывают вовсе не то, что ими выражается» [Герцен, 1955, с. 140]. Неслучайно ведь российским гражданам, пусть даже и не самым высокообразованным, но имеющим некоторый опыт выживания в перестроечные и последующие годы, зачастую легко удаётся «восстановление концептуальной справедливости» (И.Т. Вепрева), то есть распознать не только исходную семантику слова, но и уловить те смысловые обертоны, которые вносятся в неё говорящим, а следовательно, правильно определить его интенции. Собственно, возможность и необходимость такого определения хорошо представлены в русских фольклорных паремиях, отражающих так называемое обыденное (ненаучное) языковое сознание: «Не всё то творится, что говорится» [Даль, 1984, т. 1, с. 319]. – «Не смотри на кличку, смотри на птичку» [Даль, 1984, т. 2, с. 168]. – «Какова резва ни будь ложь, а от правды не уйдёшь» [Даль, 1984, т. 1, с. 153].