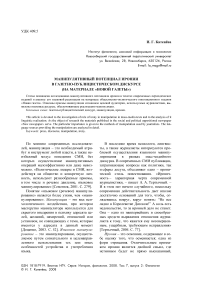Манипулятивный потенциал иронии в газетно-публицистическом дискурсе (на материале «Новой газеты»)
Автор: Катенва И.Г.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию манипулятивного потенциала иронии в текстах современных периодических изданий и анализу его языковой реализации на материале общественно-политического оппозиционного издания «Новая газета». Описаны приемы манипуляции сознанием целевой аудитории, используемые журналистами, выявлены языковые ресурсы, обеспечивающие реализацию манипуляции.
Газетно-публицистический дискурс, манипуляция, ирония
Короткий адрес: https://sciup.org/14736966
IDR: 14736966 | УДК: 409.5
Текст научной статьи Манипулятивный потенциал иронии в газетно-публицистическом дискурсе (на материале «Новой газеты»)
По мнению современных исследователей, манипуляция – это необходимый атрибут и инструмент любой власти, а также неизбежный модус поведения СМИ, без которых осуществление манипулятивных операций малоэффективно или даже невозможно. «Политические лидеры и СМИ, воздействуя на общество и конкретную личность, используют разнообразные приемы, в том числе и речевое давление, языковое манипулирование» [Cеменюк, 2001. С. 279].
Понятие «языковое (речевое) манипулирование» является более узким, чем «манипулирование». Манипуляция – это вид психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент [Доценко, 2003. С. 52]. Языковое манипулирование – это манипулирование, осуществляемое путем сознательного и целенаправленного использования тех или иных особенностей устройства и употребления языка.
В последнее время психологи, лингвисты, а также журналисты интересуются проблемой осуществления языкового манипулирования в рамках масс-медийного дискурса. В современных СМИ публикации, затрагивающие вопросы как политики, так и сферы досуга, объединяет одно – иронический стиль повествования. «Ироничность – характерная черта современной журналистики, – пишет А. А. Тертычный. – И в этом нет ничего случайного, поскольку современная действительность дает вполне достаточно оснований для того, чтобы, оглядевшись вокруг, вдруг понять: “Не все ладно в Королевстве Датском!” А коль есть недовольство, то за иронией дело не станет. Она – одно из наипервейших и своеобразных средств выражения отношения журналиста к тому, что кажется ему несовершенным, ущербным, требующим исправления» [Тертычный, 2004. С. 77].
Ирония – это осмеяние, содержащее в себе оценку того, что осмеивается; одна из форм отрицания. Отличительным признаком иронии является двойной смысл, где истинным будет не прямо высказанный,
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © И. Г. Катенпва, 2008
а противоположный ему, подразумеваемый; чем больше противоречий между ними, тем сильнее ирония [Словарь литературоведческих…, 1974. С. 123].
В современных журналистских текстах в качестве основных функций иронии можно выделить аргументирующую, рекреативную (развлекательную) и манипулятивную. Манипулятивная функция иронии является доминантной в коммуникативной политике оппозиционных изданий – «изданий, критикующих существующий режим и выдвигающих собственные альтернативные проекты развития общества» [Грабельников, 2000. С. 27]. Редакционная политика таких газет и журналов заключается в политической антипропаганде, т. е. дискредитации представителей действующей власти, поэтому в качестве главного инструмента воздействия выбирается ряд психолингвистических манипуляционных приемов.
В качестве источника материала для анализа мы выбрали общероссийское оппозиционное издание «Новая газета» (НГ). Анализ ее публикаций позволил выявить манипулятивный потенциал иронии, а также конкретные приемы манипуляции, в основе которых лежит иронический модус. Концепция издания, в которую, кроме содержательной, композиционной и графической модели, также входят элементы коммуникативной политики (селекция и выявление доминантных стратегий и тактик общения с целевой аудиторией), реализуется в течение всего календарного года. Следовательно, для обеспечения максимальной объективности и адекватности сделанных нами наблюдений возникла необходимость проанализировать материалы номеров НГ, вышедших за год.
Анализ текстов показал, что самыми распространенными видами манипуляции читательским сознанием на страницах данного издания являются следующие приемы, в основе которых лежит ирония: амфиболия; игра с прецедентными текстами; «зацепка» за прецедентный текст; бездоказательное умаление авторитета (наклеивание ярлыков); сочетание риторического вопроса и риторического тропа иронии.
Амфиболия
Суть данного приема заключается в создании намеренной двусмысленности, основанной на многозначности слова, т. е. столкновении нескольких значений в пределах одного контекста.
На страницах НГ амфиболия является частотным приемом языкового манипулирования. В материалах, опубликованных за год, этот прием использовался журналистами 223 раза. Как правило, амфиболия реализуется в заголовочном комплексе, так как корреспонденты НГ учитывают психологические особенности восприятия информации целевой аудиторией (в процессе ознакомления с номером газеты читатель в первую очередь обращает внимание на заголовки, подзаголовки и лидер-абзацы публикаций).
Например, заголовок материала о том, что отца троих детей Насраддина Касымова за отсутствие российского гражданства посадили на год в тюрьму, «Папку подшили к делу» (НГ. 2007. № 19). В данном случае амфиболия построена на столкновении омонимов: папка – род загибающейся с краев обложки, в которую вкладываются бумаги, рисунки [Ожегов, Шведова, 1999. С. 492], и папка - производное от папа . Значения этих слов актуализирует контекст: папка воспринимается как документ, когда речь идет о рассмотрении дела Касымова и принятии решения судом; и папка как наименование отца, когда описывается семья На-сраддина и бережное отношение к нему дочерей, которые зовут его « наш папка ».
Амфиболия позволяет журналистам имплицитно выразить свое отношение к происходящим событиям, но при этом четко расставить акценты и сориентировать читателя, а также привлечь его внимание языковой игрой. Корреспонденты предлагают целевой аудитории разгадать своеобразный ребус, который строится на многозначности смыслов, зашифрованных в одной фразе.
Например, заголовок «Перед саммитом сажают газоны и активистов» (НГ. 2007. № 17), который строится на создании намеренной двусмысленности, возникающей в результате актуализации в контексте двух значений многозначного слова. Сажать – 1. что. Закапывать корнями в землю или сеять для выращивания (сажать газоны). 2. кого (что) Помещать куда-нибудь на длительное время (сажать активистов, сажать в тюрьму) [Там же. С. 692]. Данный заголовок является ключом для расшифровки авторской позиции, благодаря которому читатель получает готовый алгоритм оценки происходящего. Подтверждение этому находим в лидер-абзаце публикации, в тексте которого происходит дешифровка амфиболии: «На прошлой неделе губернатор Самарской области Константин Титов заявил общественности, что область готова к саммиту на 99 %. Соответственно, в течение последних дней делалось все для того, чтобы приблизить эту готовность к стопроцентной. И дело не закончилось только посадкой новых газонов. 8 мая в Тольятти был задержан Илья Гурьев – участник акции НБП по взятию общественной приемной администрации президента в 2004 году» (НГ. 2007. № 17).
Амфиболия может основываться на семантической трансформации фразеологизма, когда в тексте происходит синтез буквального и фигурального значений. Этот стилистический прием основан на актуализации внутренней формы фразеологизма, т. е. параллельном употреблении фразеологической единицы и свободного словосочетания, являющегося этимологическим прототипом данной ФЕ, например: первополосный материал с заголовком «Кому на руку» (НГ. 2007. № 14). Вербальный и визуальный контексты актуализируют и сталкивают прямое и переносное значения этого выражения. Прямое значение ‘то, что надевается кому-то на руку’ выявляется с опорой на подзаголовок «Новая амуниция ОМОНов. «Ударные» перчатки (Весенняя коллекция-2007)» и фотографию, на которой изображена специальная перчатка, являющаяся частью новой амуниции представителей охраны правопорядка. Переносное фразеологическое значение ‘вполне устраивает кого-либо, соответствует желаниям кого-либо’ [ФСРЛЯ, 1997. С. 207], фразеологическое значение – из самого текста материала, пронизанного авторской иронией и даже сарказмом: «Во время разгонов митингов в Москве 14 апреля много разговоров было о чудо-перчатке, “перчатке-кастете” на руках милиционеров. Мы сумели ее в разных видах заснять. Видимо, эта штука задумывалась как защитный щиток, но, как обычно, стала достойным продолжателем дубинки, прозванной демократизатором. Никогда еще обмундирование не поступало в войска так оперативно и своевременно, как эта удобная зубодробилка для полицейских нужд. Эта вещь, безусловно, войдет в ис- торию современной России» (НГ. 2007. № 14).
Игра с прецедентными текстами
Иронический эффект достигается путем трансформации прецедентных текстов – текстов, которые рассматриваются как общеизвестные в конкретной речевой культуре.
Для языковой игры с читателем в качестве прецедентных текстов корреспонденты НГ выбирают широко известные устойчивые выражения, в том числе фразеологизмы, что делает минимальной ошибку в интерпретации адресатом авторской интенции. Например, материал, посвященный рассмотрению вопроса о том, почему городок Щучье стал камнем преткновения для реализации международной программы по ликвидации советского химического оружия, озаглавлен так: « По Щучьему снабжению» (НГ. 2007. № 17). По щучьему велению ‘само собой, без посторонней помощи’ [ФСРЛЯ, 1997. С. 67]. « Ва Бэнк оф Нью-Йорк» (НГ. 2007. № 19) – заголовок статьи, в которой освещается вопрос о рискованной политике нью-йоркского банка. Идти ва-банк ‘поступать предельно рискованно, жертвуя всем’ [Там же. С. 273].
Трансформация фразеологических единиц в заголовочном комплексе может стать стилеобразующим признаком целого номера: « В начальных было слово »; «Харчам все возрасты покорны »; « Последний писк истории государства российского »; «Займ- аут »; « Дырка от рублика»; « Если завтрак никогда не наступит »; « Пороховая точка» (НГ. 2007. № 35).
Прием «зацепка» за прецедентный текст
Связан c игрой с прецедентными текстами. Суть его заключается в сопоставлении современной политической или социальной ситуации с фактами истории, ситуациями, описанными в притчах или фольклоре. Основой реализации манипуляционного приема «зацепка» за прецедентный текст является иронический стиль повествования.
Корреспонденты НГ часто используют стилизацию под народный фольклор, например, сказку: « Жил-был в Балабанове Калужской области торговец фруктами На-сраддин Касымов, 33 лет от роду , самый обычный человек. Жил вместе с русской женщиной, родились у них трое дочерей –
Вика, Роксана и Лейла. И все бы ничего, но глава семейства обходился без документов, точнее, паспорт СССР у него имелся, но он его давным-давно потерял. Что, впрочем, никак не омрачало его существования – правоохранительные органы то ли закрывали глаза на нарушение закона, то ли действительно пребывали в неведении. Хотя странно это: Балабаново — городок небольшой, 10 тысяч населения, и все его жители на виду, тем более южане » (НГ. 2007. № 19).
Реализация данного приема рассчитана на то, что читатель должен неосознанно симпатизировать герою публикации, которому прежде, чем « жить долго и счастливо », предстоит пройти ряд испытаний. При этом сотрудники правоохранительных органов и вся судебная система Российской Федерации оказываются в роли злодеев (геро-ев-антогонистов). Таким образом, автор материала предлагает читателю конкретную схему развития действий, которую он сам должен дорисовать и дополнить деталями. Как отмечает С. Г. Кара-Мурза, встраивание в мифологическую картину мира человека – это эффективный манипуляционный ход, так как мифы являются большими проектами манипуляции. «Структура мифа и характер его восприятия общественным сознанием хорошо изучены, что позволило создать целую индустрию, фабрикующую и внедряющую мифы с целью манипуляции сознанием и поведением. Выбрав подходящую схему, ее можно наполнить конкретным содержанием, в зависимости от задачи манипулятора, и подтолкнуть людей к тому, чтобы они воспринимали проблему в заданной схеме» [Кара-Мурза, 2007. С. 146].
Прием «зацепка» за прецедентный текст также используется журналистами НГ, когда возникает необходимость провести сравнительно-сопоставительный анализ поведения политической элиты различных исторических эпох. Так, в статье «Февральские параллели» данный прием является текстоорганизующим: «Дискуссия о Февральской революции, да и не только о ней, в подцензурных СМИ ведется только ради одного: что бы ни случилось, ни в коем случае нельзя ослаблять авторитарную хватку режима. Все произошедшее с февраля по октябрь 1917-го чрезвычайно актуально сегодня. Последовавшие вскоре после “дискуссии” события с участием ОМОНа показали, что разговоры про безжалостную го- сударственную силу неслучайны. Это официальная идеология руководства страны… Смертельная проблема самодержавия заключалась не в бунтовщиках, а в нем самом. В этом – один из главных уроков для складывающейся нынче в России авторитарной системы власти, усваивать который она, судя по всему, никак не желает. Подлинную “профилактику революций” ответственная власть начинает с себя, а не с оппозиции и уж тем более не с вытеснения ее на улицы с помощью сомнительного законотворчества и административных злоупотреблений» (НГ. 2007. № 17). Факты истории не только проецируются на сегодняшнюю действительность, но и обыгрываются автором материала, который в качестве основного инструмента выражения своей оценки выбирает иронию.
Прием бездоказательного умаления авторитета (наклеивание ярлыков)
В основе реализации этого приема часто лежит иронический (комический) эффект. Его суть заключается в обозначении события или действующего лица словом или выражением, изначально содержащим в себе для сознания реципиента негативный или, напротив, позитивный оттенок [Леонтьев, 2004. С. 74].
В текстах анализируемого издания этот прием используется для создания негативного отношения читателя к известным политикам и общественным деятелям. Корреспонденты оперируют негативно-оценочными словами, а также сравнивают людей с животными. Например, материал, посвященный ужесточению наказаний для водителей, называется «Забыв про дороги, нашли дураков» (НГ. 2007. № 11). Под заголовком размещена фотография сотрудников ДПС. В газетном тексте заголовок обыгрывается следующим образом: «Только уменьшение смертности – это и дороги, и развязки, и организация движения, и скорая медицинская помощь, и технический уровень, и состояние автомобилей, и дорожная полиция, наконец. И только в России еще ставят телегу впереди лошади, только у нас изобретают свой, российский путь. И, забыв про две главные российские беды, упорно ищут ту, что попроще: дураков на дороге» (НГ. 2007. № 11). Или заголовок интервью с и. о. госминистра Грузии по реформам Каха Бенкулидзе «Инвестор - как стадо джейра- нов» (НГ. 2007. № 43) (джейран ‘парнокопытное из рода газелей; отличается особой пугливостью и быстрым бегом’).
Прием наклеивание ярлыков может выполнять текстоорганизующую функцию, т. е. лежать в основе создания утрированного (как правило, негативного) образа героя публикации – «чучела оппонента». Пример: обозреватель НГ оценивает деятельность современных политиков « Как и уж такой весь из себя радикальный Проханов. Признаюсь, сперва меня раздражало, с какой небрезгливостью либеральный бомонд принялся ласкать этого графомана-сверхпатриота . А после я, кажется, понял: и он приручен, куплен тусовкой, стал подобием госпожи Робски , и сами его фафаронады на “Эхе ” столь же страшны, как ритуальный оскал одомашненного хищника . Ну вроде как обстоит дело с вечно орущим по ТВ раскормленным плейбоем Митрофановым» (НГ. 2007. № 11).
Показательным является тот факт, что в большинстве рассмотренных примеров, в которых реализован прием наклеивание ярлыков , основными языковыми средствами манипуляции являются существительные. По Д. Болинджеру, «существительное выражает предубежденное отношение и фиксирует стереотипы гораздо сильнее, нежели прилагательное или глагол, поскольку существительное в силу своей номинативной специфики представляет качества человека как постоянные» [Bolinger, 1980. P. 79].
Как отмечает Н. А. Остроушко, наклеивание ярлыков – это прием речевого воздействия, лингвистической базой которого является свойство всякого наименования идентифицировать объект через определение его существенных характеристик. Классифицируя объект, раскладывая его по ячейкам в зависимости от признаков, имя как бы пригвождает объект номинации в виде ярлыка к «позорному столбу» окончательно и бесповоротно [Остроушко, 2004. С. 183].
Журналисты НГ умело используют такую разновидность приема бездоказательное умаление авторитета, как завуалированное (непрямое) наклеивание ярлыков. Событие или герой материала не обозначаются словом или выражением с негативной оценкой. Последняя возникает в читательском сознании по аналогии, так как номинация помещается в однородный ряд, члены которого обозначают негативные явления. Например, заголовок репортажа «Дневник коммунальщика. Выпуск первый: взятки, мат, “Единая Россия”» (НГ. 2007. № 17). Взятка ‘деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий’ [Ожегов, Шведова, 1999. С. 81], мат прост., груб. ‘неприличная брань’ [Там же. С. 345]. Или заголовок «Главврач в рясе, Путин то-плесс и подсудный комментарий» (НГ. 2007. № 30), который направлен на дискредитацию имиджа российского президента.
Сочетание риторического вопроса и риторического тропа иронии
Это один из самых ярких и эффективных манипуляционных приемов, реализованных на страницах НГ. Чаще всего используется журналистами для осмеяния поведения высших чиновников и даже президента. Например, заголовок материала, в котором журналист пытается расшифровать, что означают высказывания членов правительства о решительном переходе к инновациям – «Слово было. Будет ли дело? » (НГ. 2007. № 16); отрывок из публикации, посвященной проблемам Центробанка: «Надзор за деятельностью банков должен быть в надежных руках. Чтобы при необходимости смотреть на финансовые проводки сквозь пальцы? » (НГ. 2007. № 7).
На реализации данного приема построен фельетон «Слабо, господин президент?»: « Владимир Владимирович! Через год вам уходить. Чем запомнятся потомкам, чем войдут в историю России восемь лет вашего правления? Вы об этом задумывались? Курском? Да. Чечней? Она все же на совести вашего предшественника... А чего бы вам, Владимир Владимирович, не обессмертить свое имя началом настоящей борьбы с коррупцией во властных структурах России? “Заложить основы”, расчистить “авгиевы конюшни” хотя бы от главной грязи и “почти святым” уйти на покой? Да тяжелая и грязная это работа. Но это историческая необходимость на пути к настоящей демократии... И запад бы вас понял. Ну как, Владимир Владимирович, слабо? Или оставите этот уникальный исторический шанс своим преемникам?.. » (НГ. 2007. № 17).
Суть языкового манипулирования в этом тексте заключается в том, что создается иллюзия диалога с президентом Российской Федерации, который как бы отвечает на вопросы журналиста. Причем эти ответы позволяют автору материала выгодно представить свою позицию. Корреспондент НГ использовал риторическую фигуру sermoci-nacio – включение в текст воображаемой речи оппонента или противника, долженствующей раскрыть его подлинные мысли и интересы [Михальская, 1996. С. 151].
В процессе создания текста журналисту приходится учитывать специфику коммуникации, так как на страницах периодических изданий не реализуется прямое диалоговое общение с читателем, как в радио- или телеэфире. Возможность адресата несколько раз перечитать материал заставляет корреспондента как манипулятора использовать более тонкие ходы и тактики, сочетать в одном тексте целый ряд разнообразных приемов манипуляции.
Например, материал под названием «Партия тупых»: « Силовикам показалось, что теперь именно они определяют внешнюю и внутреннюю политику государства. В итоге пострадали: граждане, “ суверенная демократия ” и имидж президента. Очередной тест-драйв партии силовиков-патриотов, защитников государственности и суверенной демократии , прошел на днях в Самаре. Опираясь исключительно на внутренние убеждения и милицейское правосознание, основанное на принципе презумпции лояльности к Кремлю , сотрудники МВД и ФСБ попытались на корню пресечь “Марш несогласных ” задолго до того, как он был разрешен местным руководством… Таким образом был создан весьма благожелательный климат в преддверии саммита ЕС – Россия, запланированного на 18 мая в Тольятти: лидеры западных демократий с удовольствием послушают объяснения президента России по поводу очередных репрессий » (НГ. 2007. № 17).
В заголовке реализован прием бездоказательного умаления авторитета : «Партия тупых ». В данном случае в качестве языкового средства использовано субстантивированное прилагательное. Тупой ‘лишенный острого восприятия, несообразительный, а также свидетельствующий об умственной ограниченности’ [Ожегов, Шведова, 1999.
С. 816]. Актуализирует это значение прием визуализации: под заголовком расположена карикатура – покорная собака держит в зубах полицейскую дубинку. Негативное отношение к сотрудникам МВД и ФСБ также выражается с помощью таких политических ярлыков, как силовики-патриоты , защитники государственности и суверенной демократии .
В данном тексте реализован еще один манипуляционный прием – прием фидеистического согласия [Михальская, 1996. С. 147]: журналист представляет субъективное мнение в виде объективного факта, не требующего доказательств, или истины, не подлежащей сомнению. Чаще всего используется форма категорического суждения. Например, « В итоге пострадали: граждане, «суверенная демократия» и имидж президента».
Материал написан в ироническом ключе, этот прием рассчитан на создание утрированного образа силовых структур – «чучела оппонента», когда лицам приписывается либо гиперболизированное, либо заведомо не существующее свойство [Руженцева, 2004. С. 70]. Сотрудники МВД и ФСБ представлены в тексте не просто как покорные исполнители, а как неодушевленный предмет, послушная машина (эту сему актуализирует существительное тест-драйв ).
Таким образом, в современном газетнопублицистическом дискурсе ирония обладает значительным манипулятивным потенциалом, так как может сопутствовать любой дискредитирующей тактике и усиливать действие основного коммуникативного хода. Журналисты оппозиционных изданий используют иронию как способ осмеяния, уничтожения политического оппонента без опоры на логически выстроенные факты и аргументы. Так, в языковой политике НГ ирония занимает центральное место: реализуется как на вербальном (вне зависимости от тематики и жанров материалов), так и невербальном уровнях (фотографии, карикатуры).
Именно имплицитный характер и двуплановость иронии делают ее привлекательной для журналистов. Иронический модус позволяет корреспондентам, во-первых, осмеять «противника» без выстраивания четкой доказательной базы, т. е. опираясь только на описание недостатков внешности человека, критику его интеллектуальных способностей, физических особенностей и т. д., во-вторых, обеспечить свою юридическую безопасность (доказать, что ирония используется автором материала с целью оскорбления или дискредитации конкретного лица или социального института, довольно сложно).