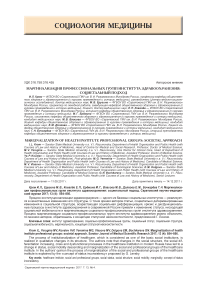Маргинализация профессиональных групп института здравоохранения: социетальный подход
Автор: Кром И.Л., Еругина М.В., Ковалв Е.П., Ермина М.Г., Власова М.В., Долгова Е.М., Бочкарва Г.Н.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Социология медицины
Статья в выпуске: 4 т.13, 2017 года.
Бесплатный доступ
Процесс институционализации здравоохранения — одного из базовых социальных институтов — реализуется в качественных изменениях его структуры. С точки зрения авторов статьи, социетально детерминированные изменения в социальной структуре, возрастающая социальная дифференциация, кризис и дисфункциональные процессы в институте здравоохранения в современной России привели к изменению статуса, нисходящей социальной мобильности и маргинализации социально-профессиональных групп института здравоохранения. Процесс маргинализации социально-профессиональных групп института здравоохранения можно объяснить, по мнению авторов, обратившись к концепции статусной неконсистентности, предложенной Г. Ленск
Институт здравоохранения, концепция статусной неконсистентности, социальный статус, маргинальность, социальная мобильность, социальная структура, социально-профессиональная группа
Короткий адрес: https://sciup.org/14918562
IDR: 14918562
Текст научной статьи Маргинализация профессиональных групп института здравоохранения: социетальный подход
1Т. Парсонс рассматривает модель общества как систему социальных отношений и социальных институтов. Каждый социальный институт характеризуется устойчивой структурой и обладает набором определенных элементов.
С ХХ в. здравоохранение развивается как крупнейший социальный институт. Процесс институционализации здравоохранения реализуется в качественных изменениях его структуры, одними из основных элементов которой являются социальнопрофессиональные группы, состоящие из субъектов со сходным социальным статусом.
Социальный статус рассматривается как «позиция субъекта или группы в иерархически организованной структуре и определяется многочисленными характеристиками, среди которых в современных обществах особенно важны престиж профессии, уровень дохода, продолжительность и качество образования» [1].
Трансформации социальной структуры, возникшие в результате кризиса и реформ, направлены на формирование новой социально-экономической модели общества. Одним из главных направлений социальных изменений стала «социально-профессиональная структура, ее трансформация привела к появлению групп населения, для которых характерны наиболее интенсивные и радикальные изменения, прежде всего социально-профессионального статуса и тенденций социальной мобильности» [2].
Автором классической концепции социальной мобильности является П. Сорокин, который определил смену социальной позиции как мобильность, передвижение субъекта в социальном пространстве, «переход… из одной социальной группы в другую» [3].
Т. Парсонс в разработанной им теории структурного функционализма рассматривал социальную мобильность в рамках статусно-ролевой системы. Э. Гидденс отмечает, что «социальная мобильность обозначает перемещение отдельных людей или групп по социально-экономическим позициям. Вертикальная мобильность означает движение вверх или вниз по социоэкономической шкале» [4]. Социальная мобильность «является механизмом социального неравенства и функционирует как механизм социального неравенства» [5].
В современных социологических исследованиях неравенства социальная мобильность — «это перемещение индивидов или их групп между различными уровнями социальной иерархии, определяемой с точки зрения широких профессиональных или социально-классовых категорий. Иначе говоря, мобильность — это изменение места в социальном пространстве» [6].
«Социальная мобильность выступает как атрибут формирования новой социальной реальности, приводя к социальным изменениям всей структуры общества. Группы нисходящей социальной мобильности, находящиеся на периферии социального развития, в наибольшей степени подвержены маргина-лизационным процессам» [7].
В литературе обсуждается актуальность проблемы социальной мобильности для современного российского общества в связи с высоким уровнем социально-экономического неравенства как одного из кардинальных признаков современного российского
общества. Нарастает социально-статусная дифференциация, которая затрагивает витальные интересы отдельных субъектов и социальных групп [8].
Дефиниция социальной мобильности связана с концепциями стратификации, представляет содержание социальной дифференциации, «когда социальные группы выстраиваются в социальном пространстве в иерархически организованный вертикально последовательный ряд по какому-либо измерению неравенства. Разделение по роду деятельности, различающейся уровнем престижа, дает основание говорить о профессиональной дифференциации» [9].
Изменения в социальной структуре, возрастающая социальная дифференциация, кризис и дисфункциональные практики института здравоохранения [10] в современной России привели к изменению статуса и маргинализации социально-профессиональных групп.
Социальная мобильность является одним из ведущих социальных процессов и важнейшим механизмом изменения социальной структуры. Социальная мобильность рассматривается как основная причина формирования социальной структуры в периоды социальных трансформаций и имеет вторичный характер, а социальные трансформации обычно выступают детерминантами процессов социальной мобильности [11].
Р. Г. Громова отмечает [12], что «специфической чертой социальной мобильности в постсоветской России первой половины 90-х годов является преобладание нисходящей социальной мобильности. Преобладающая нисходящая мобильность обусловлена не перемещением респондентов из групп с более высоким статусом в группы с более низким статусом, а понижением статуса отдельных социальных групп» (выделено нами. — Авт. ) .
Изменения в социальной структуре и возрастающая социальная дифференциация, дисфункциональные, кризисные процессы в основных социальных институтах приводят к появлению новых социальных групп, которые начинают все больше влиять на социальные процессы. В основном это группы, характеризующиеся маргинальным поведением и соответствующей жизненной стратегией [13].
Ракурсы понимания маргинальности можно обозначить словами: «промежуточность», «погранич-ность», по-разному определяющими основные акценты в интерпретации маргинальности. Актуальность проблемы маргинальности в России возникла в 1990-е гг., когда «в результате кризиса и реформ прежде стабильные экономические, социальные и духовные структуры были разрушены или трансформированы, и элементы, образующие каждую из структур — институты, социальные группы и субъекты, оказались в промежуточном, переходном состоянии, вследствие чего маргинальность стала характеристикой сложных социально-стратификационных процессов в российском обществе» [14].
Следует отметить, что «существенно изменяются характеристики социальных субъектов, приобретающих маргинальный статус. Специфика состоит в том, что они не исключаются полностью из социально-экономических, политических и социокультурных связей и отношений, но их положение и роли в них существенно и резко изменяются. От того, какова степень трансформации, деформации или разрушения этих структур, зависит степень и характер маргинализации» [2].
Маргинализация социально-профессиональных групп института здравоохранения обсуждается нами в контексте предложенной Г. Ленски [15] «концепции статусной неконсистентности» или «концепции статусных рассогласований». Автор отмечает: «…в сложной социальной структуре параллельно сосуществуют несколько вертикальных иерархий, как правило не полностью соотнесенных между собой. Одни единицы могут иметь более или менее консистентный статус, а другие — сочетать высокое положение по одним статусным переменным с низким по другим». Степень кристаллизации социального статуса индивида может выступать фактором, определяющим его поведение. Г. Ленски высказывает предположение, что субъект с низкоконсистентным статусом, сочетающий высокий уровень образования и низкий доход, — это маргинал.
Как полагает Н. Романова, «в последние годы развитие концепции получило новый импульс в связи со значительным увеличением масштаба статусных рассогласований в условиях нестабильной социальной среды. Феномен статусных рассогласований наблюдается в разных фрагментах системы неравенств. Опираясь на одну из трактовок понятия «статус», рассматривающую его в качестве ранга социальной позиции субъекта, Г. Ленски идентифицировал статусную неконсистентность как ситуацию неравенства, или несовпадения положения индивида в значимых измерениях стратификации. Высокая степень кристаллизации (используемый автором синоним консистентно-сти) имела место в случае согласованности статусов индивида в различных иерархиях, низкая — в ситуации существенных различий его позиций».
В более широком контексте под статусной не-консистентностью понимаются «существенные относительные различия положения субъекта (группы) в разных фрагментах социальной структуры» [14].
Релевантный для России феномен профессиональной маргинальности рассматривается как «поведенческий и концептуальный антагонист профессиональной идентичности» [16].
Таким образом, обсуждая современные тенденции институционализации здравоохранения в России, вызванные социетальными процессами, следует отметить дисфункциональные процессы, трансформацию структуры и возрастающую статусную дифференциацию. Кризис и дисфункциональные практики института здравоохранения детерминировали понижение статуса и маргинализацию социальнопрофессиональных групп, которая может быть концептуализирована в контексте предложенной Г. Лен-ски «концепции статусной неконсистентности».
Список литературы Маргинализация профессиональных групп института здравоохранения: социетальный подход
- Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. М.: Аспект-Пресс, 1996; 318 с.
- Попова И. П. Новые маргинальные группы в российском обществе (теоретические аспекты исследования). Социологические исследования 1999; (7): 62-71
- Сорокин П.А. Социальная мобильность/пер. с англ. М. В. Соколовой. М., 2005; 588 с.
- Giddens Е. Sociology. Moscow, 2005; 632 p. Russian (Гидденс Э. Социология. М., 2005; 632 с.
- Чекарева А. В. Социальная мобильность как механизм социального неравенства. Вестник Волжского университета им. В. Н.Татищева 2014; 1 (15): 231-237
- Просольченко С. А. Социальная мобильность, ее каналы и механизмы: Социальные институты как инструменты управления социальной мобильностью. Научные проблемы гуманитарных исследований 2010; (7): 242-251
- Разинский Г. В., Слюсарянский М.А. Группы нисходящей социальной мобильности и рынок: особенности интеграции. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета: Социально-экономические науки 2011; (10): 11-30
- Буланова М.А. Теоретико-методологические аспекты исследования социальной мобильности. Власть и управление на Востоке России 2010; (4): 136-142
- Поршев К. Ф. Социальная мобильность в современном российском обществе. Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук 2016; 2 (10): 78-80
- Еругина M.B., Кром И.Л. Институционализация здравоохранения в России: современные тенденции. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2016; 24 (3): 137-140
- Кураев И.Ю. Социальная мобильность и переходный исторический период: причина или следствие. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 2012; (3): 268-269
- Громова P. Г. Социальная мобильность в России, 1985-1993 годы. Социологический журнал 1998; (1-2): 15-38
- Конышева К. В., Струк Н.М. Теоретические подходы к анализу новых маргинальных групп. Вестник Иркутского государственного технического университета 2014; 2 (85): 215-219
- Романова Н.П. Феномен статусной неконсистентности. Вестник Забайкальского государственного университета 2009; (4): 212-217
- Ленски Г. Статусная кристаллизация: невертикальное измерение социального статуса. Социологический журнал 2003; (4): 126-140
- Волкова О. А. Проблемы профессиональной идентичности и маргинальное™ индивидов и социальных групп. Известия ВГПУ 2007; (3): 45-48.