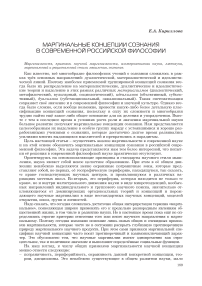Маргинальные концепции сознания в современной российской философии
Автор: Кириллова Екатерина Александровна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Философия и социология
Статья в выпуске: 3 (21), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье в современной российской философии, наряду с устоявшимися и хорошо разработанными учениями о сознании, которые достаточно долгое время развивались усилиями многих выдающихся мыслителей и превратились, в куновском смысле слова, в парадигмы, выделяется группа т.н. маргинальных концепций. Даётся краткое описание их специфики, значения и роли для философии сознания.
Маргинальность, признаки научной маргинальности, альтернативная наука, лженаука, маргинальный и рациональный стили мышления, сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/144153526
IDR: 144153526
Текст научной статьи Маргинальные концепции сознания в современной российской философии
Цель настоящей статьи — осуществить анализ маргинальности в современной науке и на этой основе обозначить маргинальные концепции сознания в российской современной философии. Эта задача представляется нам тем более интересной, что попытки её решения в современной философской науке практически отсутствуют.
Ориентируясь на основополагающие принципы и стандарты научного стиля мышления, наука являет собой некое целостное образование. При этом в её общем движении неизбежно выделяются некие окраинные пограничные зоны, которые представляют собой, во-первых, её географическую периферию, находящуюся, так сказать, «с краю» господствующих научных центров, и проявляющуюся в различных вариациях местных школ. Во-вторых, это периферия, которая находится не только «с краю», но и внутри магистрального движения науки в виде микротенденций, необычных направлений индивидуального и группового научного поиска, значительно отклоняющегося от доминирующих ортодоксальных теорий и концепций и порождающего научные маргиналии в виде нестандартных научных концепций, моделей открытия, школ, групп и личностей.
Надо сказать, что сегодня сложилась достаточно общая интерпретация термина «маргинальное», позволяющая широко применять его к предельно разнородным явлениям общественной жизни, в том числе и развитию науки. Но в настоящее время пока ещё не определились строгие критерии отнесения того или иного научного направления к маргинальному. Поэтому сегодня возможно описание лишь самых общих и очевидных признаков маргинальности, которые часто не в состоянии раскрыть глубинную противоречивую природу маргинального научного продукта. При этом сами признаки маргинальной специфики научной концепции часто носят противоречивый и взаимоисключающий характер. Это обусловлено тем, что научные маргиналии имеют одновременно как отрицательное, так и позитивное значение и выполняют определённые социальные функции.
На наш взгляд, к числу общих признаков маргинальности научной концепции можно отнести следующие:
-
— пограничность, периферийность, окраинность данной конкретной концепции, теории, дисциплины. Это неизбежно существующие в общем развитии науки, мало
контролируемые периферийные пространства и течения научной мысли. Маргинальность здесь — это всегда пограничное образование, представляющее собой либо окраинную, сопредельную зону, либо переходную тенденцию от состояния периферийной структуры к доминирующей;
-
— маргинальная наука как сложившийся краевой научный процесс может иметь признаки провинциальной отсталости.
Довольно часто маргинальная концепция демонстрирует паразитический характер в отношении доминантной концептуальности, строится на её отрицании или эксплуатации. Это объясняет нередко присущую ей заурядность, неконструктивность, деформированную форму научного поиска.
-
— имеет место специфичность маргинального стиля рациональности. Это комплекс научных идей, моделей мышления, не всегда отвечающих сложившимся стандартам научной рациональности и социальным потребностям развития отечественной науки. Нужно отметить, что в данном случае речь идёт не о всякой маргинальной концепции, а о той, которая пренебрегает правилами и стандартами научной рациональности. Такой маргинальный способ мышления — это исследовательский поиск, в котором нет жестких правил. При этом процесс упразднения правил научного исследования по преимуществу и осуществляет его переход к маргинальному статусу;
-
— считается, что маргинальные концепции в высшей степени умозрительны и не пользуются поддержкой со стороны доминирующего направления науки. Однако в широком смысле маргинальная наука, которая согласуется с общепринятыми нормами, принципами и стандартами научного исследования, и не призывает к перевороту в науке, воспринимается чаще всего хоть и скептически, но как вполне здравые в своей основе воззрения;
-
— маргинальная наука, не опирающаяся на стандарты научного мышления, когда отсутствуют научная строгость или достоверность, в конечном счете выливается в псевдонауку или лженауку. В этом случае термин «маргинальная наука» используется для описания теорий, которые фактически являются лженаукой. Однако одной из причин широкого распространения в наше время маргинальных концепций выступает широко обсуждаемый ныне в философии науки процесс трансформации и смены стилей мышления. В этом контексте становится возможным обоснование допустимости особого альтернативного типа рациональности маргинальной науки, не соответствующей общепринятым стандартам. И потому, возможно, такие термины, как «лженаука», «псевдонаука», «девиантная наука» и т. п., применительно к маргинальным теориям и концепциям не всегда правомерны;
-
— однако границы между маргинальной наукой и лженаукой являются весьма спорными и трудноопределимыми. Лженаука отличается от маргинальной науки отсутствием научного метода и, соответственно, возможности воспроизвести результат. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Валерий Кувакин даёт следующее определение лженауке: «Лженаука — это такая теоретическая конструкция, содержание которой, как удаётся установить в ходе независимой научной экспертизы, не соответствует ни нормам научного знания, ни какой-либо области действительности, а её предмет либо не существует в принципе, либо существенно сфальсифицирован» [Кувакин, 2010];
-
— признание маргинальных теорий научным сообществом во многом зависит от качества достигнутых в ней открытий. Маргинальное научное направление может не получить признания по многим причинам, в частности, из-за отсутствия в нём полноты или противоречивости его доказательств;
-
— несмотря на то что большинство учёных рассматривает маргинальную науку как рациональную, хотя и маловероятную, тем не менее маргинальные теории часто выступают как научный материал современности, подвергающийся всевозможным гонениям и репрессиям со стороны официальной академической науки, что выражается в отсутствии широких возможностей для публикаций в известных журналах, получения финансирования, грантов, то есть в оформлении её в изолирован-
- ную структуру, не допускаемую в академическую науку. И если сегодня не было бы Интернета, то, возможно, мы и не узнали об её существовании. Конечно, она существовала столько, сколько существует наука. Но только Интернет позволил обнаружить её как неизбежное, реально существующее явление.
Эти перечисленные общие признаки научной маргинальности в последнее время всё чаще обнаруживаются в ряде концепций сознания отдельных российских учёных, имеющих весьма нестандартные представления о наиболее фундаментальных свойствах сознания. Так, к настоящему времени появилось много гипотез об энергополевой природе мысли и сознания, согласно которым, возможно, именно полевые структуры человека ответственны за процессы его мышления и сознания. Например, Н.И. Кобозев предположил, что нейронная сеть головного мозга заполнена газом сверхлегких частиц — психонов, абсорбируемых атомно-молекулярными структурами мозга [Кобозев, 1971]. Нейронная сеть головного мозга как бы абсорбируют на себе облако пси-частиц. Психоны обладают полуцелым спином, а их масса на четыре или семь порядков меньше массы электрона. Они обладают очень малой плотностью и являют собой поистине вакуумные частицы.
Экзотическую теорию торсионного сознания разработали А.Е. Акимов и Г.И. Шипов [Шипов, 1997].
Близко к этим идеям примыкает гипотеза, выдвинутая действительным членом РАЕН, канд. техн. наук А.Ф. Охатриным и А.В. Чернетским, которые пришли к выводу: мыслеформы — это некие энергетические сгустки на полевом уровне, порождаемые мыслями или эмоциональными всплесками, выбросами. А.Ф. Охатрин сформулировал предположение [Акимов и др., 2000] об их микролептонной природе. По его представлениям, микролептоны — это сверхлегкие элементарные частицы, обладающие характеристиками, схожими с торсионными, аксионными, спинорными полями. Согласно этой гипотезе, как не бесплотны мысли и мыслеформы, они вполне материальны, насыщены определенными настроениями и эмоциями, заполняют собой пространство нашего мира, могут внедряться в людей и оказывать на них влияние.
Отдельные учёные [Бабиков, 2002; Куренков, 2006] приходят к выводу, что мозг человека может быть уподоблен излучающей приёмопередающей антенне, что нейрон — только передающее устройство. Обрабатывать, а тем более хранить информацию он не может. Так, С. Куренков отмечает, что головной мозг человека не «вместилище разума», мыслей, а всего лишь антенно-коммутирующее устройство приёма и передачи информации в витонной форме, получаемой физическим телом, на чувствительные контуры витонного тела. Нейрон является приёмно-излучающей ячейкой антенной решетки, коей, по сути, и является кора головного мозга. Именно нейрон способен преобразовывать информационное излучение витонного поля в витонно-электронный сигнал нервной системы. Именно «штепсельным разъемом» перехода «излучение — ток» антенно-коммутирующего устройства является кора головного мозга, а не чем-то иным [Куренков, 2006, с. 34—35].
Появились научные работы, обосновывающие возможность выхода сознания за пределы границ человеческой личности. В 1974 г. в книге «Философский анализ антиномии в науке» советский философ А.К. Манеев, приводя слова Гераклита: «Сила мышления находится вне тела», - высказывает гипотезу: структурой, которая порождает мысль, является биологическое поле — «полевая формация биосистем» [Манеев, 1974]. Соответственно, весь жизненный опыт человека, ситуации, которые он пережил, все слова, которые он слышал и которые были им сказаны, — все это фиксируется его биологическим полем и хранится в виде своеобразных голограмм, «о чем, возможно, свидетельствует, в частности, феномен памяти высокоорганизованных существ». Иными словами, «полевая структура» — хранилище нашей памяти, генератор мышления — оказывается как бы носителем человеческой индивидуальности, нашего Я. «Поэтому мозг, — утверждает учёный, — нужно рассматривать как блок считывания информации, хранящейся в биополевой системе». С таким подходом согласен известный философ М.К. Мамардашвили. «По обыденной привычке, — говорит он, — мы, как правило, вписываем акты сознания в границы анатомического очертания челове- ка. Но, возможно, каким-то первичным образом сознание находится вне индивида как некое пространственно-подобное или полевое образование» [Мамардашвили].
На наш взгляд, маргинальность этих теорий обнаруживается прежде всего в том, что они пока очень далеки от завершенной строгой науки и ни одна из них не может твердо претендовать на истинность, так как не имеет полноты экспериментальных и теоретических доказательств. Несмотря на неординарность и многообещающие названия, они ограничиваются пока лишь гипотезами проблемы «мозг — сознание», не решая её по существу. Не случайно не все из них пользуются благосклонностью научной общественности. А некоторые из этих теорий, в частности новомодная торсионная парадигма А.Е. Акимова и Г.И. Шипова, а также взгляды П.П. Гаряева, подвергаются резкой критике Комиссией РАН по борьбе с лженаукой. Авторы обвиняются в игнорировании общепринятых норм и стандартов проведения научного эксперимента, а их исследования объявляются лженаучными.
Нужно отметить, что, несмотря на наличие отрицательных черт и возможное нанесение науке вреда, маргинальные теории могут обладать позитивным содержанием, поскольку они занимают гипотетическое пространство науки, в котором маргиналии развивают неустойчивые гипотетические версии знания, вступая друг с другом в сложный творческий диалог. В силу этого так называемые краевые процессы науки могут стать источником новаторства, порождения новых прорывных направлений науки и превращаться в устойчивую структуру первостепенного значения. Хорошо известно, сколь существенным может быть маргинальное научное открытие. Часто в маргиналах оказываются гениальные учёные. История науки знает тому очень много примеров. Можно вспомнить, например, геометрию Лобачевского, которая получила научное признание лишь спустя несколько десятилетий после смерти учёного. Или исследования К.Э. Циолковского, которые также в своё время не были оценены по достоинству ни соотечественниками, ни зарубежными учеными. То же самое можно сказать и о теории множеств немецкого математика Кантора, которая была подвергнута острейшей критике со стороны его современников. В адрес Кантора раздавались, в частности, такие публичные обвинения, как «научный шарлатан», «отступник» и «развратитель молодёжи». В этом же ряду и специальная теория относительности А. Эйнштейна, которая далеко не сразу была принята мировым академическим научным сообществом. Ряд этих примеров можно продолжать до бесконечности. Маргинальные научные структуры — это один из возможных источников новаторства в науке, катализаторов её развития. Активация центробежных сил науки, приведение её к критической ситуации, которая предполагает принципиальное изменение самого способа её существования, являются одним из основных назначений и функцией маргинальных научных течений, школ и групп.
Каковы же причины резкого роста зон маргинальности в исследованиях феномена сознания? Среди них следует прежде всего выделить бурное развитие и успехи самой философии в области исследования сознания. Именно этим успехам обязан в последние десятилетия подлинный расцвет философской науки в целом. Как отмечает В.В. Васильев, некоторые авторы даже сопоставляют нынешнее состояние философии разве что с временем Платона и Аристотеля [Васильев].
В свою очередь, резкое развитие философии сознания обусловлено развертыванием на рубеже ХХ—ХХ1 вв. информационно-психологических войн нового типа, объектом и полем осуществления которых являются человеческая психика и сознание. Именно они и привели к необходимости всестороннего изучения феномена сознания и предопределили дальнейший прогресс науки в данной области. В числе этих важнейших научных достижений в первой половине и особенно середине ХХ в. выступают стремительное развитие, во-первых, философии сознания; во-вторых, квантовой физики и исследований микромира, породившие квантово-механические концепции энергоинформационного взаимодействия сознания и материи; в-третьих, научные успехи нейрофизиологии и нейропсихологии, невиданные открытия в области изучения челове- 192
ческого мозга; в-четвертых, развитие информатики, средств вычислительной техники, коммуникации и связи, приведшие к формированию информационного подхода к проблеме; в-пятых, успехи социологии, психологии и политологии в области изучения группового и индивидуального сознания и поведения людей. Следствием этого бурного развития науки в области сознания и выступает стремительный рост периферийных концепций сознания.
Другая причина роста научных маргиналий в области исследований сознания связана с трудностями и сложностями этого процесса. Несмотря на все указанные достижения, проблема объяснения природы сознания и мышления и поныне остаётся одной из самых сложных и спорных. Что не удивительно, ибо сознание — это самый труднодоступный для научного эксперимента феномен. Мыслители всех времен и народов размышляли над проблемой взаимодействия сознания и материи, накопилось много научных и околонаучных (маргинальных?), философских, религиозных и эзотерических трудов, но ещё так и не удалось ясно представить механизмы возникновения мысли, проявления сознания, его связи с человеческим телом (мозгом) и внутренним миром. Не удалось сделать даже серьезного предположения о том, как мозг может быть связан с нашими мыслями и сознанием. Сегодня человечество всё ещё на подступах к разрешению этой проблемы, хотя чисто практически уже почти в совершенстве научилось воздействовать, изменять и даже подавлять сознание людей. Это позволяет сделать вывод, что существующие доминантные научные направления в области осмысления феномена сознания исчерпали себя. Актуальным становится формирование новой научной парадигмы, составляющей некий каркас основных представлений о мире. Но то, что сегодня пока не может объяснить доминирующая наука, начинает объяснять маргинальная, которая, как мы уже отмечали, занимает её гипотетическую нишу. Маргинальная сфера, сегодня столь развитая в исследованиях феномена сознания, готовит именно этот результат. В силу чего и происходит актуализация периферийных зон в исследовании проблемы сознания.