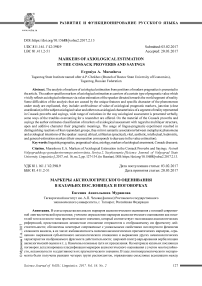Маркеры аксиологического оценивания в казачьих пословицах и поговорках
Автор: Мурашова Евгения Анатольевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ маркеров аксиологического оценивания с позиций современной лингвистической прагматики; уточнено определение маркеров аксиологического оценивания как носителей того или иного типа прагматического значения, который соответствует экспликации аксиологических референций, представляющих ценностное отношение отправителя к отображаемому им фрагменту действительности; обозначены некоторые сопряженные с уникальными свойствами исследуемого феномена сложности анализа, в их числе: амбивалентность значения аксиологических прагматических маркеров, «сращение» выражения субъективного аксиологического отношения и выражения других неаксиологических характеристик изображаемого фрагмента действительности; широкий спектр варьирования вербализации аксиологической оценки и т. д. Намечены основные пути их преодоления. На материале казачьих пословиц и поговорок детализирована классификация маркеров аксиологического оценивания с учетом многослойности, незамкнутости и аддитивности их прагматического значения. В ходе лингвопрагматического эксперимента были получены реакции четырех групп респондентов, отражающие смысловые ассоциации между метафизическими явлениями и аксиологическими установками отправителя текста. На основе анализа усредненных реакций были выделены следующие типы маркеров аксиологического оценивания (перечень дан в порядке убывания значимости маркера): священные, этические, утилитарные (практические), витальные, эстетические, интеллектуальные, гедонистические, общеоценочные.
Лингвистическая прагматика, аксиология, маркер аксиологической оценки, аксиологическая оценка, казачий дискурс, прагматическое значение
Короткий адрес: https://sciup.org/14970050
IDR: 14970050 | УДК: 811.161.1’42:398.9 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2017.2.13
Текст научной статьи Маркеры аксиологического оценивания в казачьих пословицах и поговорках
DOI:
Цитирование. Мурашова Е. А. Маркеры аксиологического оценивания в казачьих пословицах и поговорках // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2017. – Т. 16, №2.– С. 127–134. – DOI:
Изучение вербализации аксиологического оценивания продиктовано неослабевающим интересом исследователей гетерогенных речевых проявлений к феномену субъек-тно маркированной интерпретации изображаемых отправителем текста явлений действительности.
Использование методов и приемов современной антропоцентрически ориентированной научной парадигмы для изучения вербализации аксиологического оценивания обусловливает появление большого количества научных трудов, раскрывающих различные аспекты возникновения и функционирования данного феномена. В качестве иллюстрации приведем новейшие из них.
Современные исследования, осуществленные в русле концептуальной лингвистики, постулируют наличие ценностного содержания фактически у любого слова, помещенного в соответствующий контекст (см., например [Чекулай, Прохорова, 2016, c. 44–45]). Речевая экспликация ценностного осмысления деятельности, в том числе деятельности, направленной на совмещение внеязыковых процессов и вербализующих их знаков, анализируется на примере метафорических моделей описания ситуаций оценки (моделей ценностного осмысления действительности) (например: [Чекулай, Прохорова, 2016]).
Аксиологические маркеры изучаются представителями концептуального анализа на материале различных типов дискурсов, в частности образовательного, как носители аксиологических смыслов, которые могут быть применимы по отношению к наделяемым определенной значимостью и характеризуемым личностью в процессе общения ценностям: предметам, явлениям, качествам и т. д. [Артюхова, 2016].
В рамках когнитивной лингвистики рассматривается аксиологический потенциал бинарных оппозиций, вербализующих представления человека относительно значимости определенных признаков для оценочной деятельности отдельного индивида или целого языкового коллектива. Особое внимание в таких работах уделяется анализу вербализующих бинарные оценочные оппозиции единиц языка, и в частности оценочного семантического компонента значения слов, являющихся объективаторами данных оппозиций, компонента, реализуемого посредством смысловых маркеров «хорошо / плохо» [Григорьева, 2016, c. 173].
С позиций современной семантики и истории языка изучаются выражающие оценку функционально-семантические единицы, а именно эвалюативные словесные ряды (описание, повествование, толкование) как законченные смысловые отрезки, организующие текст, например, на материале древнерусских текстов (см.: [Пименова, 2016]). Оценка трактуется при этом как выражение субъективного отношения к определенной ценности, основанное на ментальных стереотипах человека [Пименова, 2016, c. 18].
С позиций ряда актуальных исследований, объединяющих в себе признаки различных научных направлений, например формальной аксиологии, теории речевых актов и праг-малингвистики, аксиологические маркеры рассматриваются в рамках оценочных высказываний как средства вербализации отношения человека к различным аспектам окружающей его действительности [Старостина, 2007, c. 232]. При этом особо подчеркивается когнитивная значимость реализуемой средствами языка оценки, представляющей результаты познавательного опыта человека и социальной группы, в которую он входит [Старостина, 2007, c. 233], универсальность оцен- ки, восходящей к различным функциям языка [Старостина, 2007, c. 234], а также широкий диапазон лингвистического варьирования оценки, вербализующейся с помощью различных средств языка в рамках отдельных оценочных суждений [Старостина, 2007, c. 237].
Наиболее продуктивным на фоне означенных и других исследований (см. подробнее [Мурашова, 2015, c. 147–160]) представляется лингвопрагматический подход.
В рамках лингвистической прагматики аксиологические маркеры (маркеры аксиологического оценивания) трактуются как носители определенного типа прагматического значения, соответствующие экспликации аксиологических референций, которые вербализуют ценностное отношение отправителя к отображаемому им фрагменту действительности [Мурашова, 2015, c. 151].
Ценностное отношение отправителя к отображаемому им фрагменту действительности может выражаться на уровне семантики с помощью субъективно-оценочных лексических единиц, а также с помощью речевых средств, выражающих оценку посредством морфологической (например, степени сравнения прилагательных), словообразовательной (например, суффиксы субъективной оценки) или синтаксической формы (например, субъективно-оценочные вводные конструкции, сравнения) (см.: [Мурашова, 2015, c. 154]).
В ходе ряда проведенных нами лингвопрагматических экспериментов особенности маркеров аксиологического оценивания были проанализированы с учетом усредненных реакций респондентов, носителей различных индивидуальных и социальных характеристик. Респонденты (всего 190 человек, объединенные в группы соответственно их возрасту, родному языку и гендерной принадлежности: первая группа – мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, носители русского языка; вторая группа – женщины в возрасте от 17 до 25 лет, носители русского языка; третья группа – мужчины в возрасте от 26 до 47 лет, носители русского языка; четвертая группа – женщины в возрасте от 26 до 47 лет, носители русского языка) изучили розданные им тексты-образцы, выделив ре- чевые единицы, которые, по их мнению, в заданном дискурсивном окружении (текстах казачьего дискурса) представляют ценностное отношение отправителя к отображаемому им фрагменту действительности. Далее выделенные респондентами маркеры были систематизированы соответственно языковым уровням и проанализированы на предмет выявления статуса аксиологической оценки (абсолютной или относительной). Кроме того, была уточнена структура высказываний с актуализированными в них аксиологическими маркерами: «S полагает, что О есть М», где S – субъект, О – объект, M – модальное понятие (аксиологический модальный оператор) (см. подробно [Мурашова, 2015, c. 147–160]). Отдельным результатом работы с текстами казачьего дискурса стала выборка казачьих пословиц и поговорок (всего 445 единиц), в которых были зафиксированы маркеры аксиологического оценивания (340 маркеров).
Обращение к методам и приемам лингвистической прагматики позволило провести анализ актуализации аксиологических маркеров, преодолев ряд сложностей (некоторые из них кратко обозначим далее).
Во-первых, эксплицируя ценностное отношение отправителя к отображаемому им фрагменту действительности (аксиологическую оценку) путем актуализации аксиологических маркеров в условиях конкретной коммуникативной ситуации, субъект-отправитель, с одной стороны, реализует индивидуальные интенции, пресуппозиции и особенности собственного речевого поведения, с другой стороны, он реализует конвенционально закрепленные стереотипы интенций, пресуппозиций и речевого поведения носителей заданного языка или диалекта.
Во-вторых, сложность анализа речевых средств-маркеров вербализации аксиологической референции (оценки) увеличивается за счет «сращения» выражения собственно некого субъективного ценностного (аксиологического) отношения и выражения других неаксиологических характеристик изображаемого фрагмента действительности, в том числе эмоционально оценочных. С этим связана амбивалентность (двойственность, противоречивость) значения аксиологических прагматических маркеров.
В-третьих, вербализация аксиологической оценки (референции) имеет широкий спектр варьирования, поскольку может быть представлена средствами различных уровней языка и их сочетаниями, интерпретация которых зависит также от индивидуально и конвенционально обусловленных особенностей интенций, пресуппозиций и речевого поведения получателя.
Кроме того, с помощью разноуровневых средств языка может вербализоваться оценка – от ярко выраженной до едва различимой (и потому трудно фиксируемой и интерпретируемой вне условий контекста).
Данные феномены усложняют выведение сколько-нибудь строгой классификации аксиологических маркеров, хотя и не нивелируют значения классификаций, предлагаемых представителями различных научных направлений. Например, с позиций концептуальной лингвистики И.С. Артюхова выделяет шесть групп аксиологических маркеров соответственно характеризуемым личностью ценностям: 1) человек, 2) государство, 3) духовные и нравственные качества, 4) культура, искусство и литература, 5) наука и знания, 6) труд [Артюхова, 2016].
В рамках аксиологической фразеологии Л.К. Байрамова предложила классификацию аксиологем в соответствии со следующими конвенциональными ценностями / антиценностями: витальными (жизнь – смерть; здоровье – болезнь), гедонистическими (счастье – несчастье), священными (родина – чужбина), социально-утилитарными (труд – безработица / лень / отдых), материально-утилитарными (богатый – бедный), интеллектуально-познавательными (ум – глупость), нравственноэтическими (правда – ложь), эмоциональноутилитарными (смех – плач), религиозными (рай – ад) [Байрамова, 2014, c. 10; Байрамова, 2015, с. 343–347].
Классификация маркеров – носителей аксиологического значения может строиться и с учетом первичности / вторичности оценки в их семантике. К маркерам, содержащим оценку в первичной семантике, относятся те, которые реализуются в оценочных оппозици- ях, специально созданных для выражения оценки (неметафорических). К маркерам, содержащим основанную на метафорическом переносе вторичную оценку, причисляются те, которые реализуются в оценочных оппозициях, отражающих эмпирически воспринимаемые человеком элементы действительности (когнитивно-метафорические) [Григорьева, 2016, c. 174]. Маркеры первой группы – это, например, слова хорошо / плохо, умный / глупый, счастье / несчастье, второй группы – высокий / низкий, широкий / узкий, белый / черный [Григорьева, 2016, c. 174].
Вербализованная оценка может разделяться на эмоциональную и рациональную в зависимости от преобладающего в ней субъективного (эмоционального) или объективного (рационального) начала [Старостина, 2007, c. 236].
Наличие большого количества классификаций свидетельствует о многослойности, не-замкнутости и аддитивности прагматического значения аксиологических маркеров, что необходимо учитывать в ходе лингвопрагматического анализа речевых единиц.
С учетом выявленной сложности прагматического значения речевых единиц и их анализа, а также разнообразия классификаций аксиологических маркеров, рассмотрим казачьи пословицы и поговороки с целью уточнить классификацию маркеров, содержащих аксиологическое оценивание. Определяя аксиологические маркеры как носители прагматического значения, соответствующего экспликации аксиологических референций, с учетом смысловых ассоциаций между метафизическими явлениями и аксиологическими установками отправителя на предыдущих этапах исследования, мы выделили общие (общеоценочные), интеллектуальные, эстетические, этические и практические аксиологические оценочные маркеры [Мурашова, 2015, c. 151].
Лингвопрагматическое исследование аксиологических маркеров с привлечением реакций четырех групп респондентов на материале казачьих пословиц и поговорок позволило провести более подробную градацию указанных групп маркеров и переструктури- ровать данные группы согласно смысловым ассоциациям между метафизическими явлениями и аксиологическими установками отправителя, отмеченными респондентами. Полученные данные были систематизированы и зафиксированы в табличной форме (см. таблицу, в которой количество маркеров указано в абсолютном выражении и процентном отношении к общему количеству пословиц и поговорок, входящих в выборку).
Согласно таблице иерархия актуализации аксиологических оценочных маркеров может быть представлена следующим образом (в порядке убывания значимости).
-
I. Священные аксиологические маркеры (32,94 %):
-
• вера – неверие ( Богу молись , но и к берегу гребись / душу – Богу , сердце – людям, жизнь – Отечеству, честь – никому / конь под нами, а Бог над нами / слава тебе, Господи , что мы казаки / Бог – не Микиш-ка, у него своя книжка );
-
• дом ( добыть – или дома не быть / отцы для детей дом строили );
-
• родина – чужбина ( казак скорее умрет, чем с родной земли сойдет / душу –
Богу, сердце – людям, жизнь – Отечеству , честь – никому / да спасет нас родная земля / целым бы остаться, да с Доном не расстаться );
-
• семья ( казак без жены что шашка без ножен / казак на коня садится, а его невеста родится / дед был казак, отец – сын казачий, а ты – хвост собачий / казацкому роду нема переводу / нет такого дружка, как родная матушка / родительское благословление и в воде не тонет, и в огне не горит ).
-
II. Этические аксиологические маркеры (18,83 %):
-
• дружба – вражда ( конь познается в езде, а друг в беде / конь да ночь – казаковы товарищи / кто от товарища отстанет, нехай от того шкура отстанет );
-
• правда – ложь ( брехня не лежит у плетня / где Дон, там и правда / не бреши жене на базу, а коню в дороге / по правде и сила );
-
• храбрость, смелость ( казак смерти не боится – он Богу нашему знадобится / казачья смелость порушит любую крепость / кто пули боится – тот в казаки не годит-
Актуализация аксиологических оценочных маркеров в казачьих пословицах и поговорках
Аксиологические оценочные маркеры
Общеоценочные (хорошо – плохо)
14 {
14 (4,12 %)
Священные
вера – неверие
30
112 ( 32,94 % )
дом
11
родина – чужбина
30
семья
41
Этические
дружба – вражда
8
64 ( 18,83 % )
правда – ложь
26
храбрость, смелость
30
Утилитарные (практические)
труд – безработица
14
47 ( 13,82 % )
отдых – лень
7
богатство – бедность
26
Витальные
жизнь – смерть
7
39 ( 11,47 %)
здоровье – болезнь
32
Эстетические (красота – безобразность)
30
30 ( 8,82 %)
Интеллектуальные (ум – глупость)
19
19 ( 5,59 %)
Гедонистические
счастье – несчастье
8
15 ( 4,41 % )
удача – неудача
1
слава – безвестность
6
Итого
340 (100 %)
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ся / с каждым боем казак храбрее , с каждым бегом конь резвее ).
-
III. Утилитарные (практические) аксиологические маркеры (13,82 %):
-
• труд – безработица ( без работы , как без заботы, и умный казак в дураках ходит / донская земля дармоедов не кормит / ни одной работе не след зря пропадать / от безделья не бывает у казака веселья );
-
• отдых – лень ( веселы привалы , где казаки запевалы / ой, печь моя, печь! коли б я на тебя, а ты на коня, славный казак был бы из меня! );
-
• богатство – бедность ( казак хороший, та нема грошей / богач , продай куски или продай лохони / ни конь без узды, ни богатство без ума / у победы богатый обоз ).
-
IV. Витальные аксиологические маркеры (11,47 %):
-
• жизнь – смерть ( были б живы , а голы будем / казак живет не тем, что есть, а тем, что будет / что казаку здорово, то немцу смерть );
-
• здоровье – болезнь ( как ни на бабушке дрисьня , так она б за море ушла / кому булава в руки, а кому – костыль / сопливое , но свое / схватило кота поперек живота ).
-
V . Эстетические аксиологические маркеры (8,82 %): добрый конь в беге, что сокол в небе / казак донской, что карась озерной: икрян, прян и солен / кони в лугах, что жемчуг в шелках .
-
V I. Интеллектуальные аксиологические маркеры (5,59 %): без работы, как без заботы, и умный казак в дураках ходит / зипуны у нас серые, а умы -то бархатныя / казак молчит, а все знает / кто присказки знает , тот в жизни много понимает / отчего ты так глуп ? – у нас вода такая .
-
V II. Гедонистические аксиологические маркеры (4,41 %):
-
• счастье – несчастье ( Бог не без милости, казак не без счастья );
-
• удача – неудача ( на удачу казак на коня садится, на удачу его и конь бьет );
-
• слава – безвестность ( в бою казак себя славит не языком, а конем да клинком / где казак, там и слава / житье собачье, зато слава казачья / слава казацкая никогда не сгинет ).
Список литературы Маркеры аксиологического оценивания в казачьих пословицах и поговорках
- Артюхова, И. С. Аксиологические основания концептуального анализа образовательного дискурса/И. С. Артюхова//Universum: психология и образование. -2016. -№ 9 (27). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://7universum.com/ru/psy/archive/item/3551 (дата обращения: 17.11.2016). -Загл. с экрана.
- Байрамова, Л. К. Пословицы в аксиологическом фразеологическом словаре русского языка: словаре ценностей и антиценностей/Л. К. Байрамова//Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. -2014. -№ 77. -С. 10-12.
- Байрамова, Л. К. Противоречия в аксиологической фразеологии/Л. К. Байрамова//Устойчивые фразы в парадигмах науки: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Владимира Леонидовича Архангельского. -Омск: С-Принт, 2015. -С. 343-348.
- Григорьева, Т. В. Аксиологические возможности оппозиции (опыт когнитивно-аксиологического моделирования)/Т. В. Григорьева//Исследования по семантике: межвуз. науч. сб. с междунар. участием. -Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. -Вып. 26. -С. 172-176.
- Мурашова, Е. А. Прагматическое значение речевой единицы. Проблемы и перспективы/Е. А. Мурашова. -М.: Перо, 2015. -292 с.
- Пименова, М. В. Способы организации древнерусского текста и выражение оценки/М. В. Пименова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2016. -Т. 15, № 2. -С. 17-24. - DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.2
- Старостина, Ю. С. Интерпретация логической оценки в терминах аксиологических суждений/Ю. С. Старостина//Вестник Самарского государственного университета. -2007. -№ 3 (53). -С. 232-241.
- Чекулай, И. В. Ценностно-деятельностные метафорические модели в создании системы ценностных концептов английского языка/И. В. Чекулай, О. Н. Прохорова//Научный результат. Серия «Вопросы теоретической и прикладной лингвистики». -2016. -Т. 2, № 1 (7). -С. 44-47.