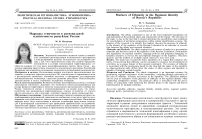Маркеры этничности в региональной идентичности республик России
Автор: Назукина Мария Викторовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Политическая регионалистика. Этнополитика
Статья в выпуске: 4 (105) т.26, 2018 года.
Бесплатный доступ
Введение. Этнический компонент является одним из важнейших оснований регионализации политического пространства и конструирования региона. Актуальность исследования связана с тем, что в практическом плане оно должно определить возможности и условия консолидации территориальных сообществ в рамках тех или иных идентификационных систем. Цель статьи - выделение маркеров присутствия этничности в идентичности республик Российской Федерации как показателя соотношения этнической и региональной идентичностей. Материалы и методы. Источниками анализа послужили презентационные материалы и визитные карточки республик РФ, конституции и нормативные акты о региональной символике, языковой политике и программы, регулирующие межнациональные отношения, стратегии развития республик. Использовались дискур^анализ и метод глубинных экспертных интервью. Результаты исследования. Выявлены базовые идентификаты региона, в которые вписывается этничность. Доказано, что этничность может рассматриваться как ресурс развития территории в качестве уникальности регионального сообщества. Ресурс этничности связан с позиционированием на основе идеи, что статус республик как национально-территориальных единиц отличается от статуса других регионов и, как следствие, способен приносить некие преимущества. Обсуждение и заключение. Этнический компонент является важным ресурсом позиционирования региональной уникальности сообщества, в том числе через культивирование идеи стабильности, многосоставности и мира в республиках. Выделенные маркеры могут быть использованы в качестве индикаторов присутствия этнично-сти в региональной идентичности при проведении сравнительных исследований. Практический эффект связан с возможностями их использования при проведении политики идентичности в регионах и гармонизации множественных идентичностей.
Республика, этничность, региональная идентичность, политика идентичности, региональный символ, языковая политика, позиционирование региона
Короткий адрес: https://sciup.org/147222793
IDR: 147222793 | УДК: 316.347(470+571) | DOI: 10.15507/2413-1407.105.026.201804.698-717
Текст научной статьи Маркеры этничности в региональной идентичности республик России
Введение. Региональная идентичность конструируется через символическое оформление целостности и одновременно отделения от других территорий в рамках дискурсивных социальных практик '. Этнический компонент является одним из важнейших оснований регионализации политического пространства и конструирования региона. Это может отражаться в выраженности этнической идентификации в ряду прочих оснований идентичности у жителей, формировании устойчивого доминирующего регионального образа и его уникальности в рамках этнического
1 Назукина М. В. Между Уралом и Поволжьем: поиски пермской идентичности. Пермь : Гармония, 2018. 196 с.
4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ компонента и др. Кроме того, этнические особенности могут сознательно акцентироваться в рамках политики идентичности, позиционировании и брендировании особенностей региона на базе этничности. Следовательно, этничность находит проявление (институционализируется) в региональной политической жизни, однако степень значимости этнической специфики может различаться для разных регионов.
Проблема взаимосвязи этнической и территориальной идентичностей имеет актуальное значение для гармонизации множественной идентичности и нейтрализации межэтнических конфликтов. Особо важна она для таких регионов, в которых этнические различия населения оказывают влияние на интерпретацию социальной реальности и приводят к формированию преференций для титульной этнической группы, проживающей на данной территории. Такого рода регионы являются этническими региональными автономиями (ЭРА), т. е. административно-территориальными единицами «первого субнационального (регионального) уровня, которые конституируются на этнической основе и в рамках приоритета национального государства обладают достаточно высокой степенью политического самоуправления»2. В современном мире насчитывается 140 ЭРА3, из которых пятая часть приходится на Россию. Целью данной статьи является предложение определенного набора маркеров выраженности этнического компонента в региональной идентичности российских республик.
В настоящее время исследования региональной идентичности и политизации этничности сложились в отдельное направление [1], которое активно развивается при поддержке научного сообщества. Однако тематика комплексного анализа проявлений этничности в региональной идентичности недостаточно исследована в политической науке.
Актуальность проблемы видится в том, что исследования этничности ведутся в основном в плане анализа этнокультурных особенностей и межнациональных отношений в разных регионах, тогда как в стороне остается проблема комплексного анализа этничности как элемента политики идентичности, укореняющегося и становящегося неотъемлемой частью политического курса национальных республик РФ. Настоящий анализ подразумевает рассмотрение основополагающих аспектов включения этнического в политический курс, выделение индикаторов (маркеров) выраженности этничности в региональной идентичности.

Обзор литературы. В основу исследования положено конструктивистское понимание идентичности, фокусирующееся на «самости», которая формируется на основе чувства принадлежности к определенной группе («что есть мы?») и отделения этой группы от других групп («кто другие?») [2]. Среди работ, посвященных анализу различных аспектов практик создания и поддержания региональной идентичности, в том числе деятельности региональных акторов по ее изобретению, стоит особо выделить исследования М. Китинга [3], П. Бурдье [4], А. Пааси [5], А. Ачрайи [6], К. Твиггер-Росс [7] и других ученых. Известными российскими специалистами по проблематике региональной идентичности являются Р. Ф. Туровский 4 [8], Л. В. Смирнягин 5, Д. Н. Замятин 6, Н. Ю. Замятина [9; 10], В. Л. Каганский7, М. П. Крылов8[И], О. Б. По-двинцев 9 и др.
Проявления этнического компонента в региональной идентичности обычно рассматриваются исследователями в рамках проблемы соотношения национально-гражданской, территориальной и этнической идентичностей в региональном пространстве (см., например, разработки Е. И. Долгаевой [12], Е. Г. Маклашовой [13]). В числе популярного направления стоит выделить исследование позиционирования республик на базе этничности 10 [14]. В таких работах поднимаются важные проблемы имиджевой политики республик, направленной на создание регионального этнокультурного бренда.
Однако недостаточно исследованным является аспект взаимосвязи территориальной и этнической идентичности. Л. М. Дробижева, отмечая актуальность проблемы совместимости национально-государственной и этнической идентичности, в своих работах на основе анализа социоло-
4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ гических данных доказывает, что они могут освещаться как в положительном ключе, становясь ресурсом развития, так и в негативной модели, разделяя сообщество через образ «врага» и порождая конфликты11.
Вопрос о соотношении региональной и этнической идентичности рассматривает О. В. Цветкова. Автор отмечает, что в разграничении политического пространства России важное значение имеет этническая идентичность, так как многие субъекты РФ (особенно республики) устанавливают границы своего пространства по этническому принципу [15, с. 68]. Е. И. Филиппова, описывая связь между этничностью и территорией, отмечает, что для советской школы этнографии было принято выделять «этнические территории», которые привязывались за определенной этнической группой в силу «исторического права» последней. Это позволяет этнической группе считать данную землю «родной». Другой ракурс определения взаимосвязи характерен для французской традиции и связан с конструированием идентичности на основе историко-географических критериев. Именно территориальное оформление позволяет сохранять единство сообщества и непрерывность существования территории, на основе чего и создается культурная однородность 12.
Исследования этнической идентичности обычно фокусируются на принадлежности к этнической группе [16, с. 3]. Так, Л. М. Дробижева дает следующее определение этнической идентичности: это «не только осознание принадлежности к этнической группе, но и эмоционально окрашенный "образ мы” и этнические интересы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность»13. Таким образом, как отмечает автор, сюда попадают не только представления о характерных чертах группы, но и представления о своем народе, его культуре, территории и т. д. По мнению В. А. Тишкова, этническая идентичность служит формой социальной организации. Центральным моментом порождения этничности, а значит и появления группы (а не просто описанного культурного комплекса), является, по его мнению, категория границы 14. Здесь автор следует Ф. Барту, на взгляд которого, этническая общность как группа строится на одновременной ассоциации и диссоциации, зависит от поддержания границы. При этом граница - это символическая линия,
которая может быть аналитически установлена через определенный набор индикаторов этнической природы группы, на основе которых и происходит соотнесение индивида с ней. Таким образом, речь идет о социальных границах, которые могут иметь и территориальное проявление, например, в ситуации, когда группа занимает эксклюзивную территорию (как в случае с этническими автономиями). Однако взаимосвязь между территорией и этничностью может и не иметь такой корреляции, поскольку главное в сохранении идентичности лежит во взаимодействии с другими, что «выражает и подтверждает идентичности»15.
Таким образом, определение и уточнение характерных особенностей проявления этничности в региональной идентичности решает также и методологическую задачу по отработке методов исследования соотношения двух типов идентификационных систем (этнической и региональной).
Материалы и методы. Качественный анализ множественной идентичности проводился посредством дискурс-анализа. При обращении к дискурсу анализировались высказывания, обладающие определенной значимостью для конкретного сообщества, а также тексты, где содержащиеся установки позиционируются в дискурсивном поле. Это означало выделение ключевых «узловых точек», через которые этничность проявляется в региональной идентичности [17, с. 112]. Источниками анализа послужили презентационные материалы и визитные карточки республик России, конституции и нормативные акты о региональной символике, стратегии развития республик, законы о языковой политике, региональных праздничных датах и программы, регулирующие межнациональные отношения. Дополнительно использовался метод глубинных экспертных интервью.
Упор на качественные методы был сделан в силу того, что они ориентированы на достижение углубленного понимания социальных явлений: позволяют детально изучить объект в его целостности и непосредственной взаимосвязи с другими явлениями. Полевые исследования в республиках осуществлялись в течение 2015-2017 гг., в ходе которых были проведены экспертные интервью с представителями региональных элит (политики, журналисты, ученые, общественные деятели). В рамках интервью экспертам задавались вопросы об этнополитической ситуации в республике, проблемах и конфликтах в межнациональных отношениях, политизации этничности, языковой политике и распределению властных позиций в регионе, механизмах взаимодействия между органами публичной власти и этническими группами, проблеме представительства этнических групп в органах власти и другие 16.
В ходе беседы затрагивались вопросы об общей уникальности региона, исторических, социокультурных, экономических и прочих особенностях регионального социума. В этом контексте эксперты часто раскрывали характеристики черт регионального менталитета и характера, определяли, как этнический маркер влияет на политико-культурные особенности регионального сообщества, приводили примеры политизации этничности. Далее интервью анализировались на момент определения ключевых оценочных позиций относительно присутствия этнических маркеров в региональной идентичности. Суть данного подхода связана с выделением базовых дискурсивных тем, определяющих особенности республики, а также наличие темы этничности в них.
Результаты исследования. Поскольку главным признаком этнической группы является приписывание идентичности себе и другим, необходимо было определить, как классифицируются базовые этнические категории в качестве значимых для образования этнической группы. На основе этого можно говорить, что этнический компонент вписывается в территориальную идентичность через вкрапление в ее базовые иденти-фикаты. Таковыми в большинстве случаев являются: название региона, символические атрибуты (герб, флаг, гимн), право на особый язык и его инкорпорирование в топонимику территории и названия государственных институтов, а также собственные пантеоны культурных героев, значимые региональные праздничные даты и элементы позиционирования места. Рассмотрим их более подробно.
Название или «имя» региона. Имя или наименование сообщества является основополагающим знаком, выделяющим группу среди прочих. Стратегией закрепления этнического в идентификации регионов стало требование включения в название автономии этнонима или самоназвания народа. Самой распространенной практикой формирования названий республик РФ является акцентирование этнонима группы (Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ и др.). Довольно часто в субъекте отражается специфика языка титульной этнической группы. Так, для многих российских автономий характерно нормативное закрепление двойных названий (Марийская Республика - Марий Эл, Северная Осетия -Алания, Чеченская Республика - Нохчийн Республика).
Иногда название региона является результатом политической или культурной борьбы: оно может приобретаться ввиду требования этнических элит в периоды подъема национального самосознания. Волна переименований коснулась, к примеру, российские автономии в довоенное время и стала следствием стремления советских этнографов заменить «русские» обозначения на «исконные» названия народов. В качестве примера можно привести переименование Вотской области в Удмуртскую 1 января 1932 г. благодаря продвижению этой идеи
Вотским облисполкомом и деятельности местной национальной интеллигенции. Так было институционализировано название «удмурт» взамен прежней формы «вотяк»17.
Стремление закрепить за собой монопольное право на использование этнонима в названии региона провоцирует символическую борьбу. В ситуациях, когда два и более субъекта высказывают претензии на право назваться одним именем, неизбежно возникают конфликты. В этом контексте показательной является недавняя история, отражающая претензии на закрепление за собой права на историческое наследие Алании в одноименном названии. Известный исследователь Северного Кавказа В. А. Шнирельман в главе «Быть аланами» рассматривает историю о самоназвании Северной Осетии и его пересмотре и отмечает, что дискуссия в среде интеллектуалов и конкуренция с соседями, актуализировалась в 1994 г. в ходе обсуждения проекта новой Конституции республики. В итоге в ноябре 1994 г. к названию республики официально было добавлено слово «Алания», что наделяло ее «древней государственной традицией и позволяло претендовать на обширные земли, включая Пригородный район»18. Атрибуты аланской истории тогда же и были закреплены в символике региона: на гербе Северной Осетии можно видеть аланского золотого барса на фоне серебряных гор. Казалось бы, формализовав и закрепив за собой название «Алания», регион должен был институционализировать за собой и право на древнее имя. Однако этого не произошло: соседние субъекты (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Южная Осетия) продолжают предъявлять претензии на имя «Алания».
Южная Осетия, будучи непризнанным государством, 9 апреля 2017 г. одновременно с президентскими выборами провела референдум о переименовании республики в Государство Алания. Жителям региона предлагалось ответить на вопрос: «Согласны ли Вы с внесением изменения в часть 1 статьи 1 Конституции Республики Южная Осетия, изложив ее в следующей редакции: “1. Республика Южная Осетия - Государство Алания - суверенное демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения народа Республики Южная Осетия. Названия Республика Южная Осетия и Государство Алания равнозначны”?». По данным ЦИК республики, за переименование проголосовали 80 % избирателей 19. Практически параллельно этому в марте 2017 г. на сайте Change.org была опубликована петиция «Съезду ингушского народа. Аланам: чеченцам, ингушам, карачаевцам, балкарцам» с требо-
4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ ванием «переименовать нынешнюю Республику Ингушетия в Республику Алания». В ответ во Владикавказе прошел митинг против того, чтобы Аланией называлась Ингушетия. Таким образом, конкуренцию за имя можно рассматривать как символическое проявление борьбы за историческое наследие, а также в контексте общей линии осетино-ингушского конфликта.
Символика, герои регионов и этничность. Этнический компонент инкорпорируется в символические атрибуты региона через их фиксацию в региональных гербах, флагах и гимнах. Тем самым этничность объективируется в визуальных метках особости, проявляясь материально.
В научной литературе существуют разные подходы к сущности этнической символики. С точки зрения Э. Смита, символы рассматриваются как ядро культуры народа, позволяющие сохранять и передавать свою особенность поколениям. Э. Хобсбаум рассматривает символику через понятие «изобретенная традиция». Под ней он понимает «совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели - повторение»20. Среди символов национальной идентичности наибольшее значение отводится государственному флагу, гимну и гербу. С помощью них страна заявляет о себе и своей суверенности.
Ключевыми проявлениями этнического компонента в региональной символике становятся несколько закономерностей. Во-первых, визуальным «следом» можно считать присутствие языка титульной группы в символах, например, в написании девизов или названия на языке титульной группы. В символике российских республик довольно часто встречается название региона на языке титульной группы наряду с русским (башк. - Башкортостан, удм. - Удмурт Республика, адыг. - Адыгэ Республик и т. д.).
Во-вторых, присутствуют атрибуты исторической идентичности или этнические маркеры, отражающие традиционные орнаменты, героев, виды традиционной деятельности и пр. На государственном гербе Республики Бурятия, например, представлены цвета национального флага (синий, белый, желтый). В верхней части круга изображено золотое соембо -традиционный символ вечной жизни (солнце, луна, очаг). Нижнюю часть круга обрамляет голубая лента хадак - символ гостеприимства народа Бурятии, центральная часть которой является основанием герба21.
В-третьих, особое значение отводится гимну региона, который может исполняться на языке титульной группы или иметь многоязычную вариацию. Гимн Республики Тыва «Мен - тыва мен» («Я - тувинец»), принятый в 2011 г., отражает особенности регионального характера. Вот его первый куплет: «Одолев перевал священный, / Поднялся я, тувинец, / Обрел из жизни кочевой лучшую долю я, тувинец. / Я - тувинец, / Сын гор с вечными снегами, / Я - тувинка, / Дочь страны серебряных рек...». Здесь в песенной форме можно видеть, что «тувинцы воспринимают Тыву как центр мироздания, как большой отдельный мир, как целую планету»22.
В-четвертых, символика часто связывается с культурными героями территории. Например, на гербе Республики Башкортостан изображен памятник Салавату Юлаеву на фоне восходящего солнца и его лучей. Он вписан в круг и обрамлен национальным орнаментом. Ниже расположено соцветие курая - символ мужества народов 23. Региональная символическая политика связана с почитанием народных героев, представителей титульной группы24.
Язык, религия титульной группы и этничностъ. Наравне с традиционными этническими символами, закрепленными в гимнах, флагах и гербах автономий, важными аспектами, специфицирующими различия территорий, являются религия и язык. Чаще всего именно два этих маркера, усиливая друг друга, определяют уникальность территории. Вместе с тем можно выделить ряд автономий, для которых сильнее оказывается только один из них. Так, для Чеченской Республики характерным идентификатором становится религиозный фактор - суннитский ислам. Образ мусульманского региона активно поддерживается и продвигается региональными элитами (в г. Грозном построена крупнейшая в Европе соборная мечеть им. Ахмата Кадырова «Сердце Чечни», а основные региональные праздники вписаны в религиозный календарь). Интересным примером значимости религии является Республика Калмыкия. Для калмыков важной специфицирующей особенностью является буддизм: Калмыкия - единственный регион в Европе, населенный буддистами.
4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ Здесь живут 320 тыс. чел. - в основном это потомки золотоордынцев, которые решили не возвращаться на родину после отступления монгольских ханов из Руси25; буддизм, а не язык, является доминирующим идентификатом этнической идентичности калмыков 26. К. Илюмжинов, будучи президентом республики, даже построил в Калмыкии самый крупный в Европе буддийский храм, а Далай-лама принимал участие в его освящении, тем самым закрепив за ним статус центра европейского буддизма27. Родным калмыцким языком владеют менее 44 % калмыков, в общении доминирует русский язык. Калмыкия - русскоязычный регион. Это объединяющий, контрконфликтогенный фактор 28.
Во многих республиках активно поддерживаются традиционные верования коренных народов. Например, традиционной религией алтайцев считается шаманизм. В начале XX в. на Горном Алтае начала возникать новая религиозная идеология «белая вера» - бурханизм. В его основе лежали элементы исторических мифов алтайского народа. На основании изучения имеющихся исторических материалов ученые пришли к выводу, что «белая вера» - ак дъанг (ак буркан (нг) представляет собой религиозную систему, органично включающую в себя традиции центрально-азиатского буддизма, древнетюркские «тенгрианские» и шаманские обряды и культы29. По мнению некоторых экспертов, «белая вера - фактор раздробления алтайцев»30. В целом сосуществование различных религий оценивается позитивно: «стабильность удается сохранить за счет особых отношений, которые здесь сложились исторически. Пересеклись все три мировые религии, которые вынуждены были жить бок о бок, уживаться»31.
В большинстве случаев именно язык является маркером идентичности. Это справедливо по отношению к российским этническим регионам, для которых государственные языки титульных народов - это важные символы идентичности сообществ. В число значимых региональных праздников включены дни языков коренных народов республик (16 апреля -Всемирный день эрзянского и мокшанского языков, 25 апреля - День чеченского языка, 15 мая - День осетинского языка и литературы и т. д.).
Во всех российских республиках, за исключением Карелии 32, язык (языки) титульной группы имеет государственный статус и используется наравне с русским. Изучение национального языка включается в образовательные программы. В одних регионах оно имеет обязательный характер, в других осуществляется факультативно.
Языковая политика часто становится точкой конфликта в республиках33. В Татарстане изучение в школе в обязательном порядке всеми детьми татарского языка было негативно воспринято частью населения республики. В 2011 г. недовольство вылилось в акции протеста34. Аналогичная ситуация складывается в Республике Коми: «во всех имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных организациях изучение коми и русского языков как государственных языков Республики Коми является обязательным в соответствии с законодательством»35. Данная политика также вызывает недовольство у многих жителей региона 36.
Требование обязательного знания родного для титульной группы языка рассматривается как необходимое условие сохранения региональной специфики и идентичности титульного этноса. Во многих республиках, где данная норма отсутствует, лидеры интеллигенции ратуют за ее установление. Так, идея об обязательном изучении бурятского языка была почти реализована, однако Депутаты Хурала Бурятии подавляющим большинством утвердили поправки в республиканский закон «Об образовании», которые не предусматривают формулировки об обязательном изучении бурятского языка в школах республики37. По мнению экспертов, это было странным решением, если учесть, что подавляющее большинство депутатов - буряты 38.
На заседании Совета по делам национальностей при Президенте РФ летом 2017 г. В. В. Путин заявил о недопустимости принудительного изучения языков народов России39, что означало пересмотр обязательного изучения языка в сторону факультативных практик. Соответственно, стоит ожидать усиления языковой политики в республике в большей степени как элемента брендовой атрибутики.
Топонимика территории, названия государственных институтов и этничность. Этничность может проявляться в институциональном дизайне, в том числе названиях политических институтов, существующих региональных политических партий и региональных национальных движений.
В России неоднократно поднимался вопрос об унификации названий парламентов российских регионов, но безрезультатно. На сегодняшний день в названиях законодательных органов республик больше всего «Государственных Собраний» и «Государственных Советов». Этнический компонент напрямую содержится в следующих названиях: Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, Государственное Собрание -Курултай Республики Башкортостан, Народный Хурал Республики Бурятия, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва.
Поскольку в России запрещено создание политических партий по национальному или религиозному признаку, этнические маркеры можно встретить в названиях общественных движений и культурных автономий ЭРА. Например, в Республике Алтай действуют два альтернативных и конфликтующих друг с другом курултая: официальный Курултай алтайского народа и «Алтай калыктын Курултайы» (название является переводом Курултая алтайского народа на алтайский язык (Парламент)40). Наиболее влиятельным в Республике Коми является межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», в Карачаево-Черкессии - Совет старейшин черкесского народа и молодежное «Адыгэ хасэ». Названий и примеров подобных организаций можно приводить еще много, для нас же важен, в первую очередь, именно факт присутствия в них этничности.
Топонимика является одним из факторов этнической памяти. Этничность вплетается в нее вместе с иными культурными кодами, маркирующими культурное пространство современного российского города (Парламент)41. Происходит это через использование языка в названиях, традиционных цветов и орнаментов.
История автономии и особая ментальность. Этничность проявляется в нарративах, например, историях ЭРА. При осмыслении особенности региональной общности, отличающей ее от других, присутствует этничность. Она воспринимается в качестве маркера особости среди членов сообщества в дискурсе ЭРА. Например, это культивируется через разнообразные своды моральных правил или кодексы чести народов. Горские
народы Северного Кавказа культивируют в них такие ценности, как воинская честь, почитание старших и др. В основе духовно-нравственной культуры адыгов и кабардинцев лежит система моральных ценностей под общим названием Адыгэ хабзэ (Парламент)42. Считается, что исторически сложился чеченский «кодекс чести» «Къонахалла», описывающий качества и традиции чеченского народа. Эксперты отмечают особый культурный план автохтонного населения Северной Осетии, которое «более открытое и воспринимает другого хорошо»43. Подобные же документы есть в Туве («Кодекс чести мужчины Тувы»44, «Свод заповедей матерей Тувы»45), в Якутии (Сиэр туома) и других регионах.
Этничность может присутствовать в праздничных памятных исторических датах автономии, например, обязательное наличие даты получения автономии в календаре важных дат сообщества (день республики). Этническая специфика акцентируется в законах, поздравительных дискурсах и речах по случаю этих дат.
Закон Республики Татарстан от 19 февраля 1992 г. № 1448-ХП «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» устанавливает следующие региональные праздники: День родного языка -26 апреля, День Республики Татарстан - 30 августа, Курбан-байрам, День Конституции Республики Татарстан - 6 ноября, русский народный праздник «Каравон», татарский народный праздник «Сабантуй». Особо стоит отметить доминирование в календаре национальных и конфессиональных праздников. В последующих редакциях закона к региональным праздникам были добавлены Ураза-байрам и День официального принятия Ислама Волжской Булгарией -21 мая46. По подсчетам историков, именно 21 мая 922 г. в Волжскую Булгарию, находившуюся на территории среднего Поволжья, прибыло арабское посольство для закрепления статуса исламской страны47.
Присутствие этнического дискурса в праздничном календаре может включать культивирование культурных героев, а также имиджевые успехи ЭРА. Очень показательно в этой связи установление Дня бабушки,
4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ который отмечается ежегодно 26 мая в Удмуртской Республике. Данный праздник создан в честь успеха «Бурановских бабушек» на конкурсе песни «Евровидение 2012» (коллектив занял 2 место на музыкальном конкурсе в мае 2012 г. в г. Баку). Согласно Указу Президента Республики Удмуртия, День бабушки в регионе установлен в целях сохранения семейных традиций, повышения социальной значимости старшего поколения»48. В этом же ряду стоит учреждение 8 сентября 2016 г. Дня белых журавлей в Республике Дагестан - праздника в честь известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и одновременно «памяти павших на полях сражений»49.
Позиционирование республики на основе этничности. Этнический компонент становится важным основанием для конструирования уникальности региона и лежит в основе интересных имиджевых проектов. Исключением не является и оформление претензий на столицу на основе этнокультурной компоненты. Среди регионов России, в которых проживают финно-угорские народы, при создании позитивного имиджа территории этот факт в наибольшей степени используется в республиках и автономных округах. При этом тема столичности оказывается актуализированной в республиках Коми и Мордовии50. Не смотря на то, что победу в негласном соревновании за право быть центром финно-угорского мира одержал, по мнению экспертов, Саранск, на политическом уровне используется этнический маркер в позиционировании Республики Коми («Центр финно-угорского движения», «здесь прошел первый конгресс»51).
Обсуждение и заключение. Этнические маркеры являются важными идентификатами, определяющими специфику республик. Во-первых, они фиксируют срез особенностей сообщества, который может быть описан в объективированных категориях, они более понятны людям и воспринимаются как «свои» в силу ощущаемого присутствия в региональной жизни. Маркеры этничности, таким образом, связаны с культурно-психологическим ядром ценностей регионального социума, определяют сложившиеся ментальные особенности, традиции и обычаи жителей. Во-вторых, этнические маркеры региональной идентичности могут
приносить символические дивиденды: привлекают туристов, помогают выстраивать межрегиональные связи, способны вписать регион в более широкий макрорегиональный субъект (финно-угорский мир, например).
На основе выделенных проявлений этничности (название региона, символические атрибуты (герб, флаг, гимн), право на особый язык и его инкорпорирование в топонимику территории и названия государственных институтов, а также собственные пантеоны культурных героев, значимые региональные праздничные даты и элементы позиционирования места) можно судить о степени выраженности этнического компонента во внутреннем региональном дискурсе и в практиках позиционирования региона. Это может послужить основой для поиска закономерностей в соотношении этнического и территориального оснований идентификации регионов.
Можно констатировать, что во всех республиках РФ титульный этнос и связанные с ним феномены становятся важнейшими атрибутами региональной идентичности. Однако их функциональная роль и вариации трактовок отличаются. В некоторых республиках наблюдается тренд в сторону утилитарной инструментальности, который означает фокус в сторону лишь формального присутствия этничности в идентичности региона (например, Республика Карелия). В таком случае этнические особенности населения становятся одним из компонентов общей уникальности региона наряду с географией, историей, культурой и др. В этом смысле прослеживается зависимость от соотношения этнических групп в составе населения: чем выше доля титульного этноса, тем выше степень значения этнических маркеров идентичности республики.
Однако важно понимать, что этнические маркеры могут становиться и точкой конфликта, разделяющей региональное сообщество. Политизация языка и религии титульной группы является основополагающей темой идентификационных конфликтов в республиках РФ. Поэтому стоит особо отметить роль этнического компонента как важного ресурса позиционирования региональной уникальности сообщества, в том числе через культивирование идеи стабильности, многосоставности и мира в регионе. Основные смыслы, транслируемые сообществом, фиксируются в республиканских программах по гармонизации межнациональных отношений и направлены на расширение межнационального диалога, поддержание мира и укрепление национального единства. В этом курсе на грамотное управление «осознанием многообразия» лежит важное условие укрепления целостности страны и общероссийской гражданской идентичности.
Практическая значимость данного исследования связана с анализом особенностей управления межэтническими отношениями и проведением политики идентичности в территориальном разрезе. Материалы исследо-
4^ Том 26, № 4, 2018 РЕГИОНОЛОГИЯ вания могут быть использованы на уровне деятельности федеральных, региональных и местных органов власти при выработке управленческих решений.
Список литературы Маркеры этничности в региональной идентичности республик России
- Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами «идентичности» // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 61-115. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9082677 (дата обращения: 08.06.2018).
- Назукина М. В. Структурные уровни региональной идентичности в современной России // Регионология. 2011. № 4. С. 12-18. URL: http://regionsar. ru/ru/node/809 (дата обращения: 08.06.2018).
- Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе // Логос. 2002. № 6. С. 67-116. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27679628 (дата обращения: 08.06.2018).
- Бурдье П. Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи «региона» // Ab imperio. 2002. № 3. С. 45-61. URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=17958419 (дата обращения: 08.06.2018).
- Paasi A. Region and place: regional identity in question // Progress in Human Geography. 2003. Vol. 27, issue 4. Pp. 475-485. https://doi. org/pr DOI: 10.1191/0309132503ph439