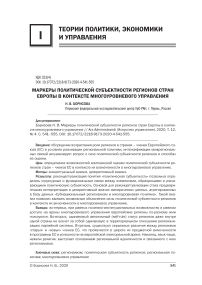Маркеры политической субъектности регионов стран Европы в контексте многоуровневого управления
Автор: Борисова Н.В.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Теории политики, экономики и управления
Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение: обсуждение возрастания роли регионов в странах - членах Европейского союза (ЕС) в условиях реализации региональной политики, интенсификации межрегиональных связей актуализирует вопрос о силе политической субъектности регионов и способах ее оценки. Цель: определение возможностей комплексной оценки политической субъектности регионов стран - членов ЕС в контексте их вовлеченности в многоуровневое управление. Методы: концептуальный анализ, дескриптивный анализ. Результаты: реконцептуализация понятия «политическая субъектность» позволила определить структурные и функциональные связи между элементами, образующими и усиливающими политическую субъектность. Основой для реконцептуализации стала предварительная интерпретация и дескриптивный анализ эмпирических данных, агрегированных в базу данных «Субнациональный регионализм и многоуровневая политика». Такой анализ позволил выявить возможные объяснения силы политической субъектности регионов в контексте их включенности в многоуровневое управление. Выводы: во-первых, при равных политико-институциональных возможностях и равном доступе на арены многоуровневого управления европейские регионы по-разному ими пользуются. Во-вторых, одинаковый автономный (self-rule) статус регионов даже внутри одной страны не влечет за собой одинаковую в территориальном отношении регионализацию партийной системы. В-третьих, существуют серьезные различия между регионами «старых» и «новых» членов ЕС, что проявляется в широте их предметной включенности в программы ЕС и успешности на европейской электоральной арене. Наконец, язык чаще, нежели религия, выступает основанием региональной идентичности и связанного с нею регионализма.
Регионализм, политическая субъектность регионов, региональная политика, многоуровневое управление
Короткий адрес: https://sciup.org/147246670
IDR: 147246670 | УДК: 323(4) | DOI: 10.17072/2218-9173-2020-4-541-555
Текст научной статьи Маркеры политической субъектности регионов стран Европы в контексте многоуровневого управления
Обсуждение возрастания роли регионов в странах – членах Европейского союза (ЕС) в условиях реализации региональной политики, интенсификации межрегиональных связей актуализирует вопрос о силе политической субъектности регионов и способах ее оценки. В свою очередь, определение возможностей комплексной оценки политической субъектности регионов стран – членов ЕС в контексте их вовлеченности в многоуровневое управление требует реконцептуализация понятия «политическая субъектность». На основе интерпретации и дескриптивного анализа эмпирических данных, агрегированных в базу данных «Субнациональный регионализм и многоуровневая политика»1, предлагается сформулировать возможные объяснения силы политической субъектности регионов в контексте их включенности в многоуровневое управление.
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Концепция регионализма, предложенная М. Китингом в работе «Новый регионализм в Западной Европе», базируется на важном допущении: регионы одновременно выступают и как пространства действий, и как акторы, участие которых в политике выходит за пределы / границы национального государства и делает их [регионы] участниками многоуровневого управления (Китинг, 2003). Многоуровневое управление в полной мере институционализировано в современной Европе и является институциональным каркасом и поддерживающей практикой Европейского Союза (ЕС) (Smith, 2004, p. 740–741). Под многоуровневым управлением в исследовательской литературе понимается, как правило, совокупность практик сетевого взаимодействия правительств на различных территориальных уровнях – национальном, супрана-циональном и субнациональном.
Ч. Алкантара, Дж. Брощек и Дж. Неллес пишут, что одним из первых, кто связал понятия «регионализм» и «многоуровневое управление», был Г. Маркс. Под многоуровневым управлением он понимает практики перехода «власти и принятия решений в ЕС от системы правительственной иерархии к “системе непрерывных переговоров между вложенными правительствами на нескольких территориальных уровнях”» (Alcantara et al., 2016, p. 34). И. Чихарев и М. Рамонова подчеркивают, что концепт многоуровневого управления, предложенный Г. Марксом, объясняет логику европейской интеграции и роль субнациональных правительств (в широком смысле – регионов) в процессе принятия решений, сопряженных с нею (Чихарев и Рамонова, 2011, с. 5). Эти же авторы утверждают, что при всей дискуссионности понятия «многоуровневое управление», общим для разных подходов является указание на то, что это такая система организации управления, при которой «власть распространяется на несколько уровней и может даже передаваться
Борисова Н. В. Маркеры политической субъектности регионов стран Европы в контексте многоуровневого управления неправительственным акторам» (Чихарев и Рамонова, 2011, с. 7). Конвенционально также представление о таких характеристиках многоуровневого управления, как институциональная взаимозависимость супранациональ-ных, национальных и субнациональных уровней, а также институционали-зированность взаимодействия правительственного и неправительственного секторов. Б. Питерс и Д. Пьер обращают внимание на то, что акторы, включенные в многоуровневое управление, едва ли сорасположены и взаимодействуют исключительно в иерархической логике: напротив, их взаимодействие организовано более сложным образом, имеющим в том числе и горизонтальную (сетевую) перспективу (Peters and Pierre, 2002, p. 6). На это же указывает Е. Громогласова, отмечая, что концепция многоуровневого управления содержит внутреннее противоречие, поскольку наличие множества уровней отсылает к иерархичности, а понятие «управление» (“governance”) подразумевает «более вовлекающий и объемлющий процесс координации, чем это предполагает правительственный подход» (Громогласова, 2009, с. 14). Значимым организующим многоуровневое управление условием является принцип субсидиарности (или субсидиарной ответственности), согласно которому «принятие решений в максимально возможной степени приближено к гражданам», что специально оговаривается в Маастрихтском договоре, вступившем в силу в 1993 году (Степанова, 2017, с. 243). Конституирование данного принципа вкупе с усилением роли Комитета регионов в качестве инструмента контроля за его соблюдением способствовало запуску децентрализации (Полулях, 2014, с. 265), одним из эффектов которой стало возрастание роли регионов государств – членов ЕС. Именно обсуждение возрастания роли регионов отсылает нас к вопросу о силе их политической субъектности как таковой и способах ее оценки.
Целью настоящего исследования стало определение возможностей комплексной оценки политической субъектности регионов стран – членов ЕС в контексте их вовлеченности в многоуровневое управление. Эмпирическую основу составили данные, агрегированные в базу данных «Субнациональный регионализм и многоуровневая политика», подготовленную в рамках научноисследовательского проекта Российского научного фонда «Субнациональный регионализм и динамика многоуровневой политики (российские и европейские практики)».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Моделируя политическую субъектность региона: концептуальное уточнение
Обращаясь к вопросу о маркерах и проявлениях политической субъектности, следует понимать, что этот вопрос не имеет, вероятно, конвенциального методологического решения. Кроме того, в современной академической литературе понятие «политическая субъектность» используется в разных контекстах. Можно выделить две магистральные линии в практике применения данного понятия в исследованиях политики. Во-первых, для фиксации и опи- сания политической активности и вовлеченности в политико-властные отношения различных социальных групп и страт или институтов и организаций (Кучеров, 2010; Чернов, 2011; Пустошинская, 2011; Салгириев, 2013; Вилков и Шестов, 2014; Шайхитдинова, 2014; Грабевник, 2018). А во-вторых, для увязывания понятия «политическая субъектность» с категорией «суверенитет» и практикой деятельности с позиции государства и институтов государственной власти как в поле внутренней, так и внешней политики (Конуров, 2010; Минаев, 2016; Першуткин, 2016). Наряду с обращением к проблеме субъектности государства в исследовательской литературе можно выделить работы, авторы которых обсуждают вопрос о политической субъектности регионов как административно-территориальных единиц и политических пространств в составе государств. Речь идет как о собственно политической активности и вовлеченности регионов в общенациональную политику (Володин, 2012), так и о системе институциональной настройки взаимоотношений центра и регионов. В некоторых такого рода работах авторы изучают сущность политической субъектности, ее природу и маркеры проявления.
Например, К. Сулимов предлагает определять политическую субъектность как «активность автономии в конституировании, воспроизводстве и возможном изменении собственного статуса и связанных с ним объема и характера преференций» (Сулимов, 2017, с. 206). Такое определение автор дает, во-первых, не всякому региону, а только такому, который имеет особый статус в составе федерированного или федеративного государства или интенции к его получению или изменению. Очевидно, что за рамками такого прочтения политической субъектности региона остаются случаи регионов как административно-территориальных единиц унитарных, слабо децентрализованных в политико-институциональном отношении государств. Однако в контексте региональной политики ЕС ее участниками и бенефициарами являются регионы всех стран – членов ЕС вне зависимости от типа их государственного устройства. Это обстоятельство обусловливает необходимость реконцептуализации понятия «политическая субъектность» применительно к регионам как субнациональным единицам.
А. Полосин связывает понятия «политический регион» и «политическая субъектность», определяя первую как социально-территориальную и / или культурно-историческую общность, которая является самостоятельной и организованной политически активной группой в составе государств, что свидетельствует об основании его конституирования, способе функционирования и таком его квалифицирующем признаке, как политическая субъектность (Полосин, 2010, с. 211–212). К свойствам и признакам политического региона он относит системность, территорию, население, региональную идентичность и экономику. При этом А. Полосин считает, что политическая субъектность региона является объектно-субъектным качеством. С его точки зрения, природно-географические характеристики территории, социальнодемографические и этноконфессиональные особенности структуры населения региона, а также его социокультурная специфика составляют объективную основу политического региона. В свою очередь, его субъективное измерение образуют региональная идентичность, менталитет, наличие лидеров, групп и организационных структур, которые способны выступать от имени региона, артикулировать, продвигать и защищать интересы регионального сообщества. Обращаясь к вопросу об элементах политической субъектности регионов России, А. Полосин называет такие ее элементы, как название региона, его нормативно закрепленный политико-институциональный статус, полномочия и компетенции региона (Полосин, 2010, с. 112–136). Однако автор идет описательным образом, не фокусируя внимание на том, как структурно, каузально и функционально эти элементы связаны. Впрочем, следует отметить, что это и не входило в задачи его исследования. Между тем, если в центр модели политической субъектности региона ставить, например, территорию, возникает вопрос, всегда ли островной характер региона будет обусловливать его большую политическую автономность, проявляющуюся в наличии регионалистских партий. Таковые есть и весьма активы в оспаривании статуса региона, например, на Корсике (Франция) или на Канарах (Испания), но таковых нет в испанской материковой Эстремадуре и на Балеарских островах. Сам по себе политико-институциональный статус региона связан, как это уже отмечалось выше, с конфигурацией административно-территориального устройства страны; но указание на эту сопряженность не отвечает на вопрос о том, почему регионы даже в пространстве одной страны могут иметь разный по своему весу статус политической автономии (self-rule)2. Трудности с определением структурно-функциональных характеристик политической субъектности региона требуют не только объяснения сущности политической субъектности, но и определения параметров для оценки ее силы. Последнее нуждается в подборе релевантных для сравнительного анализа эмпирических данных.
Маркеры силы и репрезентации политической активности и участия регионов в многоуровневом управлении: эмпирические данные
Политическая субъектность тесным образом связана с феноменом политической власти, прочтение которого разнообразно в различных теоретикометодологических традициях. Оставляя за скобками характеристику содержания большой дискуссии о власти (Ледяев, 2001), следует отметить, что политическая власть является производной от политической воли. Этот подход отсылает нас к пониманию субъектности как вовлеченности, активности в обсуждении и принятии политических решений. Речь идет о таких характеристиках, как наличие в распоряжении у участника / агента политики «политических ресурсов, которые заставляют других с ним считаться» (Першуткин, 2014, с. 80). Политическая субъектность, таким образом, проявляется в способности актора инициировать политические процессы, обсуждение вопросов, взаимодействие с другими участниками политики.
С. Першуткин, рассуждая о субъектах и субъектности в политических коммуникациях, формулирует очень важную для целей настоящего исследо- вания идею о том, что субъектность является как управленческой, так и мировоззренческой позицией (Першуткин, 2014, с. 85). Последнее – мировоззренческая позиция – в контексте обсуждения политической субъектности регионов требует учета политико-идеологического измерения их политической активности. К. Сулимов пишет, что субъектность региона (этнической региональной автономии) реализуется через участие в принятии решений на разных аренах политико-территориальных взаимодействий – международной, национальной, региональной и субрегиональной, где контрагентами выступают разнообразные акторы и агенты, среди которых и политические партии (Сулимов, 2017, с. 217). Именно через партийные программы как максимально публичные документы транслируются и манифестируются регионалистские ценности и идеи, составляющие остов регионалистских идеологий. В этом случае можно говорить не только о вовлеченности регионов в многоуровневое управление, но о сопровождающих это участие практиках артикуляции и манифестации интересов региона (регионального сообщества) на различных аренах политического взаимодействия. В рамках нашего исследования в базу данных «Субнациональный регионализм и многоуровневая политика» включается такой блок характеристик, как «цели регионалистских партий региона». Применительно к другим источникам в качестве примера следует упомянуть базу данных «Regional Manifesto Project» (RMP)3 и исследования, выполненные на ее основе участниками проекта RMP (Alonso et al., 2012; Alonso et al., 2013). Данные, агрегированные в RMP, позволяют охарактеризовать динамику регионалистских требований в партийных манифестах партий, их долю в наборе иных требований, включенных в электоральные программы региональных партий.
Но на политическую субъектность можно смотреть не только посредством шмиттовской оптики, предполагающей фиксацию проявления политической воли через конфликт, спор, борьбу. Субъектность региона может реализовываться в коалиционном и, что важно, в партнерском и сетевом взаимодействии, поддерживаемом сложной практикой межрегиональных и трансрегиональных программ и политик ЕС. Иными словами, сила политической субъектности регионов проявляется через их вовлеченность в программы регионального развития и сотрудничества. И, конечно, это то, что включает, скорее, типичные административные рутинизированные практики конкурентной борьбы за «европейский пирог». Способом измерения активности регионов в этой борьбе может быть оценка объема распределенных национальными правительствами между регионами средств, поступающих по программам структурных фондов ЕС. Например, созданный в 1975 году Европейский фонд регионального развития (ЕФРР) оказывает финансовую поддержку региональным программам и инициативам с целью сглаживания диспропорций в развитии регионов стран ЕС. При этом распределение ресурсов для поддержки этих программ организовано таким образом, что в приоритете находятся программы, реализуемые регионами нескольких стран.
Инструменты финансовой помощи и поддержки региональной политики в странах ЕС направлены, главным образом, на достижение цели, связанной с укреплением экономической и социальной сплоченности в ЕС путем «подтягивания» регионов с относительно невысоким и даже низким уровнем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения к среднему в союзе уровню. Такой подход решает задачи развития и поддержки трансграничного и межрегионального сотрудничества, обеспечивающего горизонтальное сетевое взаимодействие.
Данные о реализации программ ЕФРР агрегированы на сайте Европейской комиссии и позволяют измерить эффективность программ поддержки регионов через такой показатель, как индекс региональной конкурентоспособности. Данный индекс дает возможность оценить и ранжировать регионы по отношению друг к другу с точки зрения их конкурентных преимуществ и потенциала социального и экономического развития. На основе 70 показателей за 10 лет этот индекс оценивает способность региона (уровень NUTS 2) предложить привлекательную и устойчивую среду как для бизнеса, так и для жизни и работы граждан4. Использование этого индекса вкупе, например, с RAI позволяет зафиксировать неоднозначность связи между уровнем региональной автономии и уровнем региональной конкурентоспособности. Так, например, высокий уровень региональной автономии по RAI (15) характерен для всех земель Германии, регионов Италии и только двух из семнадцати регионов Испании – Страны Басков и Наварры. Между тем по своей конкурентоспособности эти регионы отличаются. Так, индекс конкурентоспособности немецких земель варьируется между 0,2 и 1, Страна Басков оценена в 0,1, а индекс Наварры имеет отрицательное значение и составляет – 0,21. Что касается способности итальянских регионов конкурировать за капиталы и людские ресурсы, то ни один из них не преодолевает нулевого значения. При этом южные регионы – Сицилия и Калабрия – значительно менее успешны, чем Наварра (их индекс ниже –1), а северная Эмилия-Романья находится в одной когорте с испанской Наваррой, имея индекс – 0,18. Можно ли из этого сделать вывод, что значение имеют характеристики региональной экономики, например, уровень ВРП на душу населения? Вероятно, да. Например, у близких по индексу конкурентоспособности Эмилии-Романьи и Наварры этот показатель находится на близком уровне и составляет 35 900 EUR и 33 700 EUR соответственно5. Если мы возьмем регионы с показателем RAI на уровне 10, то это будут регионы Дании и Венгрии. Все датские провинции имеют положительный индекс конкурентоспособности, в то время как венгерские – отрицательный. При этом вариативность ВРП на душу населения в первом случае будет от 26 100 EUR до 49 400 EUR, а во втором – от 9 100 EUR до 41 800 EUR6. Тогда возникает вопрос: «Имеют ли значение опыт участия в региональных программах ЕС и продолжительность членства в ЕС?».
Другой возможный показатель вовлеченности в многоуровневое управление, свидетельствующий о потенциале и реализации [силы] политической субъектности – это возможность и практика обращения регионов в лице их правительств в Европейский суд, в том числе через призму предмета споров и судебных исков (налоговые вопросы, бюджет, инфраструктура, социальная политика и т. д.), а также сторон спора – другие регионы, национальное правительство или структуры ЕС. Формально любой из регионов страны – члена ЕС имеет возможность обратиться в Европейский суд вне зависимости от своего статуса (субъект федерации, автономный регион в составе федерированного государства или административно-территориальная единица в составе унитарного). И хотя все регионы имеют право обращаться в Европейский суд, только 40 из них совершали это хотя бы раз. Эти регионы находятся в Германии, Италии, Испании, Франции, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Португалии, Великобритании. Примечательно, что из британских регионов таким правом за период с начала 2000-х годов по май 2020 года воспользовалась только Северная Ирландия. Больше других в Европейский суд обращалась земля Баден-Вюртемберг (Германия). Наиболее активны (суммарно по количеству дел и числу регионов-аппликантов) регионы Италии и Испании, в том числе и те регионы, в которых нет регионалистских партий. Например, итальянская Апулия или испанские Андалусия и Астурия. Последнее, вероятно, указывает на тот факт, что реализация политической субъектности происходит не только на различных уровнях – региональном, национальном, европейском – электоральной, парламентской или судебной арен, но и имеет большее или меньшее политико-символическое и политико-административное содержание.
Как правило, при обсуждении возрастания роли регионов как в европейской политике, так и политическом пространстве национального государства упоминаются решения и практики, связанные с институционализацией и последовательным усилением роли Комитета регионов, участием регионов в работе Европейской комиссии, вхождением их представителей в состав делегаций и комиссий министерств и ведомств, работой офисов регионов в Брюсселе. Опять же пристальное внимание к регионам внутри отдельных государств свидетельствует о том, что далеко не все регионы в одинаковой степени «представлены» в политическом пространстве ЕС. Например, в случае Хорватии только 11 из 21 регионов страны представлены в Ассамблее европейских регионов7. В их числе как ожидаемые Истрия, Далмация или Баранья, которые в 1990-е годы претендовали на большую автономию, так и никак не артикулировавшие регионалистскую повестку Вараждин-ская, Бродско-Посавская или иные жупании, где формально даже не было и нет региональных партий или электоральных коалиций. При этом репрезентация практически всех регионов Хорватии в публичном пространстве имеет яркое символическое наполнение: региональная история, отсылка к особенностям культуры и идентичности – обязательная составляющая сайтов этих регионов. Впрочем, само по себе наличие рассказа об особенностях истории, наличие герба, флага или гимна еще не говорит о силе регионализма как основании для политической субъектности. Эти символы получают политическое звучание, включаясь в дискурс о самости и проявляясь в практиках (ре)конструирования идентичности и (ре)фреймирования автономности. Применительно к Хорватии ярким примером выступает Истрийская жупа-ния, ведущая политическая партия которой – Истрийский демократический союз (ИДС) – имеет эмблему, на которой изображены три козы. Эти три козы символизируют три Истрии – словенскую, итальянскую и собственно хорватскую, объединенные общей историей, культурой, менталитетом и итальянским языком. В 1990-е годы после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Истрийская жупания в лице ИДС продвигала проект создания Истрии как единого в культурном и потенциально языковом отношении региона. Однако интенции хорватской Истрии не нашли поддержки у ее итальянской и словенской сестер, и начиная с середины 2000-х годов ИДС, будучи ведущей политической силой Истрии, в своих программных документах манифестирует преимущественно идею трансграничного сотрудничества, а себя репрезентует в качестве «моста» для Хорватии в европейское пространство. И хотя вопрос о статусе итальянского языка как конструирующего истрийскую идентичность отошел на периферию региональной повестки, он остается символически значимым в регионе (Tomaić, 2018).
Предметными направлениями политических решений и политики регионов стран – участниц ЕС выступают как внешняя политика, так и внутриполитические вопросы – экология, образование, транспортная инфраструктура, здравоохранение и т.д. Представляется, что маркером политической субъектности регионов стран ЕС в контексте многоуровневого управления является не только их вовлеченность в европейские дела, но и их активность в использовании политико-институциональных арен и механизмов в обеспечении и защите своих интересов. При этом успех представительства региона в Европейском парламенте ограничен, во-первых, особенностями партийной системы, которая может быть в большей или меньшей степени регионализо-ванной, а, во-вторых, «электоральной силой» региональных партий, далеко не все из которых получают представительство в региональном парламенте. Например, из 15 регионалистских партий Испании (9 из 19 регионов) только шесть партий (Наварры, Страны Басков и Каталонии) имеют по результатам выборов 2019 года депутатские мандаты в Европейском парламенте8. В Хорватии из 11 регионалистских партий имеет мандат только одна – ИДС9. Регионалистские партии Франции или, например, Нидерландов не имеют мандатов вообще.
Если количество мандатов, которые разыгрываются на выборах в Европейский парламент, ограничено, то право, например, обращения в суд в некотором смысле «безгранично». Речь идет о вовлеченности регионов во взаимодействие с национальными и общеевропейским органами власти, которая может быть оценена через наличествующие институциональные возможности. Принципиально важным для оценки является само наличие институциональных арен, которые следует рассматривать как потенциал субъектности. Например, из 426 европейских регионов уровня NUTS-2 право обращаться с жалобами на центральные власти в Конституционный суд есть у 102 регионов (Бельгия, Германия, Испания, Италия, Австрия, Португалия, Финляндия, Великобритания, Сербия, Швейцария, Молдова). Из них, согласно данным Венецианской комис-сии10, только 19 регионов время от времени пользуются таким правом – Берлин в Германии, 7 регионов Испании и 11 регионов Италии. Конечно, в базу Венецианской комиссии попадают только наиболее значимые в социальнополитическом отношении дела, а, значит, необходимо обращение и агрегирование информации из национальных баз данных о судебной практике.
Принципиально важным в таком видении субъектности является способность и возможность политического актора не только выступать в качестве инициатора или зачинщика политики как борьбы за власть, но его способность и обладание ресурсами для управления инициированными процессами. Следуя этой логике, можно предположить, что маркерами политической субъектности являются также способность быть автономным в репрезентации, (ре)констру-ировании, (ре)фреймировании и оценивании себя, контрагентов, контекста.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные в исследовании примеры и собранные в базе «Субнациональный регионализм и многоуровневая политика» данные позволяют обозначить несколько исследовательских перспектив, обусловленных обнаруженным разноформатным региональным разнообразием в практиках проявления силы политической субъектности.
Во-первых, даже при, казалось бы, равных политико-институциональных возможностях и равном доступе на арены многоуровневого управления европейские регионы по-разному ими пользуются. Факторы какого порядка обусловливают актуализацию потенциала политической субъектности? Во-вторых, одинаковый автономный (self-rule) статус регионов даже внутри одной страны не влечет за собой одинаковую в территориальном отношении регионализацию партийной системы: политические партии регионалистского толка как проводники регионализма и субъекты электоральной политики возникают не везде, с одной стороны, а с другой – их электоральная сила никак не связана с силой проявления региональной идентичности, что хорошо показывают, например, португальские регионы. Что, кроме силы идентичности, уровня экономического развития, запускает процесс переформатирования регионализма как культурного феномена в политический регионализм как идеологию и движение? В-третьих, очевидны серьезные различия между регионами «старых» и «новых» членов ЕС: это проявляется не столько в уровне региональной конкурентоспособности, сколько в широте предметной включенности в программы ЕС и успешности на европейской электоральной арене. Есть ли различия в силе политической субъектности и чем они обусловлены внутри этих групп? Усиливают ли политическую субъектность друг друга партнеры по этим программам? И, наконец, в-четвертых, большая часть регионов имеет языковую специфику: язык чаще, нежели религия, выступает основанием региональной идентичности. Но при каких условиях язык, как культурное основание особенности региона в манифестациях регионализма, выступает в качестве предмета борьбы или торга, а где и почему играет исключительно вспомогательную символическую роль? Как связаны, например, языковые требования и требования финансовой / бюджетной / политико-институциональной автономии? Эти и, вероятно, другие вопросы ждут своих исследователей, а поиск ответа на них требует обращения к методам количественного анализа.
Исследование выполнено в Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект № 19-18-00053 «Субнациональный регионализм и динамика многоуровневой политики (российские и европейские практики)».
Список литературы Маркеры политической субъектности регионов стран Европы в контексте многоуровневого управления
- Вилков А. А., Шестов Н. И. Политическая субъектность региональных социумов и элит // Власть. 2014. Т. 22, № 7. С.186-191.
- Володин А. В. О политической субъектности регионов РФ // Власть. 2012. № 6. С. 121-124.
- Грабевник М. В. Европейский фактор динамики политической субъектности Шотландской национальной партии // Ars Administrandi (Искусство управления). 2018. Т. 10, № 3. С. 360-379. DOI: 10.17072/2218-9173-2018-3-360-379
- Громогласова Е. С. Теория и практика политического управления в Европейском Союзе. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 116 с.
- Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе / Пер. с англ. А. Смирнова // Логос. 2003. № 6. С. 67-116.