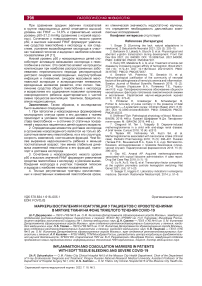Маркеры воспаления и коагуляции у пациентов с кровотечениями в мягкие ткани на фоне тяжелого течения COVID-19
Автор: Джуракулов Ш.Р., Сажнов Д.Н., Тагаев Н.Б., Ташлиев К.В., Киселев А.Р.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Патологическая физиология
Статья в выпуске: 3 т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель: оценить возможность использования некоторых маркеров воспаления и коагуляции в качестве предикторов кровотечений в мягкие ткани у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 24 пациентов с тяжелым течением COVID-19. Изучали лабораторные маркеры воспаления (прокальцитонин, ферритин, интерлейкин-6 [ИЛ-6] и С-реактивный белок [СРВ]) и коагуляции (международное нормализованное отношение [MHO], активированное частичное тромбопластиновое время [АЧТВ], протромбиновое время [ПТВ], фибриноген и D-димер). Результаты. Исходный медианный уровень прокальцитонина в группе умерших пациентов в 2 раза выше, чем в группе выживших пациентов (0,4 и 0,2 нг/мл соответственно). В группе умерших пациентов отмечался значительный рост значений данного показателя (от 0,4 до 1,5 нг/мл) в отличие от его снижения в группе выживших пациентов (от 0,2 до 0,1 нг/мл). Схожая динамика отмечалась в отношении других маркеров воспаления - ферритина, ИЛ-6 и СРВ (выжившие/умершие [исходно/последнее измеренное значение]: 663/1020 и 550/520 мг/моль; 578/393 и 263/1000 пг/мл; 25/14 и 68/82 мг/л соответственно). Заключение. Нарастание уровней изучавшихся нами маркеров воспаления сопряжено с повышенным риском развития кровотечений в мягкие ткани, в то время как показатели коагуляционного гомеостаза не могут являться достоверными предикторами возникновения кровотечений в мягкие ткани.
Covid-19, кровотечение в мягкие ткани, маркеры воспаления и коагуляции, транскатетерная артериальная эмболизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149141770
IDR: 149141770 | УДК: 578.834.1:616-005.1
Текст научной статьи Маркеры воспаления и коагуляции у пациентов с кровотечениями в мягкие ткани на фоне тяжелого течения COVID-19
-
1Введение. Общеизвестно, что у больных COVID-19 наблюдается гиперкоагуляция и высока частота развития тромбоэмболических явлений, причем тромбозы могут быть как артериальные, так и венозные [1]. Чтобы предотвратить их возникновение, в соответствии с клиническими рекомендациями все пациенты с COVID-19 должны получать при отсутствии противопоказаний антикоагулянты [2]. Между тем довольно нередким и часто жизнеугрожающим осложнением терапии антикоагулянтами являются кровотечения, в том числе в мягкие ткани [3]. Кроме того, у больных новой коронавирусной инфекцией, помимо нарушений коагуляции, часто наблюдается и нарушение эндотелиальной функции, возникающее при активации некоторых цитокиновых рецепторов, например рецептора ИЛ-6, а при COVID-19, как отмечено, уровень ИЛ-6 у пациентов повышается [4].
Можно предположить, что нарушение функции эндотелия у больных новой коронавирусной инфекцией в сочетании с применением антикоагулянтов приводит к увеличению частоты возникновения геморрагических осложнений и обусловливает высокие цифры летальности. Сообщалось, что у таких па-
циентов повышены уровни D-димера и фибриногена и увеличено ПТВ [5]. Повышенные уровни D-димера и фибриногена свидетельствуют о выраженной воспалительной реакции [6]. Таким образом, у больных COVID-19 кровотечения могут являться следствием как коагуляционных расстройств, так и применения антикоагулянтов [7].
В то время как частота серьезных кровотечений в общей популяции пациентов, получающих лечение антикоагулянтами, составляет 0,9% [6], то согласно данным G. N. Nadkarni и соавт. [8], их частота у лиц с COVID-19, получавших антикоагулянты в профилактических и терапевтических дозах, достигала 1,7 и 3% соответственно, а по данным ряда других авторов — даже 4,8% [9].
По локализации кровотечения у больных вирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, существенно различаются. Это могут быть желудочно-кишечные кровотечения, внутричерепное кровоизлияние, легочное кровотечение, кровотечения из мочеполового тракта, мест установки катетеров и т. д. Почти в 20% случаев они возникают в мышцах и даже могут происходить с выходом крови в забрюшинное пространство [10]. Кровотечения в мягкие ткани — это серьезное и часто жизнеугрожающее осложнение, особенно у больных с тяжелым течением COVID-19 [11, 12]. В последнее время стало появляться все больше сообщений о возникновении кровотечений в мягкие ткани у пациентов с COVID-19, получавших антикоагулянтную терапию [13].
С помощью антикоагулянтов мы пытаемся предотвратить развитие потенциально летальных тромботических осложнений у больных новой коронавирусной инфекцией. Но повышенные уровни D-димера и фибриногена, а также тромбоцитопения, характерные для пациентов с COVID-19, повышают риск возникновения кровотечений. Именно поэтому перед назначением антикоагулянтов и во время лечения ими крайне важно оценивать гемостаз и мониторировать его показатели у пациентов [14].
Частота возникновения кровотечений в мягкие ткани любых степеней тяжести, по данным зарубежных авторов, составляет 1,95 случая на 100 пациентов с COVID-19, получающих антикоагулянтную терапию [15]. Факторами риска более тяжелого течения кровотечений в мягкие ткани у больных новой коронавирусной инфекцией являются пожилой возраст, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек [15]. Выживаемость в популяции коморбидных возрастных пациентов с массивными кровотечениями в мягкие ткани даже при использовании всего арсенала современных методов лечения, включая транскатетерную артериальную эмболизацию, составляет примерно 65% [16]. Вследствие этого большее внимание должно быть направлено на профилактирование такого грозного осложнения антикоагулянтной терапии у пациентов с тяжелым течением COVID-19, как кровотечение в мягкие ткани, мониторирование показателей гемостаза, а также поиск возможных воспалительных и коагуляционных предикторов кровотечений.
Цель — оценить возможность использования некоторых маркеров воспаления и коагуляции в качестве предикторов кровотечений в мягкие ткани у пациентов с тяжелым течением COVID-19.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с COVID-19, находившихся на лечении в ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница №15 им. О. М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы» в период с 30 января 2021 г. по 18 февраля 2022 г. Всего в течение этого времени в клинике лечение получили 10890 больных COVID-19, из них транскатетерная артериальная эмболизация по поводу кровотечений в мягкие ткани выполнена у 24 пациентов (0,22% от общего числа).
Клиническая характеристика этих 24 пациентов представлена в табл. 1.
Преимущественной локализацией гематомы была передняя брюшная стенка, в ряде случаев такие гематомы распространялись в малый таз или забрюшинно (это зависело от длительности и интенсивности кровотечения). Семь пациентов (29%) во время госпитализации находились на искусственной вентиляции легких и еще 4 (17%) — на неинвазивной вентиляции легких. Все больные имели различную сопутствующую патологию, при этом у 12 пациентов (50%) было несколько сопутствующих заболеваний. Продолжительность антикоагулянтной терапии до момента возникновения гематомы составила 8 (2–14) дней. Медианное значение периода от момента возникновения кровотечения и до выписки или наступления смерти было равно 11 (1–32) дням.
Для дальнейшего анализа пациенты были разделены на две группы: умершие (n=10) и выжившие (n=14), в которых сопоставлялась динамика марке- ров воспаления и показателей коагуляции, а также оценивалась возможная их ассоциация с наступлением летального исхода.
В исследовании изучались следующие показатели воспаления:
— СРБ (содержание определяли иммунотурби-диметрическим методом путем фотометрического измерения реакции «антиген — антитело» между антителами к человеческому СРБ и СРБ, присутствующем в образце, с использованием биохимического анализатора Advia 1800, Siemens, США; диапазон нормальных значений: 0-5,0 мг/л);
— прокальцитонин (концентрацию измеряли методом твердофазного иммуноферментного анализа на иммуноферментном анализаторе Elisys Duo, Human GmbH, Германия; диапазон нормальных значений: 0-0,1 нг/мл);
— ферритин (уровень определяли иммунотур-бидиметрическим методом путем фотометрического измерения реакции «антиген — антитело» между латексными частицами, покрытыми антителами к ферритину, и ферритином, находящимся в образце, с использованием биохимического анализатора Advia 1800, Siemens, США; диапазон нормальных значений: 15-400 мг/моль);
— ИЛ-6 (концентрацию измеряли с помощью сэндвич-техники с использованием иммунохимиче-ского анализатора Cobas Е411, Roche, Швейцария; диапазон нормальных значений: 0-5,9 пг/мл).
В качестве показателей коагуляции изучали:
— МНО; диапазон нормальных значений: 0,95– 1,10;
— АЧТВ; диапазон нормальных значений: 21,8– 31,0 сек;
— ПТВ; диапазон нормальных значений: 9,0– 12,0 сек;
— фибриноген (определявшийся по методу Клаусса на анализаторе гемостаза ACL TOP 700, Instrumentation laboratory, США; диапазон нормальных значений: 1,80-3,50 г/л);
— D-димер (концентрацию определяли имму-нотурбидиметрическим методом при помощи анализатора гемостаза ACL TOP 700, Instrumentation laboratory, США; диапазон нормальных значений: 0-500 нг/мл).
Анализы крови для определения этих показателей проводились по необходимости и согласно рекомендациям, но не реже 1 раза каждые 1–2 дня вплоть до выписки или наступления летального исхода.
Статистический анализ проводился с использованием программы Statistica 10.0. Для количественных переменных данные представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей — Ме (LQ — UQ). Категориальные переменные представлены в виде абсолютного количества и частоты, выраженной в процентах, — n (%). Отсутствующие лабораторные значения подставлялись по методике переноса последних доступных данных (Last Observation Carry Forward — LOCF). Группы пациентов по количественным показателям сравнивали с помощью критерия Манна — Уитни. Надежность используемых статистических оценок принималась не менее 95%.
Результаты. Данные, полученные при статистическом анализе изучаемых в исследовании показателей коагуляции и маркеров воспаления, представлены в табл. 2.
Исходный медианный уровень прокальцитонина в обеих группах был выше нормы, при этом в группе умерших пациентов он в 2 раза был выше тако-
|
Общая характеристика пациентов, средний возраст 71 (61–84) года |
Таблица 1 |
|
Параметр |
n (%) |
|
Пол |
|
|
мужской |
5 (21 %) |
|
женский |
19 (79%) |
|
Локализация гематом: |
|
|
передняя брюшная стенка (прямые мышцы живота) |
13 (54%) |
|
забрюшинное пространство |
6 (25%) |
|
передняя и боковая поверхности грудной клетки (с переходом в подмышечную область и на молочную железу) |
5 (21 %) |
|
Поражение легочной ткани: |
|
|
КТ0 |
1 (4%) |
|
КТ1 |
2 (8%) |
|
КТ2 |
8 (33%) |
|
КТ3 |
10 (42%) |
|
КТ4 |
3 (13%) |
|
Дыхательная недостаточность: |
|
|
ДН0 |
5 (21 %) |
|
ДН1 |
2 (8%) |
|
ДН2 |
5 (21 %) |
|
ДН2/3 |
7 (29%) |
|
ДН3 |
5 (21 %) |
|
Сопутствующая патология: |
|
|
сахарный диабет |
6 (25%) |
|
артериальная гипертензия |
15 (62%) |
|
ожирение |
3 (13%) |
|
фибрилляция предсердий |
5 (21 %) |
|
тромбоэмболия легочной артерии |
3 (13%) |
|
острая почечная недостаточность |
2 (8%) |
|
хроническая ишемия головного мозга |
7 (29%) |
|
острое нарушение мозгового кровообращения |
1 (4%) |
П р и м еч а н и е : количественные данные представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей — Ме (LQ — UQ).
Количественные значения маркеров воспаления и показателей коагуляции
Таблица 2
|
Показатель |
Выжившие пациенты ( n =10) |
Умершие пациенты ( n =14) |
р -уровень |
|
Прокальцитонин, нг/мл |
|||
|
исх. |
0,2 (0,1–0,2) |
0,4 (0,2–2,0) |
0,010 |
|
посл. |
0,1 (0,1–0,2) |
1,5 (0,3–2,4) |
0,001 |
|
Ферритин, мг/моль |
|||
|
исх. |
550 (379–636) |
663 (451–727) |
0,336 |
|
посл. |
520 (365–759) |
1020 (727–1211) |
0,045 |
|
ИЛ-6, пг/мл |
|||
|
исх. |
578 (59–1000) |
263 (47–1000) |
0,807 |
|
посл. |
393 (112–672) |
1000 (975–1508) |
0,029 |
|
СРБ, мг/л |
|||
|
исх. |
25 (6–62) |
68 (54–113) |
0,084 |
|
посл. |
14 (2–37) |
82 (20–135) |
0,030 |
Окончание табл. 2
|
Показатель |
Выжившие пациенты ( n =10) |
Умершие пациенты ( n =14) |
р -уровень |
|
Фибриноген, г/л |
|||
|
исх. |
2,5 (1,8–3,6) |
4,3 (3,1–5,3) |
0,126 |
|
посл. |
2,2 (1,5–3,2) |
2,1 (1,4–3,6) |
0,947 |
|
D-димер, нг/мл |
|||
|
исх. |
1075 (644–2160) |
1204 (793–3987) |
0,738 |
|
посл. |
3564 (1630–4324) |
4348 (3945–6845) |
0,115 |
|
АЧТВ, сек |
|||
|
исх. |
24 (19–31) |
33 (28–33) |
0,261 |
|
посл. |
30 (26–34) |
28 (25–31) |
0,666 |
|
МНО |
|||
|
исх. |
1,0 (0,9–1,1) |
1,2 (1,1–1,3) |
0,166 |
|
посл. |
1,1 (1,0–1,2) |
1,2 (1,1–1,2) |
0,666 |
|
ПТВ, сек |
|||
|
исх. |
11,4 (10,7–11,6) |
13,0 (12,6–14,0) |
0,057 |
|
посл. |
12,0 (11,0–12,9) |
11,9 (10,7–13,0) |
1,000 |
П р и м еч а н и е : данные представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей — Ме (LQ – UQ). Полужирным шрифтом выделены значения с достоверным уровнем значимости ( p <0,001). Исх. — исходное значение; посл. — последнее измеренное значение.
вого значения, чем в группе выживших пациентов (0,4 и 0,2 нг/мл соответственно). И если в группе выживших пациентов в динамике наблюдалось снижение уровня прокальцитонина (с 0,2 до 0,1 нг/мл соответственно), то в группе умерших пациентов отмечался значительный его рост — почти в 4 раза (с 0,4 до 1,5 нг/мл). Обе группы достоверно ( p <0,001) различались между собой как по исходным, так и последним измеренным медианным значениям.
Уровень ферритина превышал диапазон нормальных значений у всех больных во все временные точки. Так, исходное медианное значение в группе умерших и выживших пациентов составило 663 и 550 мг/моль, в последнее измеренное — 1020 и 519,5мг/моль соответственно. При этом в группе умерших пациентов наблюдался почти полуторакратный рост уровня ферритина в динамике (с 663 до 1020 мг/моль).
По нашим данным, уровень ИЛ-6 был существенно повышен у всех исследуемых во все временные точки. Исходное медианное значение уровня ИЛ-6 в группе умерших пациентов было почти в 2 раза меньше такового значения в группе выживших пациентов (различие недостоверно). И если в динамике в группе выживших пациентов наблюдалось уменьшение медианного значения уровня ИЛ-6, то в группе умерших пациентов медианное значение увеличивалось (почти в 4 раза), и различие групп по последним измеренным медианным значениям уровня ИЛ-6 было достоверно ( p <0,001).
Исходное и последнее измеренное значения уровня СРБ были выше нормы в обеих группах пациентов. В группе умерших пациентов наблюдалось нарастание уровня СРБ с 68,0 до 81,5 мг/л, тогда как в группе выживших пациентов — снижение с 24,5 до 13,5 мг/л, и группы статистически значимо ( p <0,001) различались между собой по последним измеренным медианным значениям. Исходное медианное значение СРБ в группе умерших пациентов было почти в 2,5 раза выше, чем в группе выживших пациентов (68,0 и 24,5 мг/л соответственно).
Помимо того, обращает на себя внимание тенденция к исходно более высокому медианному значению уровня фибриногена в группе умерших пациентов и более значимому (двукратному) его снижению по сравнению с группой выживших пациентов (исходно 4,3 и 2,5 г/л и до 2,1 и 2,2 г/л соответственно).
В отношении остальных изучавшихся показателей коагуляции каких-либо тенденций или достоверных различий между группами не наблюдалось.
Обсуждение. Точный механизм развития спонтанных гематом мягких тканей у пациентов с COVID-19, получающих антикоагулянты, до конца не установлен [17]. Новая коронавирусная инфекция вызывает эндотелиальную дисфункцию и воспалительную реакцию и приводит к гиперкоагуляции [18].
Возникающие при COVID-19 микро- и макротромбозы требуют лечения антикоагулянтами, что, в свою очередь, еще больше увеличивает кровоточивость и повышает вероятность образования гематом [19].
В нашем исследовании, хотя частота возникновения гематом мягких тканей, потребовавших эндоваскулярного вмешательства, была очень низка (0,22%), но летальность превысила 41 %, что практически сопоставимо с данными, полученными V. Abate и соавт. (32,4%) [14].
Высокий уровень летальности можно объяснить совокупностью различных факторов: возрастом пациентов и исходно тяжелым состоянием вследствие новой коронавирусной инфекции, большим объемом кровопотери, тяжелой сопутствующей патологией.
Вследствие чего возникает важный вопрос профи-лактирования такого жизнеугрожающего осложнения у пациентов с тяжелым течением COVID-19, как кровотечение в мягкие ткани. Большая роль в этом отводится поиску возможных лабораторных предикторов, позволяющих оценить вероятность возникновения геморрагических осложнений и своевременно предпринять соответствующие меры.
В качестве одного из предикторов возникновения кровотечений у пациентов с тяжелым течением COVID-19 может выступать прокальцитонин, рост уровня которого считается значимым предиктором ухудшения состояния пациента [20]. Так, его уровень в группе умерших пациентов исходно был в 2 раза выше, чем в группе выживших пациентов, и он демонстрировал почти четырехкратный рост в отличие от группы выживших больных, где наблюдалась обратная его динамика.
У пациентов с COVID-19 уровень СРБ повышается с первых дней заболевания и положительно коррелирует с тяжестью течения заболевания [10]. В группе умерших пациентов по сравнению с группой выживших пациентов уровень СРБ исходно был выше. И если в группе умерших пациентов наблюдалось увеличение уровня СРБ, то в группе выживших пациентов отмечалось его снижение.
Разнонаправленная динамика регистрировалась и для других изучавшихся маркеров воспаления — ферритина (медиатора дисрегуляции при тяжелом течении COVID-19) и ИЛ-6. Последний является одним из важнейших медиаторов воспаления, выступающим в качестве показателя цитокинового шторма. Повышенная его концентрация приводит к повреждению тканей и усилению проницаемости сосудов [20]. Интересно отметить, что в группе выживших пациентов в нашем исследовании исходно уровень ИЛ-6 был выше, но впоследствии снижался, а в группе умерших пациентов, наоборот, возрастал. Следовательно, нарастание уровня ИЛ-6 может также свидетельствовать о более тяжелом течении заболевания и высокой вероятности развития геморрагических осложнений, в частности кровотечений в мягкие ткани.
Показатели, оценивающие коагуляционный статус (МНО, АЧТВ и ПТВ), у пациентов, получавших антикоагулянтную терапию, чаще всего не выходили за диапазон нормальных значений, а в случаях, когда они были повышены, — никогда не превышали верхнюю границу нормы более чем на 15%.
Единственным маркером коагуляции и в то же время воспаления, в отношении которого отмечалась явная тенденция, был фибриноген. При этом исходное его значение в группе умерших пациентов по сравнению с группой выживших пациентов было более высоким (исходная гиперфибриногенемия), но затем снижалось почти в 2 раза (у 4 из 10 пациентов в группе умерших пациентов на момент смерти наблюдалась гипофибриногенемия). В группе выживших пациентов такого резкого снижения уровня фибриногена не наблюдалось. Возможно, резкое и выраженное (как минимум двукратное) снижение уровня фибриногена могло внести свой вклад в возникновение повышенной кровоточивости.
Заключение. Полученные нами данные говорят о том, что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 такие показатели коагуляционного гомеостаза, как МНО, АЧТВ и ПТВ, не могут являться достоверными предикторами кровотечений в мягкие ткани. Единственным коагуляционным маркером, который в нашем исследовании указывал бы на повышенную вероятность развития кровотечений, было резкое и выраженное снижение уровня фибриногена (гиперфибриногенемия, переходящая в гипофибриногенемию).
Следует отметить, что исходно высокий уровень прокальцитонина и его увеличение в динамике (в 2–4 раза), а также нарастание уровней других мар- керов воспаления (ферритина, ИЛ-6 и СРБ) могут быть предикторами неблагоприятного исхода жизнеугрожающих кровотечений в мягкие ткани.
Список литературы Маркеры воспаления и коагуляции у пациентов с кровотечениями в мягкие ткани на фоне тяжелого течения COVID-19
- Singer D. [Surviving the lack: natural adaptations in newborns]. Z Geburtshilfe Neonatol 2021; 225 (3): 203–15.
- Barbarani G, Labedz A, Stucchi S, et al. Physiological and aberrant γ-globin transcription during development. Front Cell Dev Biol 2021; (9): 640060. DOI: 10.3389 / fcell. 2021.640060. PMID: 33869190. PMCID: PMC8047207.
- Henry ER, Metaferia B, Li Q, et al. Treatment of sickle cell disease by increasing oxygen affinity of hemoglobin. Blood 2021; 138 (13): 1172–81. DOI: 10.1182 / blood. 2021012070. PMID: 34197597. PMCID: PMC8570057.
- Geraskin VA, Potemina TE, Geraskin IV, et al. Рathophysiological justification of the community of neonatal factors of the pathogenesis of hemolytic anemia and inflammation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 372–6. Russian (Гераськин В. А., Потемина Т. Е., Гераськин И. В. и др. Патофизиологическое обоснование общности неонатальных факторов патогенеза гемолитической анемии и воспаления. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 372–6).
- Pritišanac E, Urlesberger B, Schwaberger B,
- Pichler G. Accuracy of pulse oximetry in the presence of fetal hemoglobin — A systematic review. Children (Basel) 2021; 8 (5): 361. DOI: 10.3390 / children8050361. PMID: 33946236. PMCID: PMC8145233.
- Shiffman FDzh. Pathological physiology of blood. Moscow: BINOM, 2019; 448 р. Russian (Шиффман Ф. Дж. Патофизиология крови. М.: БИНОМ, 2019; 448 с.).
- Chegondi M, Ten I, Totapally B. Dapsone-induced methemoglobinemia in a child with end-stage renal disease: A brief review. Cureus 2018; 10 (4): e2513.
- Tepaev RF, Vishnevsky VA, Kuzin SA, et al. Methemoglobinemia associated with benzocaine intake (Clinical case). Pediatric Pharmacology 2018; 15 (5): 396–401. Russian (Тепаев Р. Ф., Вишневский В. А., Кузин С. А. и др. Метгемоглобинемия, ассоциированная с приемом бензокаина (клинический случай). Педиатрическая фармакология 2018; 15 (5): 396–401).
- Gay HC, Amaral АP. Acquired methemoglobinemia associated with topical lidocaine administration: A case report. Drug Saf Case Rep 2018; 5 (1): 15.
- Liu N, Xu S, Yao Q, et al. Transcription factor competition at the γ-globin promoters controls hemoglobin switching. Nat Genet 2021; (53): 511–20.
- Seeger C, Higgins C. Laboratory indicators in emergency medicine. Denmark: Radiometer Medical ApS, 2014; р. 51–6.