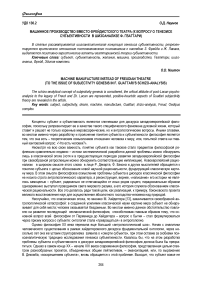Машинное производство вместо фрейдистского театра (к вопросу о генезисе субъективности в шизоанализе Ф. Гваттари)
Автор: Наумов О.Д.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается шизоаналитическая концепция генезиса субъективности, репрезентируются критическое отношение постлакановского психоанализа к наследию З. Фрейда и Ж. Лакана, выделяются позитивно-эвристические аспекты гваттарианской теории субъективности.
Субъект, субъективность, желание, машина, производство, гваттари, шизоанализ, фрейд, эдипов комплекс
Короткий адрес: https://sciup.org/14083705
IDR: 14083705 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Машинное производство вместо фрейдистского театра (к вопросу о генезисе субъективности в шизоанализе Ф. Гваттари)
Концепты субъект и субъективность являются ключевыми для дискурса западноевропейской философии, поскольку репрезентируют ее в качестве такого специфического феномена духовной жизни, который ставит и решает не только коренные мировоззренческие, но и антропологические вопросы. Иными словами, во многом именно через разработку и прояснение понятия субъекта и субъективности философия является тем, что она есть – теоретическим осмыслением отношения человека к миру, или, попыткой ответа на главный кантовский вопрос: «Что есть человек?».
Несмотря на всю свою важность, понятие субъекта как таковое стало предметом философской рефлексии сравнительно недавно – истоки систематической разработки данной проблемы можно обнаружить лишь в классической эпохе (хотя и в предшествующих периодах развития западноевропейской философии при своеобразной ретроспекции можно обнаружить соответствующие импликации). Новоевропейский рационализм в широком смысле этого слова в лице Р. Декарта, Ф. Бэкона и других мыслителей обращается к понятию субъекта с целью обоснования новой научной рациональности, фундирующей классическую картину мира. В этом смысле философское осмысление проблемы субъекта в дискурсе классической философии не носило строго антропологического характера, а реконструкция, вернее, «написание» его истории не являлось самоцелью – субъект, радикально не отличающийся от иных родов сущего, парадоксальным образом одновременно выступал проводником света мирового разума, а его история служила обоснованием классической рациональности. Все это делалось ради такой цели, как реализация, к примеру, бэконовского проекта великого восстановления наук для осуществления абсолютного господства человека над природой.
Неслучайно, что классическая эпоха, по мнению М. Хайдеггера [13], заканчивается своеобразной антропологической катастрофой: в созданной усилиями классической науки картине мира субъект не обнаруживает для себя места; человек оказывается бездомным. Во многом именно данное обстоятельство повлияло на развитие последующей неклассической философии, способствовав главным образом тому, что основной вопрос всей философии от Парменида до Хайдеггера – вопрос о бытии – стал формулироваться через призму вопроса о субъекте: онтология стала «превращаться» в антропологию.
Однако философия XX века пережила еще больший «антропологический шок». Начав с аналитики человеческого существования в рамках хайдеггеровского дискурса фундаментальной онтологии, через несколько лет она же устами структурализма заявила о «смерти субъекта», при этом оставив за скобками психоаналитическую традицию исследования генезиса субъективности. Казалось бы, что на этом разработка проблемы субъекта и субъективности в дискурсе западноевропейской философии должна была бы прекратиться. Однако в самом конце XX – начале XXI веков современная философия, представленная целым спектром разнообразных проектов, объединенных общим лейтмотивом, – эмансипацией, или, по выражению В. Декомба, «воскрешением субъекта», вновь обращается к этой проблеме. Выходит, что субъект вовсе не
«умер»: на смену классической традиции осмысления субъекта приходит новая – постнелкассическая, представленная, на первый взгляд, своеобразным «воскрешением», «реанимацией» скончавшегося субъекта.
Из широкого спектра постметафизических концепций субъекта и субъективности (М. Фуко, Ю. Кристе-ва, Ж. Лакан, В. Декомб) особого внимания заслуживает оригинальная концепция субъекта и производства субъективности, предложенная в рамках шизоаналитического проекта Ф. Гваттари и Ж. Делёза, вызвавшая в некотором смысле революцию в гуманитарных науках второй половины XX века.
В отечественной литературе, посвященной анализу совместного творчества двух мыслителей, традиционно большая доля внимания уделяется разбору делезианского наследия, заслоняющего своей тенью наследие Ф. Гваттари. При этом невольно «забывается», что Дёлез – это своеобразный «физик-досократик, философ Целого» [12], сконцентрировавший свое внимание, по словам А. Бадью, на следующих проблемах: он «созерцал для нас мерцание звезд, исследовал хаос, оценил масштабы неорганической жизни, погрузил наши малые траектории в безмерность виртуального» [7, с.136].
Какую же роль в этом союзе играл Ф. Гваттари? Никогда не определяя себя в качестве философа, он всегда позиционировал себя практикующим психоаналитиком. Восприняв антропосоциокультурные изменения, произошедшие в жизни западноевропейского общества второй половины XX века, он, с одной стороны, продолжая популярную в 60-е годы традицию французских интеллектуалов, «скрестил» К. Маркса и З. Фрейда, а с другой – радикально переосмыслил фрейдо-лакановские идеи, предложив в качестве альтернативы классическому психоанализу шизоанализ , теоретико-методологическим ядром которого выступила идея трансверсальности. Таким образом, во-первых, Гваттари решительно отказывается от «классической» традиции разработки проблемы субъекта и генезиса субъективности, характерной чертой которой является не производство, но «разыгрывание» субъективности на основе единственно возможного с точки зрения философии трансцендентального «сценария» – истории Эдипа. Во-вторых, обращается к генеалогическому ракурсу анализа проблемы субъекта и генезиса субъективности в аспекте их производства «индивидуальными, коллективными или учредительными инстанциями» [11, с. 88]. В этом смысле идеи Гваттари – не просто еще один взгляд на проблему субъекта – это попытка «заново описать субъективность и не только индивидуальную, но и ее комплексные, групповые планы, планы машинные, имеющие иной тип среды и иную производительность» [6]. Иными словами, на смену фрейдистскому театру приходит машинное производство, носящее, что немаловажно, не сциентистский, а этико-эстетический характер , присущий практически всей традиции постметафизического философствования. Итогом такой деструкции фрейдо-лакановского психоанализа является восполнение его главного упущения: шизоанализ пытается просветить основания реального процесса генезиса человеческой субъективности.
Своеобразным толчком для гваттарианской мысли выступил известный тезис структуралистов о «смерти субъекта». По мнению Ф. Гваттари, фундаментальный постулат структурализма в действительности был не более чем безосновательной редукцией, поскольку, напротив, сама реальность настойчиво требовала «исследовать машинное производство образов, знаков, искусственного интеллекта как новых элементов субъективности» [2, с. 184]: субъект и субъективность должны быть не просто переосмыслены, но «созданы» заново. Однако не так, как в свое время это сделал Декарт: в отличие от него Гваттари мыслит субъективность в качестве концепта, выходящего за рамки индивида и человеческого вида в целом.
Обращаясь к делёзовскому понимаю концепта как чего-то движущегося, само-производящегося в своем значении и существовании, Гваттари выносит за скобки анализ специфических черт, присущих философскому концепту, отмечая лишь то, что субъективность является концептом постольку, поскольку ей, как и концепту, присущ автопойезис. Таким образом, субъективность, рассматриваемая с точки зрения ее производства, всегда несет за собой конкретную экзистенциальную территорию, служа в то же время картой этой территории и ее производства. Иными словами, она всякий раз картографируется, метамоделируется и производится, тем самым, выходя за рамки не столько отдельного индивида, сколько за пределы «всеобщего театра» Фрейда. Значит, субъективность децентрична: она не имеет однозначного центра, не «привязана» к некой внешней трансцендентальной необходимости и не укоренена в едином «уникальном» субъекте. Следовательно, субъект, о производстве субъективности которого говорит Гваттари, всегда онтологически гете-рогенен, а субъективность всегда выступает результатом коллективного плана, основанного не только на множестве индивидов, но и других социокультурных факторов. Поскольку шизоанализ отказывается от классического – центрированного понимания субъекта и его исключительной роли в процессе генезиса субъективности, то в качестве производственной силы, создающей субъективность, должно быть выбрано нечто пред/до-субъектное. Для Гваттари таким феноменом становится желание (либидо), поскольку оно «всегда уже здесь», «пронизывает всю социальную сферу и сочетается с ней, совпадая с потоками, проходящими через объекты, лица и символы, зависящие от разделения и самой конституции группы» [1, с. 273–274]. Та- ким образом, желание (либидо) - это машина, своеобразная часть «коммунального хозяйства» по передаче информации, коммуникации и в конечном счете - конституирование субъекта и субъективности. В этом смысле субъективность не мыслится в качестве автономного феномена, напротив, она всегда существует как ассоциация «человеческих групп, социально-экономических машин, информационных машин» [4, с. 24].
Помыслив процесс генезиса субъективности в качестве машинного производства, Гваттари в разработке своего проекта во-первых, избегает консервативной критики «духа современности», а во-вторых, не впадает в проверенный веками трансцендентализм. Новаторство шизоаналитического проекта заключается в том, что он полностью принимает современную ему социокультурную ситуацию и, находясь в ней, пытается изнутри примирить человека с машиной и наоборот. В этом смысле «машина» для Гваттари не просто феномен современной культуры, но один из аспектов субъективности, так как: 1) специфика наиболее сложных машин - информационных и коммуникативных - заключается не столько в передачи и распространении искомого содержания, сколько в создании нового плана повествования; 2) абсолютно всем машинам присущ процесс прото-субъективации, рассматриваемый Гваттари по аналогии с «машиной зрения» П. Вирильо и говорящих о «мо-дуляной субъективности» и «возникновении целого рынка синтетического восприятия» [8, с.107].
Историко-философская реконструкция шизоаналитического проекта Ф. Гваттари не может не поставить следующего вопроса: если на смену фрейдистскому театру приходит метафора машинного производства, то является ли такое понимание процесса генезиса субъективности исключительным новшеством XX века? Сам Гваттари отвечает на этот вопрос однозначно - нет. Дело в том, что понятия «машины» и «машинного производства» в дискурсе шизоаналитического проекта непросто с необходимостью историчны, но и максимально широки по своему содержанию. Таким образом, в качестве машин могут выступать и такие понятия, как, например, «церковь», «армия», «профессиональная корпорация». Это означает, что любой социальный институт с точки зрения шизоанализа может быть помыслен в качестве общественной машины, производящей определенную субъективность. Следовательно, субъективность - это продукт, всегда обусловленный определенной культурно-исторической эпохой, и разница между той или иной субъективностью заключается в «технологии» ее производства: средневековая технология производства субъективности, реализовывавшаяся, к примеру, в монашеской обители, принципиально отличается от новоевропейской, локализированной в Версале, управляющего потоками власти, денег, престижа, производя тем самым определенный тип субъективности - аристократическую.
Но как отличить одну технологию производства от другой, в чем заключается специфика производства каждой культурно-исторической эпохи? В этом аспекте шизоаналитический проект Ф. Гваттари с рядом оговорок напоминает генеалогический проект М. Фуко: различие между культурно-историческими эпохами, а значит, и между технологиями производства субъективности заключается в различии «голосов» общественных машин. При этом Гваттари подчеркивает, что в гуле машинного производства всегда чрезвычайно сложно выделить какой-то один солирующий голос, поэтому культурно-историческая ретроспектива машинного производства субъективности всегда носит условный схематичный характер. Таким образом, субъективность всегда формируется в полифоническом звучании как минимум трех голосов: голоса власти, основанного на тотальном наблюдении за подчиненными (референтом этого голоса выступают земля и тела поданных); голоса знания, вписывающего конкретную субъективность в прагматику научных и культурных конвенций (референтом знания традиционно выступает капитал), и голоса само-референтности, выполняющего функцию самоконституирования субъекта вопреки репрессивному подавлению всякого инакомыслия, присущего абсолютно любой моноцентричной культуре. В этом смысле автореференция является важнейшим из трех «голосов» машины, производящей субъективность, так как именно в нем фиксируется сам феномен человеческого существования (его специфичность, уникальность, конечность и богатство возможностей). Референтом этого голоса выступает сам человек - так называемое «тело без органов» , не имеющее жестко закрепленной фигуры и тем самым выступающее ключом к бесконечному многообразию проявлений феномена человеческого существования и исследования субъективности.
Именно эти «голоса» в конечном итоге ответственны за возникновение и производство разнообразных фигур субъективности. Однако повторимся, ключевую роль - солирующую партию - в этом гуле голосов играет само-референтность. В результате конфигурации субъективности зависят от ее само-моделирования, аналогичного в данном контексте фукианскому концепту «заботы о себе». Сравнение шизооаналитической авто-референтности с фукианской «заботой о себе» позволяет достаточно однозначно определить ее основную функцию в процессе генезиса субъективности: «дисциплинирование» и упорядочивание социальнокультурного «хаоса» в устойчивый фундамент, пригодный для возведения как индивидуальной, так и коллективной субъективности. Таким образом, шизоаналитическая авто-референтность - это своеобразный трансцендентальный принцип конституирования интерсубъективного пространства взаимодействия субъектов, объединенных в конечном счете процессом производства собственной жизни. В этом смысле Гваттари не просто «картографически» запечатлевает машинный процесс генезиса субъективности, но и, будучи верным геологическому принципу [10, с. 54] исследования, различает основные этапы становления машинного производства субъективности, заявившего о себе лишь в рамках капиталистического общества.
Таких этапов Ф. Гваттари выделяет три. Первый – становление христианства, сформировавшего принципиальное новое понимание отношений, складывающихся между властью и землей; второй – становление собственно капиталистического производства, основанного на принципе коллективизма; третий – глобальная информатизация общественной жизни, открывшая для исследования феномен авто-референтности. Именно «открытие» и осмысление человеческой сущности по отношению к окружающему ее машинному миру, с одной стороны, и природе – с другой, а также наметившаяся тенденция к их совпадению, позволили Гваттари «наметить» схему машинного производства современной модели субъективности в культурно-исторической ретроспективе указанных эпох.
Христианский период, по мнению Ф. Гваттари, сформировал модель субъективности, основанную на двух фундаментальных основаниях: во-первых, территоризации относительно разнообразных автономных единиц общественной жизни; во-вторых, детерриторизация субъективности, соотносимой с церковью и понимаемой в качестве элемента общности. Основными машинами, запустившими процесс производства такой модели субъективности, были следующие факторы: монотеизм, гибко встроившийся в систему ориентиров предыдущей традиции; появление нового типа трансляции культурных конвенций – создание приходских школ Карлом Великим; формирование монастырей и цеховых гильдий как машин воспроизводства и трансляции прикладного знания; использование энергии природы при сохранении понимания человека как средства производства; возникновение машин, интегрирующих субъективность, – башенных часов и канона церковной музыки, а также выведение животных и растений, способствующих стабильному демографическому и экономическому развитию. Итогом этой эпохи стало формирование основных сословий средневекового общества и репрезентация парадоксальной закономерности: производство субъективности одновременно и поощряется и сдерживается. Вместе с тем парадигмальная установка этого периода продолжает существовать и сегодня, выражаясь в формуле «Работа. Семья. Родина».
Эпоха капиталистической детерриторизации датируется Гваттари XVIII веком. Характерная черта этого периода – разрушение гармоничных отношений между человеком и машиной: у субъекта появляется замена, а на смену привычной социальной сегментарности приходит капитал. Именно в этом периоде Гваттари обнаруживает зачатки грядущей глобализации, выделяя в качестве основных следующие машины: экспансия печатного текста и минимализация устной речи в передаче традиции; изобретение стали и паровых машин, определяющих последующее направление развития общества и культуры; манипуляции временем (валютное кредитование, хронометрия труда); революция в биологии, способствовавшая успешному развитию химической промышленности. Итоги этого периода: 1) установление диктата машин над человеком; 2) подкрепление культуры разума фетишем выгоды; 3) усиление сформированного в рамках христианской культуры иррационального чувства вины в качестве реакции на распространение разнообразного свободомыслия.
Наконец, период глобальной информатизации и его основной продукт – машинная субъективность нового типа, отличающаяся следующими чертами: «удвоение» устных и письменных высказываний под давлением СМИ; замена естественного сырья искусственными материалами; сокращение времени производства субъективности; развитие биоинженерии, влекущее за собой возможность преобразования жизни и ее условий в масштабе планеты. Подводя предварительные итоги современного этапа развития культуры, Ф. Гваттари отмечает, что капитализм, реализуя свои внутренние потенции на манер невроза, превращает экзистенциальные территории в товар. В конечном итоге капиталистическая технология производства субъективности создает «безграничную пустоту в субъективности», «машинное одиночество» [5].
Столь неутешительные выводы, казалось бы, ставят шизоаналитический проект Гваттари в один ряд с критической теорией, разработанной представителями Франкфуртской школы социальных исследований. Однако решение антропологического кризиса современности шизоанализ видит в другом: осмысление сущностного содержания конституирующего «трехголосия» истории европейского субъекта ведет не к критики, а, наоборот, к апологии позитивных аспектов становления субъективности, возможного посредством проведения последовательной деконструкции традиционных представлений. Так, к примеру, в феномене буржуазной организации труда, помимо привычного поиска выгоды, открывается право на много/своеобразие, подкрепленного также капиталистической этикой, менее требовательной к индивидам, в сравнении с средневековой религиозной моралью. Таким образом, усиление авто-референтности, по мнению Гваттари, гарантирует открытие новых возможностей для творческой субъективации, ведущей к преодолению «машинного одиночества».
Но так ли ново машинное понимание производства субъективности? Не возвращается ли шизоанализ к классической марксистской бинарной схеме «базис»/«надстройка»? Основополагающая идея всего шизо-аналитического проекта Ф. Гваттари заключается в том, что ни одна машина, ни один семиотический механизм, участвующий в процессе производства субъективости, не принадлежит к жесткой иерархии неизменной системы субординации [3]. Иными словами, Гваттари, как и М. Бахтин, исходит из того, что субъективность, несмотря на свое машинное производство, множественна, полифонична, а значит, нет никакой господствующей инстанции, управляющей и контролирующей весь процесс производства. В этом заключается новаторство Ф. Гваттари и его шизоаналитического проекта исследования процесса генезиса субъективности: отказываясь от фрейдистского театра семейной драмы и его трансцендентального «сценария» – Эдипа, он выводит субъективность за рамки оппозиции коллективное/индивидуальное, обнаруживая внешние факторы – культурно-исторически обусловленные машины, свободное взаимодействие которых определяет ту или иную технологию производства субъективности.
Выделяя в качестве солирующих голосов современности вторжение субъективных факторов в историческую субъективность, массовое машинное производство, этологические и экологические аспекты субъективности, Гваттари подчеркивает главное требование современности как вопроса о человеке – это требование субъективного свое/многобразия, невозможного на основе универсалистского представления о субъективности – фрейдистского театра семейной драмы, который не конституирует, но всего лишь «разыгрывает» субъективность по заранее написанному и отрепетированному сценарию.
Конечно, машинное производство субъективности – противоречивый феномен, имеющий как положительные, так и негативные аспекты. О негативных аспектах довольно много говорили уже упомянутые здесь представители франкфуртской школы социальных исследований. Заслуга шизоанализа Ф. Гваттари в другом. Погрузившись в современный мир машинного производства, он увидел в нем возможность создания новых миров, а значит, технологический прогресс, равно как и общественное развитие – это как раз-таки то, что принадлежит современности, но вместе с тем, долженствующее быть повернутым против нее – «в пользу грядущих времен» [9, с. 345]: от печального настоящего к пост-информационной эпохе, характеризующейся реапроприацией и ресингуляризацией источников информации, сулящих окончательное освобождение человека.