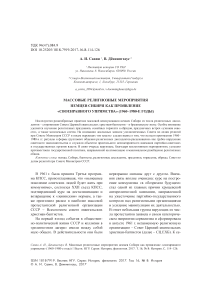Массовые религиозные мероприятия немцев Сибири как проявление "своенравного упрямства" (1960-1980-е годы)
Автор: Савин Андрей Иванович, Дннингхаус Виктор
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Исследуются разнообразные практики массовой коммуникации немцев Сибири из числа религиозных диссидентов - сторонников Совета Церквей евангельских христиан-баптистов - в брежневскую эпоху. Особое внимание уделяется изучению религиозных праздников, семейных торжеств и обрядов, праздничных встреч «узников совести», а также молодежных слетов. На основании докладных записок уполномоченных Совета по делам религий при Совете Министров СССР и писем верующих «во власть» сделан вывод о том, что на всем протяжении 1960-1980-х гг. ритуалы и формы группового общения религиозных диссидентов расценивались как грубое нарушение советского законодательства и служили объектом пристального нелицеприятного внимания партийно-советских и государственных органов власти. В свою очередь верующие, благодаря коллективным мероприятиям, успешно противостояли государственной политике, направленной на атомизацию и максимальное разобщение религиозных общин.
Немцы, сибирь, баптисты, религиозные диссиденты, праздники, торжества, обряды, совет по делам религий при совете министров ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/147219825
IDR: 147219825 | УДК: 94(47).084.9 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-8-114-126
Текст научной статьи Массовые религиозные мероприятия немцев Сибири как проявление "своенравного упрямства" (1960-1980-е годы)
В 1961 г. была принята Третья программа КПСС, провозгласившая, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», состоялся XXII съезд КПСС, подтвердивший курс на десталинизацию и возвращение к «ленинским» нормам, а также произошел раскол в наиболее массовой протестантской религиозной организации СССР – Всесоюзном совете евангельских христиан-баптистов.
На первый взгляд события в общественно-политической жизни СССР и коллизии в «религиозном лагере» имели между собой мало общего. В действительности они были неразрывно связаны друг с другом. Внешняя связь вполне очевидна: курс на построение коммунизма «в обозримом будущем» стал одной из главных причин хрущевской антирелигиозной кампании, направленной на ужесточение партийно-государственного контроля над религиозными организациями и усиление манипуляции их деятельностью. В ответ небольшая группа верующих из числа протестантов заявила о своем категорическом неприятии сервилизма и сформировала в августе 1961 г. независимую религиозную организацию – Совет Церквей евангельских христиан-баптистов (далее – СЦ ЕХБ). К се-
Савин А. И., Дённингхаус В. Массовые религиозные мероприятия немцев Сибири как проявление «своенравного упрямства» (1960–1980-е годы) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 8: История. С. 114–126.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 8: История © А. И. Савин, В. Дённингхаус, 2017
редине 1960-х гг. Совет Церквей поддерживали уже около 10 тыс. верующих по всей стране [Никольская, 2009. С. 173–215].
Но гораздо важнее внутренняя связь. Религиозные диссиденты (советский антирелигиозный дискурс предусматривал еще целый ряд терминов для их обозначения, такие как «раскольники», «инициативники», «религиозные экстремисты», «сектанты-экстремисты» и т. п.) на протяжении последних 30 лет существования СССР бескомпромиссно выступали против партийно-государственного вмешательства в жизнь общин. Этот радикальный нонконформизм колоссально отличался от ставшего давно привычным приспособленчества религиозных организаций. Его трудно понять, если позабыть о том, что движение сторонников СЦ ЕХБ зародилось в самый романтичный и утопический период советской истории [Вайль, Генис, 2013]. «Инициативники» во многом являлись двойниками советских «шестидесятников» – они требовали от власти возвращения к «ленинским нормам» взаимоотношений церкви и государства и были в своих устремлениях такими же идеалистами и романтиками, как и самые завзятые последователи «Морального кодекса строителя коммунизма». Однако главным идефиксом религиозных диссидентов стало требование искренности как основы церковно-государственных отношений. Петр Вайль и Александр Генис писали, характеризуя умонастроения советского общества после публикации Третьей программы КПСС: «Сама идея общего дела была немыслима без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи – искренность» [Там же. С. 15]. В своих обращениях к власти «ини-циативники» неоднократно заявляли о том, что могли бы формально вести себя так же, как и все лояльные конфессии, начиная от православной церкви и заканчивая исламом, что им было бы проще проявлять двуличие, избегать прямых конфликтов с властью и нарушать советские законы исподтишка. Но в новых пространственно-временных отношениях, строя новую церковь, эти религиозные романтики и утописты наотрез отказывались от компромиссов «ради выживания» образца сталинской эпохи, которые могли бы повре- дить их искреннему отношению к вере, людям, обществу и даже государству.
«Судьба любой [религиозной] эмоции, – как отмечал Йорг Баберовски в своей программной статье «Сталинизм и религия», – приобрести такую форму, которая позволила бы вспомнить о ней и поделиться ею. […] Религия – это не только индивидуальный опыт, это место коллективного воспоминания, это солидарная общность» [Baberowski, 2004. S. 484]. Для того чтобы качественно новый религиозный опыт одних стал достоянием многих, «инициативникам» требовались также новые места коммуникации (помимо молитвенных домов, которых у них зачастую не было), а также новые или обновленные формы и ритуалы общения единомышленников. Поскольку советский вариант секуляризации не только не эмансипировал религию от сферы политического, но и, напротив, еще теснее связал все без исключения формы проявления религиозности с политикой, ритуалы и формы общения верующих стали объектом пристального нелицеприятного внимания партийно-советских и государственных органов.
Настоящая статья посвящена практикам массового «братского общения» сибирских меннонитов, сторонников СЦ ЕХБ, в форме религиозных праздников, семейных торжеств и обрядов, праздничных встреч «узников совести», а также молодежных слетов в 1960–1980-е гг. Один из «отцов» методологии истории повседневности, Альф Людтке, ввел в научный оборот термин «Eigensinn», который можно перевести как «своенравное упрямство» или «своеволие». С его помощью Людтке описывал повседневные «политические» практики немецких рабочих, или, как пишет Людтке, «политические компоненты частной жизни», позволявшие рабочим игнорировать или обходить некоторые политические требования государства либо дистанцироваться от них в результате индивидуального или коллективного действия [Людтке, 2010. С. 88–89]. В свою очередь мы попытаемся установить, в чем заключалось и насколько далеко простиралось «своенравное упрямство» верующих в случае с массовыми мероприятиями, что предпринимали протестанты, чтобы вырваться из того «религиозного» гетто, которое им отвело государ- ство, а также насколько адекватной и эффективной была реакция власти.
В 1960–1970-е гг. окончательно оформился «канонический набор» советских государственных праздников, сформировались шаблоны их проведения. В результате официальные праздники стали охватывать гораздо более широкие круги общества, чем это было в 1920–1950-е гг. [Рольф, 2009]. В это же время, наряду с официальными советскими праздниками, в «серой», полулегальной зоне продолжали бытовать религиозные праздники. Советские немцы традиционно праздновали Рождество, Пасху, а также День Жатвы (или День Урожая). Праздники эти отмечались, как правило, при участии большого числа верующих, в том числе детей и подростков. В случае с протестантами роль наиболее массового праздника играл День Жатвы. Его празднование верующие устраивали по завершении сезона полевых работ. Для проведения праздника выбирали село, где располагалась крупная община, в которое съезжалось несколько десятков, а то и сотен верующих. Помещение, в котором они собирались, украшали вышитыми платками с текстами из Библии, организовывали выставку плодов. В течение дня произносились проповеди на немецком языке, которые чередовались чтением стихотворений, оркестры и хоры исполняли духовные гимны и песни.
После раскола в баптистской церкви середины 1960-х гг. и возникновения движения СЦ ЕХБ религиозные праздники приобрели в глазах власти неотъемлемый криминальный оттенок именно из-за упорного стремления верующих из разных общин к многолюдному «братскому общению». В своем обращении к председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину евангельские христиане-баптисты Алтайского края, сторонники СЦ ЕХБ, писали 9 февраля 1966 г.: «Мы верующие, не имеем права посещать своих друзей в других местах. А когда делаем такие посещения, […] то приходит местная власть с милицией, партийными органами и дружинниками и “от имени советской власти” приказывают делать физические расправы» 1. Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому краю в 1971 г. описывал политику власти в отношении религиозных праздников в рамках другой дискурсивной практики: «Ставится задача – не допускать и пресекать религиозные сборища в сектах, не признающих законы. Там не должно быть молитвенных и братских собраний, водных крещений и религиозных браков, рождественских елок и пасхальных утренников […]. В дни религиозных праздников рекомендуется назначить специальное дежурство оперативных групп – депутатов, дружинников, членов комиссий содействия и сотрудников МВД. Поручать работникам исполкомов руководить этими группами и действовать соответственно с нашими рекомендациями […] При обнаружении на религиозных собраниях проповедников, оркестрантов и хористов, приехавших из других городов, составлять на них акты […]» 2.
В случае успешной реализации этой политики движение СЦ ЕХБ было обречено на атомизацию и максимальное разобщение верующих. Кроме того, «братские общения» в виде религиозных праздников были неразрывно связаны с вопросом о свободе передвижения проповедников и пресвитеров, а значит, с вопросом о свободе проповеди Евангелия. Советская власть традиционно стремилась ограничить «район деятельности служителей культа, религиозных проповедников, наставников» «местожительством членов обслуживаемого ими религиозного объединения и местонахождением соответствующего молитвенного помещения». Это жесткое правило, сформулированное еще в 1920-е гг. и вновь ставшее крайне актуальным в 1960-е гг., было категорически неприемлемо для религиозных диссидентов. Ни одна сторона конфликта не была готова пойти на уступки. Со стороны власти эта неуступчивость была зафиксирована даже на уровне дискурса: словосочетанию «массовые сборища» неизменно сопутствовало прилагательное «провокационные». При этом степень «провокационности» напрямую зависела от численности участников «сборища», а также наличия среди них иногородних гостей, в первую очередь – молодежи и служителей культа.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. «Об административной ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах» вооружил местные органы власти увесистой «дубинкой» в виде административных штрафов, которые остались самой распространенной мерой наказания верующих вплоть до 1991 г. Согласно Указу, максимальный размер штрафа составлял 50 руб., и именно на этой сумме, как правило, останавливались административные органы. Принимая во внимание средний размер заработной платы советских граждан в брежневский период – 120–140 руб., сумма штрафа была вполне серьезной, особенно при неоднократном применении к одному и тому же лицу.
Очевидно, одной из первых меннонит-ских общин Сибири, испытавшей на себе административное нововведение, стала община С. Подснежное Славгородского района Алтайского края. За проведение 22 октября 1967 г. Дня Жатвы административная комиссия районного исполкома оштрафовала «организаторов сборища», пенсионеров П. Ф. Тиссена и А. К. Ремпеля 3. Однако ограниченность штрафов в качестве основного оружия борьбы с «своевольным упрямством» верующих выяснилась достаточно быстро. Я. А. Ремпель, пресвитер меннонит-ской общины С. Полевое Хабарского района, так оценил эффективность штрафов в откровенной беседе с уполномоченным Совета по делам религий по Алтайскому краю осенью 1969 г.: «По словам Ремпеля, его за религиозную деятельность штрафовали много раз и он считает, что это едва ли достигнет цели, религия все равно будет жить» 4.
Кроме того, местные органы власти зачастую пасовали перед многолюдными сплоченными сборищами и шли по пути наименьшего сопротивления: вместо наказания руководителей общин, пресвитеров и проповедников они предпочитали накладывать штрафы на владельцев домов, в которых верующие собирались на праздник. Как с неудовольствием отмечал уполномоченный Совета по Алтайскому краю, «осенью 1970 года в Кулунде, Славгороде и Хабарском районе отколовшиеся баптисты самовольно и помпезно провели так называемые Праздники Жатвы, на которых присутствовало от 300 до 400 человек, в том числе [отмечалось] небывалое число приглашенных из других областей. В ответ на явный вызов закону, исполкомы в лучшем случае ограничились наложением штрафа на домовладельцев. Организаторы демонстраций и приезжие служители культа не выявлены» 5.
В свое оправдание местные органы власти могли ссылаться на то, что выполнить требование руководства зачастую было отнюдь не просто. Когда 17 октября 1971 г. в С. Орлово Хабарского района братские меннониты, вопреки предупреждению исполкома сельского Совета, в очередной раз провели День Жатвы, представители Хабарского райисполкома предложили «руководителям сектантов распустить собрание», чему верующие не подчинились. По окончании праздника, когда работники милиции попытались составить акты об административном правонарушении и проверить документы у приезжих, около 250 меннонитов оказали властям групповое неповиновение. Они «изолировали лиц, подлежавших проверке», усадили их на личные автомашины и мотоциклы и вывезли за пределы района 6.
По мере того как борьба с «раскольнической деятельностью» СЦ ЕХБ постепенно превращалась в рутину, рассчитанную на длительный срок [Савин, 2016], действия местных властей, направленные на пресечение массовых религиозных праздников, также утрачивали свою остроту. В конце 1970-х – начале 1980-х гг. представители государства фактически отказались от «активных» форм противодействия и предпочитали больше наблюдать и фиксировать факты правонарушений. В результате празднование Дня Жатвы становилось все более массовым и красочным. Так, на праздник, устроенный 24 сентября 1979 г. меннонитами Славго-родского района, в С. Некрасово съехалось около 300–320 чел., в том числе около 100 верующих в возрасте до 30 лет. Праздник проводился за селом в специально оборудованной палатке. Палатка была электрифицирована и радиофицирована (микрофон, магнитофон), оформлена плакатами религиозного содержания на немецком и русском языках, украшена зеленью и плодами 7. Спустя шесть дней на Праздник Жатвы в С. Ор-лово Хабарского района съехалось уже около 350–360 чел. Проповеди на немецком языке чередовались чтением стихотворений, оркестр и хор исполняли духовные гимны и песни 8.
Если главным «криминалом» празднования Дня Жатвы в глазах органов власти была его массовость, то в случае с Рождеством и Пасхой на первое место выступало участие в праздниках детей и подростков. Наглядное представление о том, как «немцы-сектанты» отмечали Рождество, дает типичный отчет уполномоченного Совета по делам религий по Алтайскому краю о праздновании Рождества меннонитами Хабарского района в 1976 г. Общины начали проводить детские елки уже 23 декабря. На елке, устроенной в с. Орлово на частной квартире, присутствовало 35 детей дошкольного возраста и около 60 взрослых. Дети рассказывали религиозные стихи, пели песни. Двадцать четвертого декабря «в таком же порядке» была проведена елка для детей школьного возраста, на которой было около 20 учащихся. В этот же день в селах Полевое и Протасово прошли елки для дошкольников и учащихся 1–6-х классов 9. Стремление подчеркнуть, что верующим есть что скрывать от советской общественности, присутствует в отчете уполномоченного от 18 июня 1974 г., также посвященном деятельности братских меннонитов С. Полевое Хабарского района. Сообщая о том, что «в рождественские и пасхальные праздники, в нескольких квартирах верующих устраивались елки и утренники», уполномоченный специально указал время проведения – три часа ночи и шесть часов утра. Подарки детям привез отнюдь не Дед
Мороз, а «связной секты Регер П. Г. […] из-за пределов района» 10.
Так как уже сам факт группового религиозного празднования являлся нарушением советского законодательства, то неизменной задачей комиссий содействия исполкомам по соблюдению законодательства о религиозных культах совместно с милицией, а также депутатов местных советов и общественников-активистов было выявление, а в идеале – «недопущение незаконных сборищ». Однако, как правило, все сводилось к мерам профилактического характера и выборочным административным штрафам. Так, на Пасху 1982 г. общины СЦ ЕХБ городов Омска и Исилькуля, а также братских меннонитов Москаленского, Исилькульского и Омского районов «скрытно провели богослужения на квартирах единоверцев». Организаторы «незаконных собраний» были предупреждены, на некоторых активистов члены комиссий содействия составили акты об административном правонарушении 11.
Еще одним способом сделать «братское» общение между верующими более интенсивным стало активное использование семейных торжеств и обрядов. У последних имелось одно несомненное преимущество – они проводились вполне легально, и для властей было достаточно проблематично отследить и доказать два главных «криминальных» момента: посещение этих мероприятий иногородними участниками и проведение религиозных обрядов вне стен помещений.
В случае со свадьбами особое недовольство властей вызывало фактически открытое «братское общение» между молодыми верующими. Так, в октябре 1973 г. уполномоченный Совета зафиксировал, что на «религиозной свадьбе» меннонитов Гарден и Дерксен, состоявшейся в С. Глядень Благовещенского района Алтайского края, «присутствовало не только много местной молодежи, но и приезжей из-за пределов района» 12. А на «религиозной свадьбе» братских меннонитов, состоявшейся 9 июня 1974 г. в С. Полевое Хабарского района Алтайского края, присутствовало до 500 чел., «из которых около
80 % были молодые верующие из многих городов и районов [края]» 13. Даже та отрывочная информация, которая содержится в отчетах уполномоченных Совета по делам религий при Совете Министров СССР, дает основание предположить, что к концу 1970-х гг. свадьбы стали для религиозных диссидентов одной из наиболее практикуемых форм «братского общения». В своей информационной записке в Алтайский крайком КПСС о деятельности в крае «религиозных вожаков-экстремистов», датированной июлем 1979 г., уполномоченный Совета отмечал, что верующие организуют массовые встречи «под различными видами и предлогами». Только за первую половину 1979 г. на «сектантских свадьбах» присутствовало в р. п. Кулунда около 300 чел., в Табунском районе – также около 300. Еще два массовых «сборища» состоялись в Хабарском районе: золотая свадьба братских меннонитов Изаак, где собралось около 230 верующих, и свадьба в С. Орлово, где присутствовало около 300 верующих 14.
Свадьбу механизатора совхоза «Карпилов-ский» И. И. Энгбрехта и доярки Е. Я. Фаст, состоявшуюся 9 мая 1979 г. в С. Николаевка Табунского района Алтайского края, можно рассматривать как типичную с точки зрения поведения верующих и действий властей. Заместитель председателя Табунского райисполкома заблаговременно посетил молитвенное собрание общины и призвал провести свадьбу «как обычную и не превращать ее в религиозное собрание». Кроме того, он предложил перенести свадьбу на другой день, не совмещая ее с официальным государственным праздником, а также не приглашать гостей из других районов и областей, так как ферма С. Николаевка якобы была «неблагополучной по туберкулезу». Несмотря на эти «профилактические» предупреждения, свадьба состоялась в День Победы, и на нее приехало около 300 гостей из других сел района. За этими исключениями «свадьба прошла в обычном порядке», о чем руководство Табунского райисполкома с удовлетворением сообщило уполномоченному Совета по делам религий по Алтайскому краю 15.
Однако грань между легальным свадебным обрядом и нелегальным «братским общением» была весьма тонка, и стоило только верующим проявить чуть меньше конформизма, а местным властям – чуть больше административного рвения, как возникал конфликт и праздничная свадьба превращалась в «незаконное собрание верующих под прикрытием свадьбы». Как это происходило, дает наглядное представление «акт об административном правонарушении», составленный 10 мая 1980 г. властями Благовещенского района. 9–10 мая 1980 г. в рабочем поселке Благовещенка, «во временно сооруженных навесах», проводился обряд бракосочетания П. Фризена и А. Дерксен, на котором присутствовало более 300 чел. «граждан немецкой национальности», являвшихся членами Совета церквей ЕХБ. Среди гостей свадьбы преобладали молодые люди в возрасте 16–20 лет, многие из которых приехали из других районов Алтайского края и соседних областей. Уже на второй день торжества члены комиссии содействия пришли к выводу, что «собравшиеся проводят молодежное общение сектантов, не имевшее никакого отношения к обряду бракосочетания». К такому заключению комиссию подвигли многочисленные выступления проповедников, сопровождавшиеся исполнением «религиозных гимнов». Кроме того, были установлены личности двух приезжих проповедников. На предложение комиссии «прекратить собрание», присутствующие ответили отказом, а также отказались от подписания акта об административном правонарушении. Возможно, рвение членов комиссии подстегнул тот факт, что меннонитская свадьба проводилась в день государственного праздника 16.
«Актирование» похорон, учитывая траурный характер обряда, производилось гораздо реже, чем в случае со свадьбами, тем не менее, сведения о вмешательстве властей в проведение похорон в документах также имеются. Так, серьезные претензии со стороны комиссии содействия по соблюдению законодательства о религиозных культах при исполкоме Гришковского сельского Совета народных депутатов Славгородского района Алтайского края вызвали похороны Генриха Эппа, жителя С. Гришковка, скончавшегося 31 марта 1983 г. Формально «криминал» заключался в том, что исполнение похоронных религиозных обрядов продолжалось за стенами дома покойного, по дороге на кладбище и на самом кладбище, на самом же деле главное недовольство властей вызвало участие в похоронах преимущественно молодежной по своему составу группы верующих из Славго-рода 17.
Штрафы были отнюдь не единственной формой борьбы с «братским общением». Как и органы государственной безопасности, которые в брежневскую эпоху все в большей степени заменяли репрессивные практики так называемым «профилактированием», так и местные органы власти и комиссии содействия во главе с уполномоченными Совета иногда достаточно эффективно предотвращали массовые собрания диссидентов. Так, когда уполномоченному Совета по делам религий по Алтайскому краю стало известно, что 1–2 мая 1982 г. в Барнауле «под предлогом свадьбы одного из активистов-раскольников намечается молодежное общение с массовым заездом “гостей” из других регионов страны», он оперативно сообщил об этом 10 городским и районным исполкомам Алтайского края, а также уполномоченным Совета тех областей, откуда должны были приехать на свадьбу гости. В свою очередь местные исполнительные комитеты предупредили руководителей религиозных объединений об ответственности за участие в предстоящем мероприятии. В прокуратуру были приглашены и предупреждены «о недопустимости противозаконных действий» руководители Барнаульской общины СЦ ЕХБ, а также хозяин дома, где намечалось проведение свадьбы. В профилактических действиях были также задействованы сотрудники милиции и краевого управления КГБ. В результате, как констатировал уполномоченный, «массовое сборище было предотвращено, состоялась обычная церковная свадьба, на которой при- сутствовали в основном верующие из г. Барнаула» 18.
Праздник крещения в водоемах – один из центральных обрядов баптизма, привлекавший множество гостей из соседних общин – по определению мог проводиться только под открытым небом. Следовательно, согласно постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г., верующие должны были каждый раз испрашивать разрешение местного райисполкома. Однако сторонники СЦ ЕХБ с заявлением в райисполкомы никогда не обращались и традиционно проводили крещения «явочным порядком». В результате местные органы власти либо узнавали об обряде задним числом, либо предпочитали закрывать на него глаза. Так, в конце июня – начале июля 1976 г. в озере, расположенном близ С. Никольское Протасовского сельсовета Хабарского района, меннониты провели крещение большой группы верующих, большей частью – членов общин СЦ ЕХБ Славго-родского района. Никольский сельский совет предпочел игнорировать «вылазку церковников», в результате «никаких санкций к нарушителям предпринято не было» 19.
Однако спустя два года, когда 9 июля 1978 г. меннониты вновь организовали в этом же озере массовый праздник крещения, в котором приняли участие около 300 верующих из Хабарского и Славгородского районов Алтайского края, районные власти были начеку. В акте об административном правонарушении подробно зафиксирован весь ход «массового сборища» и поименно названы самые активные участники. Так, в акте были перечислены фамилии 16 руководителей меннонитских общин городов Славгорода и Павлодара, сел Некрасово, Александровка, Орлово, Лесное, Чертеж, Полевое и Прота-сово, присутствовавших на крещении 20.
Еще одной формой публичной активности верующих, вызывавшей острую неприязнь властей, являлись торжественные массовые встречи «узников совести» – верующих, вернувшихся из мест лишения свободы. Органы, отвечавшие за надзор над религиозными организациями, традиционно и вполне заслуженно считали, что возвращение из лагерей проповедников и пресвитеров, с их ореолом «мучеников за веру», служит сильным катализатором религиозной деятельности.
В конце 1960-х гг. в рамках противостояния СЦ ЕХБ и государства проблема «узников совести» приобрела для власти новое качество, поскольку сам факт возвращения домой бывших заключенных получил свое институциональное оформление в виде массовых праздничных сборищ, которые служили, с одной стороны, формой «братского общения», с другой – репрезентацией бесстрашия религиозных диссидентов перед лицом карательной системы государства и их готовности «пострадать за Христа».
На это же время – конец 1960-х гг. – пришлось несколько «волн» массового освобождения из лагерей протестантов, осужденных в 1966–1967 гг. по указу Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1966 г. Как отмечалось в отчете Совета по делам религий при Совете Министров СССР, к концу 1968 г. из мест заключения вернулись 70 «сектантских» вожаков, большинство из которых «возобновили свою преступную деятельность». В 1969 г. из лагерей освободились еще 82 чел. 21 Органы власти заблаговременно готовились к такому развитию событий. В конце ноября 1968 г. все уполномоченные Совета по делам религий получили в связи с массовым освобождением «руководителей сектантских групп» директиву руководства. В соответствии с этой директивой уполномоченные Совета при поддержке местных властей должны были не только выявить всех вернувшихся из заключения лиц, осужденных за нарушения законодательства о культах, и обеспечить «должный надзор за их деятельностью», но и подготовиться к освобождению «сектантских вожаков», которое должно было последовать в 1969 г., и принять все требуемые меры для пресечения «малейших попыток возобновления противозаконных действий» 22.
Уже первые встречи освободившихся пресвитеров и проповедников, состоявшиеся в конце 1968 г. в Алма-Атинской, Киевской, Ленинградской, Новосибирской, Харьковской, Челябинской и ряде других областей, вылились в массовые акции верующих с «открытыми призывами бороться против действующего законодательства о культах». Ряд этих встреч сопровождался столкновениями верующих и милиции. В результате в мае 1969 г. последовала еще одна директива Совета, в которой с неудовольствием констатировалось, что, хотя уполномоченным Совета и местным административным органам в большинстве случаев было заранее известно о подготовке массовых встреч, «должных мер по их предотвращению не принималось» 23. Параллельно в мае 1969 г. Прокуратура СССР в лице М. П. Малярова, КГБ при Совете Министров СССР в лице С. К. Цвигуна и Совет по делам религий при Совете Министров СССР в лице В. А. Куроедова обратились в отдел административных органов ЦК КПСС с предложением, «учитывая общественно-опасный характер деятельности освобожденных из мест заключения вожаков нелегальных сектантских организаций», установить за ними административный надзор.
Для властей Алтайского края пробным камнем стало возвращение в Барнаул в 1970 г., после отбытия трехлетнего срока заключения, пресвитера Барнаульской общины СЦ ЕХБ Я. Я. Биля и одного из лидеров сибирских общин СЦ ЕХБ Д. В. Минякова. Особенно бурно протекало массовое чествование Минякова. О предстоящем возвращении баптиста руководители Железнодорожного райисполкома г. Барнаула, на территории которого действовала самая крупная община «инициативников» Алтайского края, состоявшая преимущественно из лиц немецкой национальности, были поставлены в известность заранее. К месту «сборища» прибыл внушительный отряд милиции, усиленный дружинниками и «активистами-общественниками». Однако четкого плана действий у представителей власти не было. В итоге они, по словам уполномоченного Совета И. Я. Ко-робейщикова, «образовали толпу, предоставив возможность баптистам фотографи- ровать себя из окон [молитвенного] дома». Вместо активных мер по «утверждению закона» многие участники операции вступили в идеологический спор с верующими. Как с глубочайшим сарказмом писал Коробей-щиков, «отсутствие Бога доказывали даже милиционеры». В результате представители органов власти скомпрометировали себя, при этом не было «задокументировано», кто организовал массовую встречу, не были выяснены личности абсолютного большинства приезжих баптистов, в то время как небрежно составленные документы о «сборище» не могли служить юридическим основанием для принятия карательных мер 24.
Чтобы избежать подобного фиаско в будущем, уполномоченный Совета по Алтайскому краю разработал алгоритм действий по пресечению массовых «сборищ» верующих, с которым он в начале 1971 г. ознакомил участников краевого совещания работников партийных и советских органов, посвященного вопросам атеистической пропаганды и борьбы с религией 25. При проведении подобных акций предписывалось не вступать с верующими в «теистические» споры и дискуссии, протоколы следовало оформлять юридически грамотно и четко, для чего рекомендовалось в состав групп по разгону «братских общений» назначать опытных лиц, имеющих хорошую юридическую подготовку. В деле профилактики массовых «сборищ» должно было осуществляться эффективное разделение труда: органы МВД, помимо непосредственного разгона собрания и «пресечения фактов сопротивления сектантов», были призваны своевременно получать информацию о перемещениях служителей культа и проповедников в первую очередь о появлении иногородних верующих. От органов прокуратуры ждали оперативного решения вопросов об уголовной ответственности «злостных нарушителей законодательства о религиозных культах». Специфическая задача органов санитарного надзора сводилась к тому, чтобы потенциальные места массовых собраний верующих, в первую очередь в сельской местности, своевременно объявля- лись неблагополучными в эпидемиологическом отношении 26.
Однако, несмотря на все принимаемые властями меры, «торжественные встречи узников» не прекращались на всем протяжении 1970-х – первой половины 1980-х гг. Так, в отчетах уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Омской области А. И. Еременко за 1977–1979 гг. приведены данные о возвращении из мест заключения «главарей» незарегистрированных групп братских меннонитов Исилькульского и Москаленского районов Омской области И. А. Валла, И. Я. Винса, Я. Ф. Дерксена, Пеннера, Фаста и И. Ф. Тевса 27. По меньшей мере двоим из них – И. А. Валлу, проповеднику общины меннонитов С. Апполоновка Исилькульского района 28, и И. Ф. Тевсу, проповеднику общины меннонитов дер. Миро-любовка Москаленского района, были устроены в 1977 и 1979 гг. массовые праздничные встречи, вызвавшие ответные меры властей.
Вероятно, одним из последних мероприятий такого рода с участием верующих из числа немцев-«инициативников» стала встреча из заключения в начале 1985 г. Владимира Лакке, жителя С. Хорошее Табунского района Алтайского края, осужденного в 1983 г. во время службы в Советской армии к полутора годам лишения свободы «за пропаганду религии» 29.
Организация массовых встреч молодежи из семей верующих являлась, наряду с праздничными встречами «узников совести», еще одной новацией «баптистов-раскольников». Верующие прекрасно понимали, что если в случае с религиозными праздниками или семейными торжествами они хоть в какой-то мере защищены от карающей руки государства традициями и рутиной, то в случае с религиозными слетами детей и подростков власть будет действовать решительно и жестко. Поэтому «молодежные общения» баптисты устраивали, тщательно соблюдая все требования конспирации. Только этим можно объяснить то, что уполномоченные Совета и местные органы власти узнавали про массо- вые встречи детей и подростков, как правило, задним числом. В 1973 г., по информации Совета по делам религий при Совете Министров СССР, «такие экстремистские действия, как массовые сборища сектантов или молодежные “общения”, “слеты”, совещания сектантских вожаков были обнаружены в Алтайском крае и [еще] 10–12 областях» 30. В 1974 г. уполномоченный Совета по Алтайскому краю лаконично отмечал, что, по имеющимся данным, «молодые верующие посылались на религиозные сборы в Славгород, Барнаул, Новосибирск и другие места» 31.
Представление о том, какого масштаба могли достигать молодежные «общения» и как на них реагировала власть, можно получить, опираясь на описания молодежного слета баптистов Сибири и Казахстана, состоявшегося 4 июня 1978 г. в Исилькульском районе Омской области. Слет был организован сторонниками СЦ ЕХБ «в лесах колхозов» «Сибирь» и «Боевой», его участниками стало около 300 чел., главным образом школьники старших классов под руководством взрослых. Местные власти заранее были проинформированы о слете «компетентными органами» и приняли превентивные меры: все руководители баптистских общин Новорождественского, Солнцевского, Баевского сельских советов Исилькульского района и г. Исилькуль приглашались в сельсоветы и горисполкомы, где их предупреждали о персональной ответственности за «незаконное сборище». Было также принято соответствующее решение Исилькульского райисполкома о запрещении массового пребывания людей в лесах в связи с пожароопасным сезоном и об ответственности за потраву посевов.
В ночь на 4 июня 1978 г. организаторы слета приступили к оборудованию места его проведения. К шести часам утра на всех видах транспорта стали собираться участники слета. Работники ГАИ и дружинники патрулировали дороги, проверяя правила перевозки людей и техническое состояние автомототранспорта, снимая с «нарушителей» государственные номера. На предло- жение прекратить «незаконное сборище» верующие не реагировали и продолжали богослужение, которое продлилось до 14 часов дня. Для разгона слета власти использовали три трактора, которые работали на полных оборотах, чтобы заглушить проповеди и хор. Кроме этого, трактор К-700 вспахал землю вокруг стоявших на поляне автомашин и мотоциклов верующих, чтобы те не смогли покинуть место сбора. После этого милиционеры и дружинники провели аресты участников слета 32. Зато барнаульским «раскольникам» удалось скрытно от властей безнаказанно провести 6–7 ноября 1978 г. межкраевое и межобластное собрание молодежи.
Последние сведения о молодежных встречах датируются в отчетах уполномоченных Совета концом 1980-х гг. Так, в апреле 1989 г. в Славгороде состоялось «молодежное общение», в котором принимали участие около 500 чел. – делегаты общин СЦ ЕХБ Алтайского края, Павлодарской, Омской, Карагандинской и других областей 33.
В качестве определенной квинтэссенции массовых «братских общений» 1960–1980 гг. можно рассматривать празднование сибирскими общинами СЦ ЕХБ 25-летия «инициативного» движения в 1986 г. По словам уполномоченного Совета по Алтайскому краю, самочинный праздник стал «своеобразным смотром» каждой общины СЦ ЕХБ, «действенным средством повышения активности их деятельности», «усиления антиобщественных устремлений». Празднование в общинах проводилось по заранее согласованному графику, что позволило верующим произвести обмен делегациями, проповедниками и даже хорами. Общины подготовили литературно-музыкальные программы, организовали выставки религиозного «самиздата», разместили фотостенды, посвященные «истории раскола» и «страдальцам за веру».
Все усилия власти спустить процесс «на тормозах» с помощью «профилактирова-ния» потерпели фиаско. Несмотря на то, что руководителей общин СЦ ЕХБ поголовно приглашали в райисполкомы, где официально предупреждали о недопустимости на- рушения законодательства о религиозных культах и каждому под расписку вручали листки с текстом предупреждения, верующие не пошли на компромисс 34. В ответ власти применили силу. Как писал уполномоченный Совета, «при попытке пресечения демонстративного нарушения требований советских законов верующими допускались оскорбительные выкрики в адрес местных органов власти, представителей общественности, другие противоправные действия». Когда милиция задержала в Благовещенском районе одного из «активных организаторов нарушения законодательства» Г. П. Вибе, у районного отдела милиции собрались верующие в количестве 60–65 чел. с требованиями прекратить «преследование брата» 35.
Наиболее компетентные деятели «антирелигиозного фронта» брежневского образца прекрасно понимали, что в своей борьбе с религиозной обрядностью они зашли в тупик, что с идеей можно бороться только идеями. Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по Алтайскому краю еще в мае 1963 г. призывал противопоставить «церковно-поповской обрядности» «советскую эмоционально-красочную обрядность». Этот призыв – больше «хороших, красочных, современных обрядов» – кочевал из года в год из одного партийного документа в другой, временами решение об усилении «безрелигиозной обрядности» принималось на государственном уровне. Так, в сентябре 1972 г. было принято постановление Алтайского крайисполкома «по дальнейшему развитию и совершенствованию новых обрядов». В результате в сельской местности традиционным стал обряд торжественных проводов юношей в Советскую армию, ежегодно в мае проводился «День памяти погибших и умерших», противопоставленный религиозному обряду поминок, конкуренцию Пасхе должны были составить праздники типа «Проводов русской зимы» и «Дня борозды».
Однако путь внедрения светской обрядности оказался чересчур долгим, новые праздники и обряды несли на себе печать вторично- сти и казенщины, безоговорочно проигрывая религиозным. В этой ситуации путь запрета и наказания традиционно воспринимался как более привычный и эффективный. Массовые «братские общения» являлись в брежневскую эпоху одной из главных форм публичной репрезентации движения религиозных диссидентов и демонстрации «своевольного упрямства» верующих. Они оказались крайне «неудобными» для власти, которая фактически спасовала, не сумев предложить адекватного ответа.
Список литературы Массовые религиозные мероприятия немцев Сибири как проявление "своенравного упрямства" (1960-1980-е годы)
- Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: АСТ, 2013. 432 с.
- Людтке А. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010. 271 с.
- Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2009. 353 с.
- Рольф М. Советские массовые праздники. М.: РОССПЭН, 2009. 439 с.
- Савин А. И. «Многие даже не допускают мысли, что сектант может быть честным человеком». «Брежневский» поворот в антирелигиозной политике и российский протестантизм (1964-1966 гг.) // Вестн. Тверск. гос. ун-та. Серия: История. 2016. № 4. С. 59-75.
- Baberowski J. Stalinismus und Religion // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2004. Bd. 52. No. 4. S. 481-493.