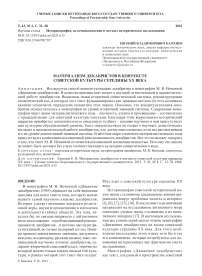Материализм декабристов в контексте советской культуры середины XX века
Автор: Каменев Евгений Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Исследуется способ концептуализации декабризма в монографии М. В. Нечкиной «Движение декабристов». В качестве примера взят сюжет о научной, атеистической и просветительской работе декабристов. Выявлены знаки вторичной семиотической системы, реконструирован семиотический код, в котором этот текст функционировал как знаковая система (то есть возникало явление семиозиса), определена семантика этих знаков. Показано, что концептуализация декабризма осуществлялась в монографии на уровне вторичной знаковой системы. Содержание монографии через знаки материалистического кода - научность, атеизм и просвещение - соотносилось с прецедентными для советской культуры текстами. Благодаря этим корреляциям исторический нарратив приобретал дополнительную смысловую глубину - помимо научного в нем присутствует еще культурно обусловленный уровень. Текст свидетельствует не только о научных, атеистических взглядах и просветительской работе декабристов, что достаточно очевидно, если мы рассматриваем его на уровне денотативной знаковой системы. В нем благодаря элементам материалистического кода присутствуют коннотации несомненной революционности декабристов. Все это позволяет говорить о том, что текст М. В. Нечкиной отличается несомненной полисемантичностью. Поэтому его анализ не может быть полным без учета соответствующего культурно-семиотического кода.
Советская историческая наука, историография декабризма, м. в. нечкина, семиотика, культурный код, коннотации
Короткий адрес: https://sciup.org/147227353
IDR: 147227353 | УДК: 930.1:94(470)”18” | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.615
Текст научной статьи Материализм декабристов в контексте советской культуры середины XX века
В монографии М. В. Нечкиной «Движение декабристов» (1955) обращает на себя внимание сквозная для всего текста тема, которую можно назвать темой научного атеизма декабристов. Историк уделяет внимание вопросам религиозной веры, науки и просвещения в идеологии и деятельности тайных обществ. Эта тема, казалось бы, не связана напрямую с лейтмотивом всего исследования – идеей несомненной революционности декабристов – и поэтому выглядит факультативной, но только на первый взгляд. Помимо прямого денотативного значения, доступного каждому, владеющему русским языком, текст, посвященный научному атеизму декабристов, содержит вторичный смысловой пласт, «прочесть» который можно только владея языком той культуры, в рамках которой этот текст был создан1.
Речь идет о советской культуре середины XX века.
Историография советской исторической науки эпохи сталинизма традиционно концентрировалась вокруг проблемы «власть и историк» [1], [6], [7], [15], [16]. В последние годы внимание направлено на исследование жизненного мира советских ученых эпохи сталинизма и их понятийного аппарата [17]. В настоящем исследовании мы ставим своей целью чтение монографии «Движение декабристов» на языке советской культуры середины XX века. Для этого необходимо воссоздание этого языка хотя бы в тех его компонентах, которые потребуются для понимания интересующих нас фрагментов текста исследования.
Монография «Движение декабристов» как текст, созданный в пространстве советской
культуры, является по своей сути многослойным семиотическим неоднородным произведением2. Такие произведения, как показал Ю. М. Лотман, вступают в «диалог» со своим культурным контекстом [11]. Советский культурный контекст интересующего нас периода мы, вслед за Р. Бартом, рассматриваем как вторичную семиотическую систему, причем план выражения знаков этой системы не соответствует знакам первичной системы – естественного языка, на котором написан текст монографии3. Наши задачи, следовательно, заключаются в том, чтобы, во-первых, выявить знаки вторичной системы, во-вторых, реконструировать семиотический код, в котором текст о научном атеизме декабристов функционировал как знаковая система (то есть возникало явление семиозиса), в-третьих, определить семантику этих знаков.
Мы разделяем взгляды Х. Уайта, согласно которым репрезентация феноменов прошлого является литературной по своей сути [18: 7] и в историописании язык играет активную роль в производстве смыслов [19: 206], [20: 132]. Однако считаем, что прямое копирование литературоведческого подхода малопродуктивно для изучения историографии. С литературоведческой точки зрения интерес представляет сам механизм смыслообразования, порождающий потенциально бесконечное количество смыслов (Р. Барт стремился показать текст как воплощенную множественность). Нам же важнее выявить конкретные коннотации, которые возникали в пределах только одной культуры4.
ЗНАКИ ВТОРИЧНОЙ СЕМИОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Первым знаком коннотативной системы в монографии М. В. Нечкиной является научность . Декабристы не были профессиональными учеными, но вся их жизнь была тесно связана с наукой, к которой они испытывали неподдельный интерес. Молодые люди еще до создания своих первых организаций посещали лекции известных российских ученых и усиленно занимались самообразованием. В качестве отдельной самостоятельной стороны деятельности Семеновской артели выделяется «посещение офицерами научных лекций»5. В солидных по объему дневниках Николая Тургенева исследовательницу привлекают места, свидетельствующие не только о политических и социальных взглядах декабриста, но и о его интересе к науке: «Н. Тургенев записал в своем дневнике 8 сентября 1807 г.: “Нынче был я в Университете, в годовом собрании общества испытателей природы”» (I: 97).
Первая декабристская организация, Союз спасения, развивалась не только в политической, но и в «научной атмосфере» (I: 150). Члены Союза страстно читали «новую теоретическую литературу», ставили перед собой задачи «распространения научных сведений» и перевода книг по «умозрительным» и естественным наукам (I: 199). Планировалось даже издание журнала, в котором должны были публиковаться «статьи на чисто научные темы» (I: 248).
Мировоззрение членов тайных обществ было сугубо рациональным. Декабристы отвергали все, что противоречит доводам разума. Исторические взгляды декабристов, по мнению М. В. Нечкиной, являются даже более научными, чем исследования самого Н. М. Карамзина:
«Карамзин полагал царя демиургом истории и проповедовал, что царь “движением перста дает ход громадам”. Декабрист противопоставлял этому понятие “естественного хода вещей”, какого-то закономерного развития исторического процесса» (I: 252).
В этом фрагменте обращает на себя внимание использование историком слова «закономерность» для характеристики декабристской теории исторического развития, которое напрямую отсылает к идее научности.
Даже находясь на поселении в Сибири, вдалеке от интеллектуальных центров страны, лишенные доступа к библиотекам, декабристы продолжали заниматься наукой. М. В. Нечкина, характеризуя жизнь декабристов на каторге, пишет, например, об исследовании Никиты Муравьева, которое было посвящено созданию
«широкой сети взаимно сообщающихся судоходных каналов, которые должны были кардинальным образом улучшить всю систему путей сообщения России» (II: 447).
Следующим знаком вторичной семиотической системы в монографии является атеизм . Декабристы изображены на страницах исследования советского историка как убежденные, последовательные атеисты: уже с юного возраста они усваивали антирелигиозные взгляды. У них «рано возникают сомнения в существовании бога и в догматах официальной религии». Основатели общества Соединенных славян Петр и Андрей Борисовы росли в «свободной от религиозного дурмана семье» (II: 147). Атеизм был характерной чертой мировоззрения декабристов и в студенческие годы. В жизни студентов Московского университета царило «религиозное безверие», которое было «философской позицией» будущих декабристов (I: 98).
Тезис об атеизме декабристов постоянно звучит и в тех частях монографии, которые посвя- щены идеологии и деятельности тайных обществ. Историк пишет, что в идеологии Смоленского офицерского кружка Александра Каховского и Алексея Ермолова было ярко выражено «резко антицерковное, пожалуй, даже атеистическое мировоззрение» (I: 89), на юге, в Тульчине, «господствовало безбожие» (II: 123). Члены Союза благоденствия вторглись даже «в «Библейское общество», «взволновав там стоячее болото и добившись некоторой растерянности» (I: 268).
Атеистическое мировоззрение декабристов нашло свое отражение в декабристских текстах. В этом смысле показательна интерпретация исследовательницей фантастического произведения «Сон» А. Д. Улыбышева. Внимание советского историка привлекают те фрагменты источника, которые свидетельствуют об антицерковном мировоззрении Улыбышева:
«Выйдя из Пантеона, автор попадает на Невский проспект, – и тут картина изменилась. Ранее вдали рисовался силуэт монастыря, а теперь вместо него возвышалась триумфальная арка, “как бы воздвигнутая на развалинах фанатизма”» (I: 243).
Анализ «Сна» приводит историка к выводу, что у его автора «хватило смелости на религиозный протест» (I: 247).
Наконец, характеристика отдельных декабристов также включает в себя упоминание об их безверии. По мнению М. В. Нечкиной, Пестель «не удовлетворялся религиозными объяснениями», а Барятинский «был атеистом, придя к нему на основании продуманных философских предпосылок» (II: 123).
Третьим знаком коннотативной системы является просвещение. Декабристы, согласно тексту монографии, активно вели педагогическую работу. В Союзе благоденствия существовало отдельное специальное направление деятельности (так называемая отрасль) под названием «образование». Члены этой отрасли «должны были “тщательно” заниматься распространением знаний». В поле зрения декабристов попали как «народные учебные заведения», так и частное воспитание (I: 198). Декабристы планировали издавать «журналы, посвященные вопросам воспитания, образования и распространения знаний», писать книги «о воспитании юношества» (I: 199).
Основным же направлением в педагогической деятельности членов тайных обществ было открытие ланкастерских школ. Декабристы создали «Вольное общество учреждения училищ по методе взаимного обучения». Член Союза благоденствия В. Пассек организовал собственную ланкастерскую школу. Ланкастерские училища были открыты и на юге – в Кишиневе (I: 263, 265, 266). Даже в сибирской ссылке декабристы продол- жали активно заниматься просветительской работой:
«Выйдя на поселение по отбытии каторги, они устраивали школы, распространяли среди населения сведения по сельскому хозяйству и ремеслу» (II: 447–448).
Прямой денотативный смысл всех этих знаков очевиден: декабристы интересовались наукой, были атеистами и занимались просветительской работой. Однако в рамках советской культуры середины XX века выявленные нами знаки имели свои коннотации. Коннотации актуализируются и приобретают фиксированное значение благодаря ассоциациям, возникающим в пределах той культуры, в которой создан текст. Возникают они на основе интертекстуальных связей произведения через актуализацию явных и скрытых отсылок к прецедентным текстам данной эпохи. Поскольку культура представляет собой совокупность семиотических кодов [10], [12], наша задача – реконструировать тот код, в пределах которого текст функционировал как знаковая система.
СЕМИОТИЧЕСКИЙ КОД
В советской культуре понятия наука и революция были семантически связаны друг с другом. В качестве эталона революционности в советское время выступала партия большевиков. Большевики, как показано во всех ключевых текстах эпохи, боролись не только против царской власти. Их удар был направлен против всего жизненного уклада Российской империи, который включал в себя, помимо прочего, религию. Вместо веры в бога большевики поставили во главу угла науку. Актуальность науки для революционера, ломающего старый и строящего новый мир, была обусловлена особым взглядом на научное знание в советской культуре. Развитие науки вписывалось в марксистскую парадигму революционного движения:
«Естественно-научное мировоззрение <…> является в то же время моментом классовой борьбы. Основоположники марксизма дали в этом отношении очень много для понимания связи борьбы за те или иные естественно-научные гипотезы с общей борьбой различных классов тогдашнего общества, за их классовые интересы»6.
Вот почему подлинный революционер просто обязан со всем вниманием относиться к развитию науки. Образцом в этом смысле был В. И. Ленин, мировоззрение которого выстраивалось исключительно на научном фундаменте. Так, например, согласно С. Ф. Ольденбургу:
«…в край угла построения собственного мировоззрения и всего строительства новой жизни Ленин ставит науку <...> Ленин сознавал вполне определен- но, что без сознательного отношения к окружающему нас миру, отношения, которое может дать только одна наука, немыслимо никакое движение вперед»7.
Связь понятий революция и наука усиливалась еще и тем, что оба этих понятия были объединены в советской культуре идеей борьбы со старым и движением вперед. В этом смысле и революционер, и ученый, по сути, делают одно и то же.
«Наука знает в своем развитии немало мужественных людей, которые умели ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия, вопреки все-му»8, – утверждал И. В. Сталин.
Кроме того, наука понималась как фундамент строительства нового послереволюционного мира:
«Мы знаем, – говорил Ленин, – что коммунистического общества нельзя построить, если не возродить промышленности и земледелия, причем надо возродить их не по-старому. Надо возродить их на современной, по последнему слову науки построенной, основе»9.
Интерпретация ленинских идей была однозначной:
«…ясно, что практическая наука, да и вся наука вообще, с самыми абстрактными ее методами, подходами, дисциплинами и идеями необходимо привлекается как величайшей важности элемент строительства»10.
Неудивительно поэтому, что наиболее видные революционеры, ставшие затем руководителями Советского государства, считались одновременно и серьезными учеными. Например, В. И. Ленин был поставлен в один ряд с Г. Галилеем и Ч. Дарвином потому, что он, вооружившись научной теорией, дал обоснование политическому развитию России:
«Такие мужи науки, как Галилей, Дарвин и многие другие, общеизвестны. Я хотел бы остановиться на одном из таких корифеев науки, который является вместе с тем величайшим человеком современности. Я имею в виду Ленина, нашего учителя, нашего воспитателя. Вспомните 1917 год. На основании научного анализа общественного развития России, на основании научного анализа международного положения Ленин пришел тогда к выводу, что единственным выходом из положения является победа социализма в России»11.
В этом смысле можно вспомнить и ту ведущую роль в науке, которую советская идеология отводила И. В. Сталину как активному участнику целого ряда научных дискуссий.
В семантическом поле понятия революция в советской культуре находилось и понятие атеизм . Одной из основных оппозиций советской эпохи было противопоставление науки и религии, а атеизм рассматривался как характерная черта революционного мировоззрения:
«Владимир Ильич, – писал А. В. Луначарский, – считал, что наука, подлинная, настоящая, революционная наука, противоположна религии. И потому, уважая науку, он ненавидел религию как ее антипода»12.
Противопоставление науки и религии имело ярко выраженный политический аспект. Царская власть, согласно советским идеологам, использовала религию как инструмент порабощения трудящихся масс13. Именно поэтому подлинные революционеры должны наряду с политической борьбой противодействовать еще и «религиозному фанатизму»:
«Ленин <….> в соответствии с программой коммунистической партии считает необходимым содействовать фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков, только заботливо избегая, как говорит та же программа, “всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма” »14.
В задачи революционера входило также просвещение народных масс. Царская власть, согласно советской идеологии, стремилась удерживать народ в полном повиновении. Для этого использовалась не только религия. Отсутствие элементарного образования помогало решать эту политическую задачу. Исходя из этого революционер должен был вывести народные массы из состояния интеллектуального сна путем активной просветительской работы. Идея просветительской работы имела в советской культуре революционные коннотации. Согласно Ленину, «многомиллионные народные (особенно крестьянские и ремесленные) массы, осужденные всем современным обществом на темноту, невежество и предрассудки», могут быть освобождены по линии просвещения, атеистической пропаганды, а также на основании знакомства их с фактами «из самых различных областей жизни»15.
Но не только борьба со старым строится на основании просветительской работы. Строительство нового мира было связано в советской культуре с понятием просвещение. В качестве примера выступала политика партии, благодаря которой
«страна, из безграмотной в подлинном смысле этого слова, превращается в страну передовой культуры. Ликвидируется безграмотность, огромные слои рабочей и крестьянской молодежи овладевают не только основами науки, но и проникают в самую ее глубь, создавая кадры специалистов во всех областях техники»16.
Против же просвещения масс выступают только контрреволюционные силы:
«Нам яснее становится, что так называемая “современная демократия” (перед которой так неразумно разбивают свой лоб меньшевики, эсеры и отчасти анархи- сты и т. п.) представляет из себя не что иное, как свободу проповедовать то, что буржуазии выгодно проповедовать, а выгодно ей проповедовать самые реакционные идеи, религию, мракобесие, защиту эксплуататоров и т. п.»17.
Анализ культурно-семиотического кода позволяет говорить о коннотативном пласте в монографии «Движение декабристов». Интересующие нас фрагменты текста в пространстве советской культуры середины XX века свидетельствовали, таким образом, не только о материалистических взглядах декабристов. В исследовании М. В. Нечкиной благодаря знакам научность, атеизм и просвещение актуализируются коннотации несомненной революционности декабристов.
ВЫВОДЫ
Концептуализация декабризма, таким образом, осуществлялась в монографии на уровне вторичной знаковой системы. Работа историка через знаки материалистического кода соотносилась с прецедентными для советской культуры текстами. Благодаря этим корреляциям исторический нарратив приобретал дополнительную смысловую глубину – помимо научного в нем присутствует еще культурно обусловленный уровень. Все это позволяет говорить о том, что текст М. В. Нечкиной отличается несомненной полисемантичностью. Поэтому его анализ не может быть полным без учета соответствующего культурно-семиотического кода.
Список литературы Материализм декабристов в контексте советской культуры середины XX века
- Алексеева Г. Д. Октябрьская революция и историческая наука // Историческая наука России в XX веке. М.: Научно-издательский центр «Скрипторий», 1997. С. 13-51.
- Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 297318.
- Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред., вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 424-461.
- Барт Р. S/Z / Пер. с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат; Общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 232 с.
- Данилевский И. Н. Повесть временных лет: герменевтические основы источниковедения летописных текстов. М.: Аспект-Пресс, 2004. 382 с.
- Дубровский А. М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930-1950-е годы). Брянск: Изд-во Брянского гос. ун-та им. акад. И. Г. Петровского, 2005. 800 с.
- Константинов С. В. Дореволюционная история России в идеологии ВКП(б) 30-х гг. // Историческая наука России в XX веке. М.: Научно-издательский центр «Скрипторий», 1997. С. 217-243.
- Косиков Г. Идеология. Коннотация. Текст // Барт Р. S/Z / Пер. с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат; Общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 7-22.
- Косиков Г. К. Ролан Барт - семиолог, литературовед // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред., вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 3-45.
- Лотман Ю. М. Культура и информация // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 143-153.
- Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 84-90.
- Лотман Ю. М. Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия // Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992. С. 287-295.
- Лотман Ю . М . Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 274-294.
- Репина Л. П. «Доступный нашим чувствам знак», или Историки в поисках эпистемологических аргументов // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2019. № 2. С. 3-14.
- Сидорова Л. А. Оттепель в исторической науке. Середина 50-х гг. - середина 60-х гг. // Историческая наука России в XX веке. М.: Научно-издательский центр «Скрипторий», 1997. С. 244-268.
- Тихонов В. В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука (середина 1940-х - 1953 г.). М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 424 с.
- Юрганов А. Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М.: РГГУ, 2011. 765 с.
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. 528 с.
- Breisach E. On the future of history: The postmodernist challenge and its aftermath. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2003. 243 p.
- Iggers G . Historiography in the twentieth century: From scientific objectivity to the postmodern challenge. Hanover, N. H. and London: Wesleyan University Press, 1997. 208 p.