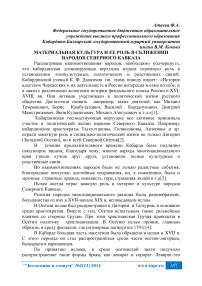Материальная культура и ее роль в сближении народов Северного Кавказа
Автор: Атаева Ф.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140107245
IDR: 140107245
Текст статьи Материальная культура и ее роль в сближении народов Северного Кавказа
Рассматривая взаимоотношения народов, необходимо подчеркнуть, что кабардинская доминирующая верхушка играла огромную роль в установлении этнокультурных, политических и родственных связей. Кабардинский ученый К. Ф. Дзамихов по этому поводу пишет: «История адыгских Черкасских и их деятельность в России интересна и сама по себе, и в связи с различными аспектами истории феодального класса России в XVIXVIII вв. Они активно участвовали в политической жизни русского общества. Достаточно назвать например, таких деятелей, как Михаил Темрюкович, Борис Камбулатович, Василий Карданукович, Дмитрий Мамстрюкович, Яков Куденетович, Михаил Алегукович и т.д.»[1].
Кабардинская господствующая верхушка все активнее принимала участие в политической жизни народов Северного Кавказа. Например, кабардинские аристократы Таусултановы, Гиляксановы, Анзоровы и др. играли заметную роль в социально-политической жизни не только Дигории (Западной Осетии), но и всей Северной Осетии[2].
В течение продолжительного времени Кабарда была подлинно связующим звеном, благодаря чему, многие народы многонационального края узнали лучше друг друга, установили тесные культурные и родственные связи.
Во взаимоотношениях народов были не только радостные события, благородные поступки, достойные подражания, но, к сожалению, были и мрачные страницы: вражда, ненависть, горе, страдания людей и т.д[3].
Ислам всегда играл важную роль в истории и культуре народов Северного Кавказа.
Религия народов многонационального региона была разнообразной, большинство из них в XVII-начале XIX в. исповедовали ислам.
В Осетии ислам был распространен в Дигории и Тагаурии, в основном среди аристократии. Вместе с тем, Осетия испытывала также сильнейшее влияние со стороны Грузии. При этом христианская Грузия проводила в Осетии политику христианизации. В Осетию ислам проник, главным образом, в среду феодалов, где он впервые датируется 1741г[4].
В Кабарде большая часть населения была обращена в ислам в XVII в. С этого периода он стал распространяться среди части осетин-дигорцев, балкарцев и карачаевцев.
По принятию ислама, в среде осетинской знати получили распространение такие формы брака, как левират и сорорат. Левират-это вторичный брак с членом рода умершего мужа, а сорорат-обычай вступления в брак одновременно или последовательно с двумя и более женщинами, состоящими между собой в родстве (родные или двоюродные сестры)[5].
Главным преимуществом сороратного брака было то, что при его заключении калым был значительно меньший, чем обычно. Вместе с тем, считалось, что близкая родственница, а не чужая женщина, будет лучше заботиться о детях - сиротах.
Известный русский историк и этнограф II половины XIX в. Д. Лавров по этому поводу писал : «Влияние магометанства отразилось между прочим, на одном из обычаев осетин-обычая женитьбы на женах умерших братьев, на женах даже умерших сыновей. Обычай этот, отчасти обусловливавшийся причинами экономическими, представлявший в виду, например, обычай покупать жен, как бы предупреждением тех убытков, которые по понятиям практикующих этот обычай несет семья лишаясь своего члена, приобретенного покупкою »[6].
При этом, необходимо подчеркнуть,что браки между близкими родственниками исключались и, если сын женился на однофамильце своей матери или бабушки, то избранница в таком случае происходила из другой, более отдаленной ветви рода.
Позитивную роль ислам сыграл в просвещении осетин.
В мусульманских селах были открыты школы-медресе, в которых взрослые и дети, независимо от пола, обучались арабскому языку, чтению Корана, нормам обычного и мусульманского права - адату и шариату. Этот факт имел прогрессивное значение для населения Северной Осетии, тем более что осетины не имели своей письменности и в большинстве случаев были неграмотные.
Ислам оказал обусловленное влияния на культуру и традиции осетинского народа и особенно его феодальные сословия. Ислам был одним из сильных факторов развития этнокультурных контактов между высшими сословиями Осетии, Кабарды, Балкарии, Карачая и Ингушетии в XVIII – XIX вв[7].
Основная часть народов Северного Кавказа занималось земледелием, сеяли просо, пшеницу, рожь, ячмень, овес и т.д.
Все это в сочетании со скотоводством являлось надежным средством к существованию.
Ведущей полеводческой культурой у кабардинцев в XVIII-XIX вв. было просо, дававшее высокие урожаи. Просо употребляли в основном для продовольственных целей, а также применяли как питательный корм для верховых лошадей, которые высоко ценились не только в Кабарде, но и далеко за ее пределами. Также они сеяли ячмень, пшеницу, а в конце XVIII в и кукурузу.
Известно, что в марте 1745 г. русский дворянин и путешественник Василий Черкесов побывал в Кабарде и сообщал следующее: «Кашкатовцы(кабардинские князья кашкатовской партии. - Ф.Атаева ) собираются весной переселиться к Бештовым горам и на том месте пахать просо, пшеницу и ячмень».
В «Описании кабардинского народа», составленном по материалам Коллегии иностранных дел в мае 1748 года говорится о посевах пшеницы в Кабарде. Кабардинцы выращивали и ячмень, который в основном шел как корм для лошадей. Русские архивные документы подтверждают, что кабардинцы в XVIII веке не нуждались в привозном хлебе, хотя хлебные поля Кабарды часто уничтожались вторгавшимися войсками крымского хана.
Малоземелье в горах Осетии, Ингушетии, Балкарии не благоприятствовало земледелию. Несколько лучшие условия были в Чечне (особенно в той ее части, которая получила название Ичкерия).
Благоприятные природные условия позволяли горцам заниматься скотоводством. Оно обеспечивало население основными продуктами питания. С. М. Броневский подчеркивал: «Черкесы держат многочисленные стада рогатого скота и овец… По числу лошадей и скота измеряется у них богатство частных лиц».
Тесное экономическое сотрудничество осетинских, балкарских и кабардинских феодалов в области скотоводства было обычным явлением. Академик Г. Ю. Клапрот писал о том, что дигорцы «не могут обходиться без Кабарды, так как они получают соль и необходимое для них в годы плохого урожая в горах просо ; когда зимний фураж у них истощается, они отправляют свои стада весной на равнины Малой Кабарды, которые в конце марта уже покрыты травой, тогда как горы еще лишены растительности. В течение лета черкесы вынуждены в свою очередь, выводить свои стада с равнин, где все выжжено и где их мучают слепни и комары и отправлять их в горы к дигорцам. Таким образом, обе народности связаны друг с другом и живут в добром согласии благодаря тому, что они взаимно нуждаются друг в друге».
В Осетии ведущими отраслями обрабатывающей промышленности были ремесла, связанные с военным делом. Умельцы изготовляли разнообразные виды оружия, которые отличались высокими, для своего времени, боевыми качествами и пользовались большим спросом не только в Осетии, но и за ее пределами.
В горной Осетии и Дагестане владели тайной производства и обработки стали, известной под названием дамасской. Из нее делали гнущиеся, как пружина, сабли. В Осетии существовало и производство огнестрельного оружия. В XVIII-XIX вв. обстановка на Северном Кавказе предполагало наличие оружия у каждого мужчины. Поэтому ружья, пистолеты и сабли ценились очень высоко[8].
Особенно высоким спросом среди знати пользовалось оружие с дорогой серебряной или золотой отделкой. Дорогостоящее огнестрельное оружие и сабли были обычными видами вооружения феодального сословия кавказских народов. Оно использовалось при выплате калыма, а также при плате за кровь. В XIX в. на фоне других форм прикладного искусства, художественная отделка оружия вышла на лидирующее место благодаря той особой роли, которую холодное и огнестрельное оружие играли в жизни народов Кавказа.
В XVIII веке народы Северного Кавказа, в том числе, кабардинцы, балкарцы и осетины сделали большой шаг в развитии внешней торговли, вывозя значительную часть продукции овцеводства, коневодства, охоты и различных отраслей обрабатывающей промышленности за пределы региона.
Среди аристократии Северного Кавказа большой популярностью пользовались кабардинские скакуны, стоившие немалых денег. Особенно ценились такие породы скакунов как «шолох», «трам» и «шагдий». Через Осетию кабардинские кони попадали в Грузию, а оттуда в Турцию, Иран и другие страны Востока.
На Северо-Кавказской окружной выставке, проходившей в Пятигорске в 1912 году, несколько призовых мест заняли лошади кабардинской породы, принадлежавшие осетинским коннозаводчикам.
С XVIII в. брачные связи осетинских аристократов с представителями социальных верхов соседних народов прослеживаются документально, о чем свидетельствует богатый архивный материал. Причины, по которым осетинские аристократы вступали в родственные связи с аристократическими кланами Кабарды, Балкарии, Карачая и других народов, были политические, экономические, классовые.
Видный кавказовед, этнограф Б. А. Калоев по этому поводу пишет: «Жениться на девушке неравного общественного положения считалось недопустимым, почему алдары, как общее правило, женились только на дочерях алдаров или иноплеменных княжнах».
Во второй половине XIX в. известный кавказовед Ад. Берже писал: «Возджаны ( ездоны, т.е. аристократы. - Атаева) крайне разборчивы в своих связях; они вступают в браки только между собою, и неравенство в этом случае считается весьма унизительным».
На протяжении веков выработалось правило, по которому феодалы Северного Кавказа вступали в брак только с равными себе по социальному происхождению. При заключении брака учитывалось равенство по происхождению, общественному положению и материальному состоянию.
Устанавливавшиеся родственные связи какой-либо семьи с представителями кабардинской или балкарской аристократии не были единичными. Зачастую, первый подобный брак служил предшествием для второго и т.д. Так, например, женой Джамболата Карабугаева была дочь балкарского таубия Кайсына Суюнчева – Абидат, а сестра Джамболата – Черкес вышла замуж за таубия Муссу Барасбиева.
В кавказоведении утвердилось мнение, что брачные связи аристократии Кабарды, Балкарии, Осетии, Карачая укрепляли социальный статус феодалов, а установление родственных и дружеских отношений в среде знати Северного Кавказа влекло за собой аналогичные процессы и в среде населения.
В итоге на протяжении многовековой истории, народы Северного Кавказа создали феноменальную систему традиций и обычаев, которая верно служила примером поддержания гармонии их взаимоотношений со средой обитания, в воспитании физически здорового, высоконравственного молодого поколения в регулировании взаимоотношений людей во всех сферах жизни.
Этой уникальной традиционной культурой горцев не только восторгались иностранные путешественники, ученые; многие ее элементы восприняты другими народами, которые жили по соседству с ними.
Материальная и духовная культура любого народа соответствует тем природно - климатическим условиям, в которых он проживает.
Благодаря традициям и обычаям народы Северного Кавказа сохранили свой национальный облик и за короткое время создали свою культуру.