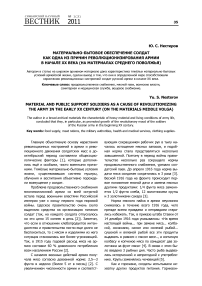Материально-бытовое обеспечение солдат как одна из причин революционизирования армии в начале XX века (на материалах Среднего Поволжья)
Автор: Нестеров Юрий Сергеевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
Автором в статье на широком архивном материале дана характеристика тяжёлых материально-бытовых условий армейской жизни, сделан вывод о том, что они в определенной мере способствовали нарастанию революционных настроений солдат русской армии в начале XX века.
Продовольственное снабжение, мясной паек, воинские власти, санитарная и медицинская служба, вещевое снабжение
Короткий адрес: https://sciup.org/14113581
IDR: 14113581
Текст научной статьи Материально-бытовое обеспечение солдат как одна из причин революционизирования армии в начале XX века (на материалах Среднего Поволжья)
Главную объективную основу нарастания революционных настроений в армии и революционного движения солдатских масс в дооктябрьский период составляли общесоциологические факторы [1], которые дополнялись ещё и особыми, чисто военными причинами. Тяжёлые материально-бытовые условия жизни, существовавшая система муштры, обучения и воспитания объективно порождали возмущение у солдат.
Проблема продовольственного снабжения многомиллионной армии со всей остротой встала перед военными властями Российской империи уже к концу первого года мировой войны. Царское правительство очень скупо выделяло средства на организацию питания солдат (так, на каждого солдата отпускалось на эти цели 15 копеек в день [2]). Заметим, что если в отношении хлебопродуктов интендантство и правительство могли еще долго не беспокоиться, то с мясом и изделиями из него ситуация становилась все более угрожающей. Так, в 1915 году годовой расход мяса на армию составил 60 % довоенного потребления всем населением России [2].
С началом военных действий армия получала мясо согласно довоенной норме: 2,5—3 фунта в неделю (более 5 кг в месяц) [2]. С увеличением численности армии и соответст- вующим сокращением рабочих рук в тылу началось истощение мясных запасов, и подобная норма стала представляться несколько завышенной. Поэтому в период войны правительство несколько раз сокращало нормы продовольственного снабжения, урезало солдатский паек. До апреля 1916 года норма выдачи мяса солдатам сократилась в 3 раза [3]. Весной 1916 года на фронте происходит первое понижение мясной дачи и замена мясных другими продуктами: 1/4 фунта мяса заменяется 1/2 фунта хлеба, 12 золотниками крупы и 3 золотниками сахара [3].
Норма мясного пайка в армии неуклонно снижалась в течение всего 1916 года, чего прежде всеми правдами и неправдами старались избежать. Так, в приказе штаба Ставки от 14 декабря 1916 года указывалось: «На время настоящей войны... при замене мяса... колбасой, сосисками, салом или соленой рыбой... сушеной и вяленой рыбой все эти продукты выдавать в равном с мясом весе.., а копченую колбасу и копченое мясо по семьдесят два золотника за фунт мяса» [4]. В связи с этим было введено 3 рыбных дня. Часто рыба выдавалась испорченной и непригодной к употреблению. Крупы заменялись чечевицей [5].
Как и горожане, солдаты испытывали нехватку других продуктов питания. Гарнизон- ный продовольственный магазин обеспечивал воинские части продовольствием лишь на 15—20 % от их потребностей. Военным заготовителям приходилось закупать продукты на рынках и у населения в деревнях [6].
Все это вызывало протест в солдатской среде, а поэтому не случайными были письма солдат такого содержания:
«Несколько слов о тыле. Впрочем, не знаю кто виноват, но пища у нас — не приведи бог видеть» [7].
«...недостаток питания, а кроме того хищничество нашего командира, который по крошкам грабит и отнимает у солдат и то, что отпущено казной. Начальство не входит в нужды солдат, не спрашивает и не опрашивает солдат, какая их жизнь и как довольствуют их» [8].
«Воруют все, начиная с кашевара и кончая, наверное, заведующим интендантством. Это же, черт их знает, через сколько рук пройдет все полагающееся нам, и к каждым рукам все пристает и доходит до нас совершенно скудное и плохое» [9].
Или вот такое свидетельство: 9 марта 1915 года Начальник Симбирского губернского жандармского управления в докладе Симбирскому губернатору сообщал: «Среди населения Алатыря циркулировали и продолжают циркулировать слухи, что прибывшие в январе месяце новобранцы 160 пехотного запасного батальона, а также и ратники ополчения, находящиеся в ведении командира его батальона, голодают, так как не получают всего положенного от казны довольствия, и действительно эти слухи справедливы. Кормят призванных новобранцев и ратников отвратительно, и им даже не хватает кипятку для чая, и они должны его покупать у соседей» [10].
Такое положение иногда отражалось и в приказах по округу. Так, в приказе № 322 указывалось, что «...порции, нарезанные на 215 человек, находящихся на довольствии, далеко не равномерны по весу: средний вес порций — 12 золотников, при колебаниях от 10,5 до 16 золотников; причины малого веса порций командир объяснить не мог» [11].
Впрочем, у противника дела обстояли еще хуже. Если в России кризис мясоснабже-ния был связан прежде всего с разрухой транспорта (т. е. с невозможностью своевременной доставки продуктов на фронт), то в
Германии уже с октября 1916 года дневной мясной паек составлял 250 г, что главным образом объяснялось истощением мясных ресурсов [2].
Не лучше обстояло дело и с размещением солдат, обмундированием, заботой об их здоровье. Сошлемся лишь на несколько примеров из жизни Симбирского гарнизона.
13 октября 1916 года в Симбирске в уланских казармах сгорел центральный каменный корпус. Солдат разместили в конюшнях при казармах, в которых они соседствовали с военнопленными. Пребывание в сырых и холодных конюшнях вызвало среди солдат заболевание сыпным тифом. Заметим, что если на ремонт сгоревших казарм городская управа выделила 30 тыс. руб., то на ремонт конюшен — 40 тыс. руб. [12].
Две тысячи солдат 142-го пехотного запасного полка перевели в чувашскую учительскую школу, в помещения, которые не были заняты под госпиталь, и в ремесленное училище графа В. В. Орлова–Давыдова. В этих помещениях солдаты находились до января 1918 года [13].
Учебную команду 2-й роты разместили в городском приюте им. Кирпичникова и в бывшем доме Егорова на Лосевой улице. Командир 142-го запасного полка генерал Сан-детский требовал от городской управы, чтобы оставшихся без крова 4 тысячи солдат разместить по квартирам симбирян. В связи с этим председатель губернской земской управы Н. Ф. Беляков вынужден был телеграфировать Его Императорскому Высочеству, Верховному начальнику санитарной и эвакуационной части принцу А. П. Ольденбургскому с просьбой не допускать постоя в домах симбирян, так как постой мог вызвать массовое недовольство жителей и развитие эпидемий.
В эти трудные дни местные воинские и городские власти ожидали поступления из Москвы отапливаемых палаток и быстро устанавливаемых бараков, но не дождались [14].
Снова обратимся к письмам солдат:
«...помещаемся мы в летних бараках, народу масса, режим ужасный. Насекомых больше, чем народу. Все время стоят морозы с ветром…» [15].
«...обедаем на тех же нарах, на которых сидим и лежим с грязными ногами. Как я до сих пор не заразился — уму непостижимо. Ко- гда я приехал, в роте было много сифилитиков, они не были изолированы, ели вместе с другими... Их не лечат и домой не отпускают…» [16].
«...теперь у нас большой мороз до 25. У многих отморозились уши, ноги, носы, руки. Я тоже отморозил левую ногу, большой палец...» [17].
Эти письма из различных воинских частей гарнизонов Самарской, Симбирской, Пензенской губерний говорят о том, что подобные явления наблюдались повсеместно.
Комиссия, прибывшая из штаба округа для проверки размещения частей Самарского гарнизона, отмечала также, что «...расквартирование частей Самарского гарнизона тесное. 4-я рота 4-го запасного саперного батальона занимает помещения крайне ветхие, сырые, низкие и опасные в пожарном отношении, совершенно непригодные для жилья». Этот факт нашел свое отражение и в Приказе по Казанскому военному округу № 529 от 14 октября 1914 года [18].
Снабжение обмундированием уже в 1915 году переживало кризис. В одном из донесений окружного командования на имя начальника Генерального штаба указывалось, что «...в округе не было обмундирования, в этом я (командующий Казанским военным округом генерал Сандецкий. — Ю. Н. ) убедился лично, исполняя в начале июля повеления Верховного главнокомандующего по осмотру батальонов Казанского округа, что мною и было помещено в отчете, представленном Верховному главнокомандующему».
В этом донесении речь шла о необходимости обмундировать 32 240 ратников, состоявших в запасных батальонах округа и подлежавших отправке на пополнение в гвардейские, кавалерийские, артиллеристские и инженерные части других округов. Пополнение было отправлено в своей верхней одежде и выданных батальонами лаптях (!), по поводу чего и возникла переписка.
Из той же переписки известно и сообщение военного министра в адрес Сандецкого о том, что «...снабдить призванных на военную службу низших чинов немедленно не представляется возможным по мотивам ограничения производительности отечественных фабрик и при неотложной необходимости выслать таковые на фронт».
Главное интендантство предложило ок- ружному командованию выработать такой план снабжения обмундированием, чтобы «...не пытаться сразу отпустить таковое в запасные части и дружины на всех призванных низших чинов, а обмундировать с таким расчетом, чтобы не было задержки в посылке укомплектований в действующую армию» [11], другими словами, снабжать перед самой отправкой на фронт. Учебные занятия до отправки на пополнение армии рекомендовалось проводить в собственной одежде призванных.
Санитарная и медицинская служба была организована неудовлетворительно. Для характеристики санитарного состояния можно привести следующее описание армейской кухни (из материалов командования): «Для мытья котлов нет ничего, показали (генералу Пупыреву во время осмотра кухни. — Ю. Н. ) грязные мочалки; на кухне нет умывальника, около очага стоят нары, куда складываются шинели кашеваров, а под нарами копятся древесные угли в кулях из рогожи... отхожее место для низших чинов находится в здании казармы, ими занимаемой, причем содержится чрезвычайно грязно, асфальтовый пол выбит и в выбоинах скопилась жидкость. Имеющаяся печь, видимо, никогда не топится, а поэтому воздух пропитан резким запахом мочи» [11].
Недостаток питания, обмундирования и жилья негативно отражался на здоровье солдат; заболеваемость росла, а медицинские и санитарные учреждения были бессильны что-либо сделать.
Давая характеристику материально-бытового и правового положения солдат, существовавших порядков в войсках, газета «Социал-демократ» писала: «Из казарм доносятся стоны и вести о протестах и стычках. Солдат содержат плохо, нет обуви, нет одежды, плохая пища. Обращение грубое и за пустяковые проступки наказание одно — порка. Порют и "дают в зубы" всюду, в тылу и на фронте» [19].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что тяжёлые материально-бытовые условия жизни, существовавшая система муштры, обучения и воспитания объективно порождали возмущение у солдат, в определенной мере способствовали нарастанию революционных настроений в русской армии в начале XX века.
-
1. Шайпак Л. А. Война, армия, партии (Среднее Поволжье, 1914 — февраль 1917 гг.). 2-е изд., доп. Ульяновск: УлГУ, 2010. С. 27.
-
2. Оськин М. В. Армия и продовольственное снабжение. Военно-исторический журнал. 2006. № 3. С. 52.
-
3. В системе русских мер 1 фунт составляет 0,45359237 кг, что равняется 96 золотникам; 1 золотник = 4,266 г.
-
4. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 391. Оп. 2. Д. 72. Л. 18.
-
5. См.: Гаркавенко Д. А. Военная работа большевистской партии в период подготовки и проведения Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года: дис.... д-ра ист. наук. Л., 1973. С. 161.
-
6. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 137. Оп. 36. Д. 43. Л. 5.
-
7. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 11.
-
8. Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 191.
-
9. Царская армия в период мировой войны и Февральской революции // Материалы к изучению истории империалистической и гражданской войны. Казань, 1932. С. 41.
-
10. ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 36; Ф. 855. Оп.
-
1. Д. 1279. Л. 5.
-
11. Ежов Н. Военная Казань в 1917 году: краткий очерк. 2-е изд., доп. Казань, 1957. С. 16.
-
12. ГАУО. Ф. 137. Оп. 36. Д. 110. Л. 38, 132. Полностью ремонт казармы был завершен лишь в мае 1918 года (Известия ССКРСД. 1918. 27 апр. № 79).
-
13. ГАУО. Ф. 137. Оп. 36. Д. 197. Л. 328.
-
14. ГАУО. Ф. 137. Оп. 36. Д. 110. Л. 37.
-
15. ГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 52.
-
16. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 12.
-
17. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1262. Л. 65, 65 об.
-
18. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1059. Л. 59.
-
19. Социал-демократ. 1916. 13 апр.
Список литературы Материально-бытовое обеспечение солдат как одна из причин революционизирования армии в начале XX века (на материалах Среднего Поволжья)
- Шайпак Л. А. Война, армия, партии (Среднее Поволжье, 1914 -февраль 1917 гг.). 2-е изд., доп. Ульяновск: УлГУ, 2010. С. 27.
- Оськин М. В. Армия и продовольственное снабжение. Военно-исторический журнал. 2006. № 3. С. 52.
- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 391. Оп. 2. Д. 72. Л. 18.
- Гаркавенко Д. А. Военная работа большевистской партии в период подготовки и проведения Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года: дис.... д-ра ист. наук. Л., 1973. С. 161.
- Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 137. Оп. 36. Д. 43. Л. 5.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 11.
- Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 191.
- Царская армия в период мировой войны и Февральской революции//Материалы к изучению истории империалистической и гражданской войны. Казань, 1932. С. 41.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 1422. Л. 36; Ф. 855. Оп. 1. Д. 1279. Л. 5.
- Ежов Н. Военная Казань в 1917 году: краткий очерк. 2-е изд., доп. Казань, 1957. С. 16.
- ГАУО. Ф. 137. Оп. 36. Д. 110. Л. 38, 132.
- ГАУО. Ф. 137. Оп. 36. Д. 197. Л. 328.
- ГАУО. Ф. 137. Оп. 36. Д. 110. Л. 37.
- ГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053. Л. 52.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1326. Л. 12.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1262. Л. 65, 65 об.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1059. Л. 59.
- Социал-демократ. 1916. 13 апр.