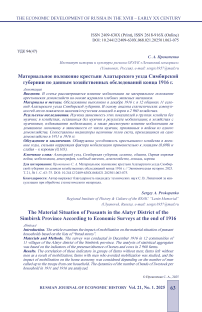Материальное положение крестьян Алатырского уезда Симбирской губернии по данным хозяйственных обследований конца 1916 г.
Автор: Прокопенко С.А.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономическое развитие России в XVIII - начале XX века
Статья в выпуске: 1 (68) т.21, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматривается влияние мобилизации на материальное положение крестьянских домохозяйств на основе журналов хлебных запасных магазинов.
Алатырский уезд, симбирская губерния, селение, община, первая мировая война, мобилизация, демография, хлебный магазин, домохозяйство, лошадь, корова
Короткий адрес: https://sciup.org/147247932
IDR: 147247932 | УДК: 94(47) | DOI: 10.24412/2409-630X.068.021.202501.063-075
Текст научной статьи Материальное положение крестьян Алатырского уезда Симбирской губернии по данным хозяйственных обследований конца 1916 г.
Цель данной статьи – использование первичной документации хлебных запасных магазинов как базы данных для оценки влияния мобилизации на материальное положение крестьянских хозяйств 12 общин в 11 селениях Алатырского уезда Симбирской губернии в канун Великой российской революции.
В отечественной историографии уже рассматривалась проблематика общественных хлебных запасов (хлебных запасных магазинов), но или в контексте развития законодательных рамок самой концепции, или же анализа конкретных аспектов государственной политики предотвращения голода в тех или иных регионах [4; 6]. Напомню, что практические шаги по созданию таких магазинов были предприняты во второй половине XVIII в. В первой половине XIX в. в удельной деревне сложились основные принципы и элементы системы создания натурально-денежных запасов на случай неурожая [2]. Во второй половине XIX в. существенная часть этого опыта была распространена на селения большей части империи.
Самые крупные изменения системы связаны с «Временными правилами по обеспечению продовольственных потребностей сельских обывателей», утвержденными Николаем II 12 июня 1900 г. Эти правила, вступившие в силу 1 января 1901 г., распространялись на 46 губерний. Там, где крестьянские общества проголосовали за натуральную форму страхового сбора, ежегодный сбор не должен был превышать 1/2 пуда зерна на душу, а суммарный запас в магазине не должен был быть выше 4 пудов на человека. Этот норматив должен был достигнут за 12 лет или, по особому распоряжению при урожайных годах, – через 8 лет [4, с. 14]. Списки по домохозяйствам (журналы магазинов) велись сельскими старостами.
Материалы и методы
Во время Первой мировой войны функции земств расширились, в том числе в сфере продовольственных поставок армии и флоту. В фондах Государственного архива Ульяновской области сохранилась первичная документация хозяйственных обследований 12 сел Алатырского уезда1 и по селам Карсунского уезда2, полученная в ходе работ, проведенных в декабре 1916 – январе 1917 г.
Что представляют собой эти обследования? Об их причинах мы можем понять из документов Карсунского уезда: для выяснения «остатков зерновых продуктов и количества хлеба, возможного к поставке для действующей армии»3. Они были проведены силами статистического бюро Симбирской губернской земской управы, которым руководил известный статистик К. Я. Воробьев (1866–1930). Тем не менее порядок обследований по уездам и соответственно отчетная документация варьировались. Если в Карсунском уезде осматривались только крупные хозяйства (от 25 дес.), то в Алатырском уезде проводились сплошные обследования домохозяйств на базе списков (журналов) хлебных магазинов. В Карсун-ском уезде опрос проводили по 6 пунктам, в Алатырском – по 21. Есть отличия в сборе информации и внутри уездов, даже в рубриках и компоновке опросных бланков, изготовленных типографским способом. Например, в большей части сел Алатырского уезда мобилизованные главы домохозяйств указывались специально, в части же - нет. С одной стороны, это затрудняет агрегирование данных, с другой – позволяет выявить нюансы локальной истории и даже заняться вопросами исторической антропологии.
В Карсунском уезде обследования проводились членами губернской землеустроительной и карсунской землеустроительной комиссий, в Алатырском - уполномоченными при участии сельских старост. Из-за методики анкетирования для исследования были взяты села Алатырского уезда, но сведения по Карсунскому уезду полезны для понимания обстоятельства проведения обследования, нюансов потребления, высева и урожайности хлебов.
Корпус документов по Алатырскому уезду включает в себя 12 дел с информацией по 13 общинам в 12 селах и деревнях4. Сама анкета включает 21 позицию (колонку), а в уже агрегированном нами виде – 10. В с. Сутяжное5 анкетная таблица скомпонована иначе, чем в других селах, что требует ее дополнительной переработки, но позволяет понять, как функционировал хлебный магазин. Данные по с. Гулюшево6 в базу данных не включены из-за лакун по ряду важных рубрик.
Всего предметом анализа стали 11 селений: 6 в Алатырской волости (Алтышево, Баево, две общины в Иваньково, Нечаевка или Нечаево, Чуварлей, Явлей или Явлеи), 3 в Кладбищенской (Атрать, Кладбищи, Сурский Майдан) и 2 в Кувакинской волости (Любимовка, а также одна община из двух в Сутяжном).
При перекрестной проверке были обнаружены и исправлены возникшие в момент заполнения анкет арифметические ошибки, ошибки в нумерации и т. д. Наибольшую сложность составили подсчеты фактически проживающего населения. Под фактическим населением мы понимаем сумму наличного населения с землей, «безземельных (безнадельных) своих», «безземельных чужих» (пришлых) и чужих с землей. Отсутствующие домохозяйства из числа приписного населения определялись по следующим критериям: домохозяйства с прямым указанием на это («проживающие на стороне», «выбывшие», «умер/ла»), домохозяйства без указания состава семьи, а также с прочерками в рубриках потребности (на продовольствие; на сев; на корм скоту). Если в анкете при отсутствии потребностей указан скот, то это домохозяйство относили к наличным (фактическим). Члены семей отсутствующих домохозяйств минусовались при исчислении демографических переменных.
Наиболее спорным выглядит решение включить в фактическое население домохозяйства с перечисленными выше характеристиками, но из которых были мобилизованы мужчины. Такие домохозяйства – без скотины, с прочерками в рубриках «потребности» даже в продовольствии для членов семьи – правильнее интерпретировать как семьи, покинувшие селение после мобилизации кормильца. Думаю, эти несомненные примеры катастрофических последствий мобилизации присутствуют только в трех селениях и незначительны. В Сурском Майдане из 29 домохозяйств, «проживающих на стороне», таких 5 (17,24 % в этой группе), или 1,40 % к общему числу оставшихся в селе по факту. Большое село Клад-бищи - исключительный пример малочисленности домохозяйств с пропусками в составе семьи и потреблении (всего 10, или 1,49 % от общего числа домохозяйств). Видимо, мы здесь сталкиваемся со списками действительно фактического населения. В этих десяти домохозяйствах лишь из двух были призваны в вооруженные силы (0,30 % к общему числу). На другом полюсе находится община бывших г. Дурасова из с. Иванькова - там из 38 сторонних домохозяйств таковых (т. е. с мобилизованными) оказалось 17 – 44,74 % в группе, или 7,91 % от общего количества.
Результаты исследования
Вся база данных фактического населения по 11 селениям составила 2 960 домохозяйств и 19 541 чел. (табл. 1). За неполные 42 месяца войны отсюда было мобилизовано 2 313 чел., или 46,65 % от всего мужского населения в трудоспособном возрасте (4 958 мужчин), или 11,95 % от общей численности населения. По итогам Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. процент мобилизованных в Симбирской губернии составил 49,4 % к числу работников мужского пола7. В опросных листах части селений мобилизованные включены в состав домохозяйств, в части – нет. Определить это можно по правилу гендерного равновесия. Единственное исключение – с. Баево. Без учета мобилизованных число мужчин и женщин здесь 138 и 269, с учетом же – соответственно 319 и 269, т. е. перекос, хотя и в меньшей степени, в другую сторону.
Коэффициент численности семьи для изучаемых селений высок: в среднем -6,60 чел. в домохозяйстве в интервале по общинам от 5,71 до 7,42 чел. По итогам Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи лета 1917 г. этот показатель в Симбирской губернии составил 6,18. Столь высокий коэффициент в селениях уезда объясняется значительным числом сложносоставных семей, когда сами семьи включали в себя по несколько взрослых мужчин и женщин.
При анализе мобилизации бросается в глаза два факта: с одной стороны, большой процент домохозяйств с мужчинами, но которые не были затронуты призывом: 34,36 % с диапазоном разброса по общинам от 21,77 до 42,17 %. С другой стороны, встречаются домохозяйства, откуда призваны по трое и более мужчин (нередко все). Есть и рекорды. Например, в с. Алтышево из домохозяйства Н. Н. Фролова из шести мужчин мобилизованы шестеро, в с. Явлей из домохозяйства П. И. Егоровой из пяти мужчин – все пятеро. Объяснить подобные казусы превратностями жребия [5, с. 464– 473], а в более общем плане особенностями закона о призыве невозможно9. Речь здесь, видимо, идет и о призванных, и об «охотниках» (добровольцах).
Основной массив домохозяйств с мобилизованными мужчинами - это домохозяйства с одним призванным: 72,53 % от числа всех домохозяйств с мобилизованными. Семейная структура таких домохозяйств и меньший коэффициент численности семьи этой категории позволяют говорить о том, что речь в данном случае идет о нуклеарных, двухпоколенных семьях, с домохозяевами среднего возраста и несовершеннолетними детьми (по крайней мере мужского пола).
Это предопределяет и то, что в основном такие домохозяйства остались без кормильца, а их значительный удельный вес объясняет и высокий процент «обезглавленных» семей в результате мобилизации. Всего без мужчин после призыва остались 42,11 % семей от числа тех домохозяйств, что были затронуты мобилизацией, или 24,60 % от общего числа хозяйств.
Домохозяйства с двумя мобилизованными представляли собой вторую по численности категорию – в целом по общинам 22,15 %.
Понятно, что категории домохозяйств, откуда было мобилизовано более одного человека, представляли собой сложносоставные семьи. Например, в с. Сурский Майдан коэффициент семьи там, где на войну из каждого домохозяйства ушло по двое мужчин, составлял до призыва 10,07 чел. Там же в домохозяйствах с тремя мобилизованными коэффициент семьи равнялся 14,74 чел., а в домохозяйствах с четырьмя мобилизованными - 15,67. В с. Кладбищи, где проживало много староверов, тенденция сохранялась, но, что любопытно, соответствующие показатели были существенно ниже: средняя численность семьи 6,12 чел.; для домохозяйств с двумя мобилизованными - 8,86; тремя - 11,32; четырьмя – 11,50 чел.
Процент домохозяйств изначально без мужчин по селениям в целом умеренный – 7,23. Но разброс значений показателя велик: от 1,37 до 13,61 %. Особенно поражает контраст между общинами с. Иваньково, связанный, видимо, с характером освобождения владельческих и удельных крестьян, а затем и с особенностями действия семейного цикла. Хотя все-таки материалов для объяснения причин этого недостаточно. Отметим также, что данный показатель для мордовских селений ниже усредненного значения.
Оценка материального положения домохозяйств возможна по запасам хлеба или же по количеству скота. Если судить по результатам земледельческого года, то можно сделать вывод о кризисе, если не крахе крестьянского хозяйства. Примечательна в этом смысле ситуация в с. Гулюшево, не включенном в базу данных из-за особенностей структуры опросного листа. Здесь в графе «Основание, по которому предположено освободить от взыскания долга местным запасам» против 405 домохозяйств (из 433) фигурируют два основания: «бедность» или «призыв в войска и бедность». Общая задолженность общины по озимым составляла 7 415 пуда и 20 фунтов, а по яровым – 2 356 пуда. В 97 домохозяйствах было показано отсутствие наличного хлеба.
Ситуация с искомыми 11 алатырскими селениями лучше, чем в том же Гулюшеве, но и здесь отрицательный баланс суммы потребностей (на питание членов семьи, на сев и прокорм скота), а также долга, с одной стороны, и урожая с запасами – с другой.
Если обратиться к материалам Карсун-ского уезда, то в них есть прямые указания на то, что многие домохозяйства уменьшили посевные площади из-за отсутствия большого числа работников («призваны в ряды войск»). Что же касается так называемых заводско-фабричных волостей, то здесь особо подчеркивался тот факт, что многие крестьяне работали на ближайших фабриках и заводах ввиду хорошего побочного заработка10. Эта картина вполне корреспондирует с выводом М. М. Есиковой о мифе хлебных излишков накануне и в ходе Первой мировой войны [1, с. 39–40].
Но я бы не спешил закрыть вопрос на этих основаниях. Во-первых, вариативность погодных условий, а значит, и урожайности была существенной. Во-вторых, год на год не приходится. Так, на неблагоприятные климатические условия и соответственно на меньший урожай (вплоть до «полной гибели яровых») в 1916 г. указывают счетчики по Карсунскому уезду11 (Ар-гашская, Базарно-Сызганская, Жадовская,
Мало-Карсунская, Коржевская, Троицкая, Юрловская). О неурожае яровых в 1916 г. вскользь говорят в с. Алтышево Алатыр-ского уезда12. Г. А. Николаев, ссылаясь на документы Алатырского уездного собрания, пишет о неурожае 1914 г. и о мобилизации, которая особенно ударила по «молодым» крестьянским хозяйствам [3, с. 12] (т. е. по двухпоколенным семьям. - С. П.). С другой стороны, в с. Иваньково яровые в 1916 г. также не задались, но практически во всех домохозяйствах остались запасы от прошлогодних урожаев озимых13. То, что 1915 г. выдался урожайным, подтверждают два документа, датируемые 15 августа 1915 г. В Акте обследования яровых полей в селениях Кувакинской и Кладбищенской волостей непременный член Симбирского губернского присутствия В. Л. Персиянинов и земский начальник 2-го участка Алатырского уезда Н. Г. Ле-тючий прогнозировали средний урожай 30 пудов с десятины, а «семена даже на самых неудовлетворительных десятинах вполне пригодны для посева, что совершенно исключает необходимость приобретения семенного материала для населения». В Журнале продовольственного совещания Алатырского уездного съезда было единогласно зафиксировано следующее: «^признать, что для населения Алатыр-ского уезда Губернского или имперского продовольственных капиталов не потребуется». Работы по севу озимых и уборке яровых «продолжаются нормально (уже к концу те и другие)», хотя из-за «сырой погоды» уборка яровых несколько задерживается14. Эти факты соответствуют общему выводу Всероссийского Особого совещания о том, что в 1915 г. «урожай хлебов и трав почти повсеместно в Европейской России был выше среднего»15. В-третьих, сопоставление годовых результатов по селениям затрудняет разнообразие почв, условий землепользования, степени вовлеченности в рыночные отношения и т. д. В-четвертых, нужно иметь в виду участие ряда домохозяйств в добровольной хлебной разверстке для поставки зерна в войска. Так, Урено-Карлинская волость к декабрю 1916 г. поставила на 1 500 пудов больше хлеба, чем требовала разверстка16.
Вызывают удивление – и недоверие – цифры собранного хлеба, равные для озимых и яровых в селах Кладбищи и Сур-ский Майдан. Практика же показывает, что урожайность и качество семян озимых была выше яровых, тем более в 1916 г. Не всегда понятны нормы расчета хлеба при определении потребностей домохозяйств. С одной стороны, нормы высева и потребления, принятые Симбирской губернской земской управой, более чем на 20 % превышали фактические показатели, принятые обществами17. С другой стороны, внутри общины единообразного подхода часто не наблюдалось. Так, в Нечаевке, или Иваньковской Нечаевке, потребность на пропитание до следующего урожая в одном хозяйстве из четверых взрослых и двоих нетрудоспособных указана 200 пудов, а в другом, состоящем из четверых взрослых и четверых нетрудоспособных, – 100 пудов, в третьем же - трое взрослых и пятеро нетрудоспособных - только 42 пуда18. В Чу-варлее, где нормы потребления определили для взрослого в 20 пудов, а для нетрудоспособных – в 10 пудов, для домохозяйства с одним трудоспособным и шестерыми нетрудоспособными баланс составил 40 пудов, а для двух домохозяйств с равным числом трудоспособных (по двое), но с разным числом нетрудоспособных (пятеро и трое) совокупная потребность в хлебе оказалась одинаковой - 80 пудов19. Из этого следует, что продовольственный баланс по хозяйствам и селениям выглядит проблематичным. Наконец, в ряде случаев зарегистрирован отказ крестьян «открывать свои амбары» – известная форма укрытия хлеба (Потьминская волость Карсунского уезда)20.
В силу перечисленных причин показатели наличия скота в домохозяйствах представляются более объективными индикаторами, в том числе более устойчивыми к краткосрочным внешним возмущениям. Из трех показателей – лошадь, корова, мелкий скот – в исследовании изъят последний как гетерогенный. Дело в том, что в состав последнего включали также телят, жеребят, а если судить по статистике 1920-х гг., то и лошадей до трех лет. Правда, это говорит о том, что на самом деле уровень материального благосостояния домохозяйств выше, чем тот, который получен по результатам обработки первых двух показателей.
Обсуждение и заключение
Результаты обработки отсутствия/нали-чия скота в домохозяйствах сведены в табл. 2 (лошади) и табл. 3 (коровы). Бинарная конструкция ответа (да/нет) упрощает действительность, поскольку существенная часть домохозяйств (прежде всего сложносоставные семьи) имели больше одной коровы или одной лошади. Данные сгруппированы по четырем группам: домохозяйства, не имевшие мужчин; домохозяйства с мобилизованными; домохозяйства, оставшиеся без мужчин в результате мобилизации; домохозяйства с мужчинами, но избежавшие мобилизации. Домохозяйства с мобилизованными специально проанализированы на предмет наличия/отсутствия скота в зависимости от числа мобилизованных.
Выявлена прямая зависимость между наличием мужчины в домохозяйстве и степенью материального благополучия семьи, если считать наличие лошади и коровы мерилом достатка. Как и следовало ожидать, эта зависимость проявляется сильнее применительно к лошадям. Наблюдается существенная дифференциация величины в зависимости от селения и даже между общинами одного села21.
В какой мере мобилизация ударила по хозяйству семей? Показатели наличия/от-сутствия лошадей между группами домохозяйств, оставшихся без мужчин в результате мобилизации, и домохозяйств с мужчинами, избежавшими мобилизации, близки к ожиданиям. Но сопоставление на предмет отсутствия/наличия коровы удивляет. Только в шести общинах процент домохозяйств первой группы ниже и еще в одной показатели для обеих групп примерно равны.
Внутри группы домохозяйств с мобилизованными наибольший урон понесли двухпоколенные семьи (с одним мобилизованным). В ряде селений регрессия не срабатывает для домохозяйств с тремя мобилизованными, но я склонен это объяснять малой величиной выборки.
Репрезентативная информация подворной переписи крестьянских хозяйств Симбирской губернии, проведенной в Алатыр-ском уезде весной - осенью 1911 г.22 [3], позволяет оценить влияние войны и мобилизации на материальное положение домохозяйств. Некоторые затруднения здесь вызывает только ситуация в с. Сутяжное, где находилось две общины. Пофамильное сравнение членов обеих общин по документам 1890-1900-х гг. (дела о выдаче ссуд на обсеменение, о коррективах планов села и т. д.) позволило прийти к однозначному выводу, что в 1916 г. обследовалась община бывших поместных крестьян князя Тенишева23.
Основные результаты сопоставления поголовья скота за период показывают только незначительное снижение среднего показателя лошадей и коров на одно домохозяйство к концу 1916 г. по сравнению с 1911 г. (табл. 4). При этом нужно учесть, что, например, план заготовки крупного рогатого скота для нужд армии по Симбирской губернии на 1916 г. предполагал поставку к 1 января 1917 г. 15 тыс. голов, в том числе 1 515 голов из Алатырского уезда24.
В то же время можно предположить, что за этими средними сравнительно благополучными показателями ситуация по группам домохозяйств дифференцирована (см. табл. 2, 3). Если судить по статистическим данным, домохозяйства, оставшиеся без мужчин в результате мобилизации, пострадали значительно. Особенно это проявилось применительно к владению лошадьми. Показатель «лошадей» в группе домохозяйств, оставшихся без мужчин в результате мобилизации, «просел» более чем в 2 раза по сравнению с показателем для коров. В силу многочисленности группы с одним мобилизованным (двухпоколенные семьи) в абсолютных цифрах наибольшее число безлошадных домохозяйств или же без коровы именно здесь. Распределение (пропорции) между группами домохозяйств с разным количеством мобилизованных выражено примерно одинаково что по лошадям, что по коровам. Вместе с тем, если для лошадей коэффициент линейной корреляции между домохозяйствами, оставшимися без мужчин из-за мобилизации, и домохозяйствами, не пострадавшими от призыва, высокий (0,698), то для коров такая зависимость не прослеживается (0,103). Причин столь большого различия величин r Пирсона две - разная роль лошади и коровы в крестьянском хозяйстве и «мужской» характер работ, связанных с лошадью.
Различается также ситуация и по селениям, и по общинам. Наиболее тяжелое положение в общине бывших поместных крестьян с. Иваньково, в с. Кладбищи и в общине бывших поместных князя Тенише-ва в с. Сутяжное. Это, полагаю, объясняется не только условиями выкупа, о чем уже шла речь, но, вероятно, и тем, что первый постреформенный семейный цикл с неизбежным дроблением пая и распада «патриархальной» семьи здесь завершился чуть раньше.
В целом, однако, крестьянское хозяйство, несмотря на два с половиной года войны, показало удивительную устойчивость. Этот вывод касается и значительной части домохозяйств, откуда были мобилизованы мужчины, – главная производительная сила в традиционной аграрной экономике.
В какой мере можно экстраполировать полученные результаты на регион? Понимая все риски, связанные с этим, отмечу только следующее. На лето 1917 г. в Симбирской губернии насчитывалось 279 938 рабочих лошадей (до четырех лет), в том числе по Алатырскому уезду -22 261 голова. Это последнее место среди уездов губернии (с медианой близкой к 30 тыс.)25. Иными словами, по количеству лошадей и по средним показателям на одно домохозяйство ситуация в других уездах была, по меньшей мере, не хуже.
Таким образом, если судить по исследованным документам, материальный аспект последствий мобилизации с точки зрения революционного процесса не выглядит определяющим. Следовательно, с одной стороны, это требует учета влияния социально-психологических, физиологических, культурологических аспектов и других факторов, динамики социального дисциплини-рования, а с другой - предполагает асинхронность втягивания разных регионов в воронку будущей революции.
Таблица 1. Демографические характеристики домохозяйств и мужского населения 12 общин Алатырского уезда, 1916 г. / Table 1. Demographic characteristics of households and male population in 12 communities of Alatyr uyezd, 1916
|
x© co S • ^ s 2 л &|в§ м И S 4 s к о |
О"' |
О"' |
О"' |
О"' |
хр О"' |
хр О"' |
хр О"' |
хр О"' |
хр О"' |
хр О"' |
О"' |
х° О"' |
О"' |
|
|
- S Ч^Я §3ЯЭ 5§S§ нн Q X о 2 |
S |
$ |
ГЧ |
S |
о |
§ |
СО |
2 |
||||||
|
05 о Я СО О S 4 ко КО S 2 ^ ^2 о 2 • • Х^С >н 5 Lo 2 Ох© 3 о - Й ^ Д СО |
4 AI |
г§ |
о |
о |
о |
о |
о |
КО О S |
- |
40 |
со |
^ |
о |
=^ |
|
4 |
^ |
чо |
40 |
4- |
о |
4- |
04 |
40 |
2 |
UO |
UO |
со 41 Хр |
||
|
4 СЧ |
S |
ОО |
N |
о |
до |
ГЧ |
^А^ |
|||||||
|
4 |
£ |
2 |
S |
04 |
Со |
Со |
4’^ |
|||||||
|
sgg О S о 5 о к?© 4ч2К |
О"' |
о"- |
О"' |
О"' |
хр О"' |
хр О"' |
хр О"' |
хр О"' |
хр О"' |
хр О"' |
О"' |
О"' |
О"' |
|
|
Л X о ю з 5^ О Я S 2 я яр д^ Я о» S ЯО £ |
S ГЧ х? Qs ©X а 5 |
2 хр со °"' $ 4 |
ГЧ о"' §5 |
2 хр СО °"' я 4 |
40 хр СО о"- $ 5 |
^ Хр СО °"' $ 4. |
Ю °"' $ 4. |
О \О 4 °"' $ 4 |
О"' а 2х |
04 хр Ю °"' я 4 |
СО °"' s Ч, |
Ю ГЧ о"' s 4. |
||
|
s со ■
ко К со g*s® F£x^ 5- |
О"' |
О"' |
О"' |
хр О"' |
хр О"' |
О"' |
О"' |
Хр О"' |
О"' |
хр О"' |
х° О"' |
О"' |
О"' |
|
|
Sg^§ s^SS И к й о 4 4 ® О а 2 2 V о 4 О |
5 |
£ |
5 |
Со |
40 |
о |
гч |
о |
я |
о |
||||
|
g4 и 2 4 V О 4 |
ГЧ |
04 |
S |
ГЧ |
со |
2 |
о |
со |
S |
2 |
S |
|||
|
W 4 о и |
о и О а |
О я О св И |
КО О И я св И S |
6 св & ч ко О И я 4 К и |
'св' я р св & 5 св И И О св 4 О И |
в О 4 & св Я F |
в |
& Он |
2 5 |
св 4 за св за а 2 |
§ я о S я ко 4 |
^ о о я |
о о S |
|
* Д/х – домохозяйство; ** М – мужчина.
Таблица 2. Распределение лошадей в домохозяйствах 12 общин Алатырского уезда в зависимости от мобилизации, 1916 г. / Table 2 . Distribution of horses in households of 12 communities of Alatyr uyezd depending on mobilization, 1916
|
в 3 ч s „ ° S а а Ч Ё § й м В й sr > Я Я ^ а ^ g 5 5 з S 8 ч |
О"' 3 |
О"' 3 |
О"' 3 |
О"' 3 |
хр О"' 3 |
О"' 3 |
О"' 3 |
Хр О"' я |
О"' |
О"' 3 |
О"' 3 |
О"' 3 |
О"' 3 |
|
|
ООО Я КО Я Я и я я ° я 5 в g о 9 е я я о"- „ о 3 § О ч X 5 и а х 5 |
О"' 3 |
О"' q о |
О"' о |
О"' 3 |
Хр О"' 3 |
О"' 3 |
О"' 3 |
Хр О"' я |
О"' |
О"' 3 |
О"' о |
О"' 3 |
О"' 3 |
|
|
ч я я о В ко о и хр О"' Я О Ч Я ^ Ч 2 ч Я а о Ч W |
В ^ Ю X й § *' 3 ч g |
3 |
о |
о |
о |
о |
о |
3 |
я |
О"' 3 |
3 |
о |
О"' |
|
|
£ко Я 2 й |
3 |
чо °"' |
3 |
3 |
о |
'st хО СП °"' ^СЧ |
3 |
я |
О' хр ,—1 О"' |
К о"' 3- яЯ |
3 |
КОЗ ХО Я о"' 30 |
^ ^ •Su' |
|
|
в S S “ Ч я |
'■o' М о4 3 |
о |
So S? еч 3 |
ГЧ о4 3 |
о |
3 |
? Хр Я" °"' 3 |
Хр О"' о |
3 |
3 |
0© \О .—1 О"' 3 |
3 |
м ^ -Я СП |
|
|
о 5 ^2 2 rt О хГ Ч |
■op О"' |
О"' 3 |
О"' о |
О"' о |
Хр О"' 3 |
О"' о |
О"' 3 |
Хр О"' о |
О"' 3 |
О"' 3 |
О"' о |
О"' о |
О"' 3 |
|
|
ко о я в Я * X Ч |
■op О"' 3 |
О"' о |
О"' о |
О"' 3 |
Хр О"' 3 |
О"' 3 |
О"' 3 |
Хр О"' я |
О"' 3 |
О"' 3 |
О"' |
О"' 3 |
О"' 3 |
|
|
О |
о И О |
О Я О яЗ W |
ко О Я яЗ Я S |
Я О & Ч ко о я л я S |
Я И Я О ЯЗ Я О И |
ЗЯ О & Я Я ч |
Ч я зЯ |
со |
КО 5 |
Я ч ЗЯ Я зЯ Я И СО |
§ я о я ко 14 |
я я ^ о О я |
о О S |
|
* Д/х – домохозяйство; ** М – мужчина.
Таблица 3. Распределение коров в домохозяйствах в 12 общинах Алатырского уезда в зависимости от мобилизации, 1916 г. / Table 3. Distribution of cows in households in 12 communities of Alatyrsky uyezd depending on mobilization, 1916
|
о S & s § Во Ч а а ю ^ В Ч СП Й 4 я S о"- око а^ 2 о ° ^ ч х S В |
О"' -В |
\° О"' о |
хр О"' В |
Хр О"' о |
Хр О"' в |
\° О"' В |
О"' в |
Хр О"' в |
О"' в |
О"' в |
хр О"' в |
О"' В- |
О"' в |
|
|
ООН * S 5 8 5 КО ко 3 о X 2 ^ ^ о О п Ч» B^s s м F &^ |
хр О"' -В |
\° О"' о |
хр О"' В- |
Хр О"' о |
в |
\° О"' в |
О"' в |
Хр О"' в |
О"' в |
О"' в |
Хр О"' в |
\° О"' в |
О"' в |
|
|
В В ч 3 а о В ко о и хр о4 S О ч 3 VO X Ч |
«чл| ^Ч vo |
В- |
о |
о |
о |
о |
о |
в |
в |
о |
в |
в |
о |
в |
|
3^ о co S о < s Ч * |
хр О"' в |
\° О"' В |
в |
в |
о |
в |
в |
в |
в |
в |
в |
О"' в |
О"' в |
|
|
а з S о <^ S О Ч |
хр О"' в |
Хр О"' о |
хр О"' М |
Хр О"' |
о |
хр О"' в |
О"' в |
в |
О"' о |
О"' в |
хр О"' в |
О"' м |
О"' ■В |
|
|
6 ко О св В М х" ч |
хр О"' в |
Хр О"' о |
О"' в |
№ о4 В |
Хр О"' в |
хр О"' в |
О"' в |
Хр О"' в |
О"' в |
О"' в |
хр О"' в |
О"' в |
в В' |
|
|
о а X St |
хр О"' в |
Хр О"' в |
хр О"' в |
в |
в |
хр О"' в |
оЧ? со ° 4 в |
Хр О"' в |
хр О^ О"' в |
Вхо СО О"' в |
Хр О"' в |
О"' в |
СЧ ©"' В^ч |
|
|
о О |
о о I |
о а св W |
ю о а а S |
в а о св ч в о а а а S |
а и а а а о И |
за О ч & а а F |
в о 5 |
а ко 5 |
а Ч за а S за а и |
§ а о S а ко 2 Ч |
а В о а |
о о S |
||
Таблица 4. Динамика поголовья скота в домохозяйствах крестьян 12 общин Алатырского уезда за 1911–1916 гг. / Table 4. Dynamics of livestock in households of peasants of 12 communities of Alatyr uyezd in 1911–1916
|
О > с О О чо и я ^ и ° —1 О ® I 1 2 § о ^ и ОО |
2 |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о 2 S |
|
н о о О Д 5 °^ я я -^ О Я Я |
о" |
о" |
о" |
^ |
о" |
О |
о" |
о" |
Ч |
о" |
g 2 S |
||
|
। Я О о я я О О я я * я ОО Е с ч 2 д q 5 2 * з 5 |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о 2 |
||
|
О О Ч 2 ч 2 Я оз § ’ 1 я я о ок Ч Я Д ’—। й * 5 |
$ |
гч |
о" |
о" |
о" |
о" |
° |
о |
о" |
о" |
о |
2 |
|
|
1 Д _ Я О § Я Я и 9 О н * г! О О св ч О я 2 2 я S С* е а ч |
5 |
^ |
5 |
40 |
о |
Я |
о |
ГЧ |
3 |
о |
|||
|
§ н “ » И Q w * род* ряд, 2 Я О Я Я Q । Й Ч о ^ д о о ® д я е з я |
2 |
со |
ОО |
S |
о |
я |
о |
я |
3 |
о |
ГЧ |
||
|
о о _ Ч Ч -н н 8 я В 5 я е ч § |
ГЧ |
04 |
з |
S |
ГЧ |
§ |
So |
а |
о |
So |
S |
2 |
й |
|
о я И * О X д Я 4 ^ я о Ё 5 ^ е ? |
ГЧ |
и |
ОО |
гч |
N |
S |
2 |
5 |
о |
о |
|||
|
о о ч О |
о я о а I |
о я о се И |
!S о я 2 я се я S |
ко О Z-4 я се и р Я се я & к ч |
ч ко и а |
зЯ О ч & я я р |
.ко зЯ о &< |
to |
я КС 5 |
я я ч зЯ Я S зЯ Я И Он |
я я о S я ко 2 ^ |
ко о 'я' о я 1 S я ин |
g о S |
* Д/х – домохозяйство.
*** В переписи 1911 г. незначительная часть семей приписного отсутствующего населения «с неизвестным составом».
Список литературы Материальное положение крестьян Алатырского уезда Симбирской губернии по данным хозяйственных обследований конца 1916 г.
- Первая мировая война и военно-мобилизационные мероприятия в Среднем Поволжье и Центральном Черноземье / под ред. М. М. Есиковой, П. С. Кабытова, К. В. Самохина. М.: Новый хронограф, 2015. 286 с. EDN: ULTWRZ
- Котов П. П. Хлебные запасные магазины по законодательным источникам России XVIII - первой половины XIX веков // Научные ведомости. Сер.: История. Политология. Экономика. Информатика (Белгород). 2013. Вып. 25, № 1. С. 92-95.
- Николаев Г. А. Изменение производительных сил в сельском хозяйстве Чувашии в годы Первой мировой войны // Чувашия в годы Первой мировой войны: сб. ст. Чебоксары, 1985. С. 3-24. EDN: ZOMSVT
- Просеков А. Ю. Хлебозапасная система в дореволюционной России: формирование и совершенствование // Пищевая промышленность. 2018. № 2. С. 12-15. EDN: YNTMLB
- Руденко В. Н. Институт жребия в комплектовании вооруженных сил: опыт Российской империи и СССР // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2009. Вып. 9. С. 444-480. EDN: MTWEDT
- Ялтаев Д. А. Обеспечение продовольственной безопасности в Казанской губернии на основе реформы 1900 года // Вестник Чувашского университета. Исторические науки и археология. 2015. № 4. С. 195-201.