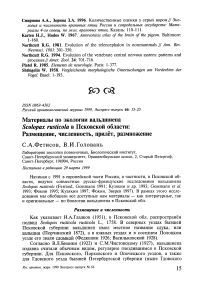Материалы по экологии вальдшнепа Scolopax rusticola в Псковской области: размещение, численность, прилёт, размножение
Автор: Фетисов С.А., Головань В.И.
Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis
Статья в выпуске: 66 т.8, 1999 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140148955
IDR: 140148955
Текст статьи Материалы по экологии вальдшнепа Scolopax rusticola в Псковской области: размещение, численность, прилёт, размножение
Начиная с 1991 в европейской части России, в частности, в Псковской области, ведутся совместные русско-французские исследования вальдшнепа Scolopax rusticola (Ferrand, Gossmann 1991; Кузякин и др. 1993; Gossmann et al. 1993; Фокин 1995; Кузякин 1997; Фокин, Зверев 1997). В рамках этого исследования мы обобщили все доступные нам материалы — как литературные, так и оригинальные — по биологии вальдшнепа в Псковской обл.
Размещение и численность
Как указывает Н.А.Гладков (1951), в Псковской обл. распространён подвид Scolopax rusticola rusticola L., 1758. В северных уездах бывшей Псковской губернии вальдшнеп имел местное название слука , или вальшня (Порчинский 1872), а в южных уездах и в соседнем Полоцком уезде его звали сломкой (Федюшин 1926; Васильковский 1928).
Согласно В.Л.Бианки (1922) и С.М.Чистовскому (1927), вальдшнепа издавна считали обычным видом, регулярно гнездившимся в Псковской губернии. Для Псковского, Порховского и Опочецкого уездов, а также для Гдовского уезда бывшей Петербургской губернии (ныне Гдовского р-на Псковской обл.) это отмечали И.АПорчинский (1872), К.М.Де-рюгин (1897), Н.А.Зарудный (1910) и другие. В.Эсаулов (1878), работавший в бывшем Холмском уезде, часть которого относится теперь к Бежа-ницкому р-ну Псковской обл. (Пожидаев и др. 1988), считал этого кулика даже многочисленным. На весеннем и осеннем пролёте вальдшнепа наблюдали в Гдовском и Псковском уездах (Порчинский 1872; Нестеров и Никандров 1913, 1914, 1915; Никандров 1913).
Во второй половине XX в. в литературе появляются новые (к сожалению, крайне фрагментарные) заметки о вальдшнепе в Псковской обл. Его по-прежнему относят к обычным гнездящимся видам (Мешков и др. 1974; Урядова, Щеблыкина 1993а). В гнездовой сезон его регулярно встречают на всей территории области и упоминают в работах, выполненных в Ремдовском зоологическом заказнике (Щеблыкина, Урядова 1998), Изборско-Мальской долине (Урядова, Щеблыкина 19936), Пушкинском заповеднике (Мальчевский 1981), в Себежском национальном парке (Ильинский, Фетисов 1994), в Великолукском зоологическом заказнике (Бардин и др. 1995). В Полистовском заповеднике (Проект... 1994; Фетисов и др. 19986) и в некоторых местах Великолукского и Куньинского р-нов численность вальдшнепа оценивается как высокая (Фетисов 1994; Фетисов и др. 1998а). Вальдшнепа продолжают наблюдать на пролёте в сентябре-октябре на восточном берегу Псковско-Чудского озера (Мешков 1978). Обобщая, можно отметить, что наряду с бекасом Gallinago gallinago вальдшнеп, несомненно, является одним из наиболее многочисленных куликов Псковской обл. В подходящих стациях: в лиственных и смешанных сырых лесах с густым подлеском, перемежаемых полянами и вырубками,— вальдшнеп встречается на всей территории области, хотя его размещение неравномерно. Во время сезонных миграций численность вида повышается в несколько раз, особенно осенью.
К сожалению, оценки численности вальдшнепа в Псковской обл. отсутствуют. Можно предполагать, что в репродуктивный период она выше в наиболее облесённых районах, расположенных в северной и южной частях области, например, в Плюсском, где леса занимают 65.3% территории, а также в Себежском и Гдовском (по 58.4%), Пустошкинском (54.2%), Стру-гокрасненском (53.7%), Усвятском (46.7%) и Невельском (44.2%). В центре области лесистость низкая: в Пыталовском 16.5%, в Пушкиногорском 17.9%, Островском 19.6%, Бежаницком 20.0%, Палкинском р-не 24.5% (Чевидаев 1993), поэтому и численность вальдшнепа, по-видимому, меньше. Кроме того, вальдшнеп практически не поселяется на обширных болотах и в подтопленных водой или сильно заболоченных лесах. Так, он ни разу не был отмечен в 1995 на переувлажнённой части Псковско-Чудской приозёрной низменности, хотя встречался там в лесах на сухих надпойменных террасах (Ильинский, Фетисов 1998). Мы согласны с выводом А.С.Мальчевского и Ю.Б.Пукинского (1983), что для вальдшнепа оказалось весьма благоприятным омоложение лесов и сокращение площадей сплошных ельников и сосняков, а также зарастание серой ольхой Alnus incana лесных покосов и лугов вдоль небольших речек и ручьев, что способствовало повсеместному распространению вида на Северо-Западе
России и сохранению численности несмотря на спортивную охоту на него. Важным условием пребывания вальдшнепа на Псковщине служит наличие в лесу травяного покрова или черничника. Чистые сухие сосновые боры на песчаных почвах вальдшнепом не заселяются. В небольшом количестве он отмечается в разреженных пойменных ельниках с достаточно выраженным травяным покровом.
Плотность поселения вальдшнепа в разных стациях весьма различна: в смешанном лесу в Гдовском р-не она составляла 1 пару/км2 (Мешков 1961), а в лиственных лесах верхней части бассейна Псковы достигала 10-12 пар/км2 (Ильинский и др. 1985). Даже на сравнительно ограниченной территории, как это наблюдали во время проектирования национального парка “Себежский” в июне 1992, плотность вальдшнепа изменялась от 0 в хвойных насаждениях до 3 ос./км2 в лиственных и смешанных лесах и 4 ос./км2 в сероольшаниках (Фетисов и др. 1998в). Для сравнения укажем, что для Эстонии максимальная плотность — 9 пар/км2 — отмечена в ольховоберёзовых лесах (Poldvere 1994). По нашим данным, на юго-западе Псковской обл. плотность поселения вида в лиственных (ольхово-берёзовых) и смешанных лесах достигает 2-3 пар/км2, а в сосновых борах с незначительной примесью берёзы и осины она не превышает 1.5 пар/км2.
Высокая численность вальдшнепа, по нашим данным, в 1980-х была во многих местах Себежского р-на, например в Идрицком и Лавровском сельсоветах, где плотность достигала 10 ос./км2. В таких урочищах, как Колищи, Радуни, Олбитица, в разгар тяги с одного места удавалось наблюдать одновременно до 3-х тянущих самцов. В урочище Малые Осинки, в 3 км к востоку от дер. Осыно, 21-24 апреля 1988 на одной поляне застрелили 7 самцов, но тяга продолжалась. 16 июня 1998 3 вальдшнепа одновременно токовали у дер. Гламазды в Куньинском р-не (Фетисов и др. 1998а). В Полистовском заповеднике, по сообщению Г.М.Андреева, Ю.В.Сорокина и Н.Г.Степанова, в лучших местах, например, между дер. Сос-ново и оз. Дулово, за вечер можно насчитать до 20 и даже 25 протянувших птиц. 23-24 июня 1998 мы прошли около 15 км в буферной зоне заповедника, и спаниель поднял 6 вальдшнепов (Фетисов и др. 19986).
По материалам сотрудников Окского заповедника и ЦНИЛ Главохоты РСФСР, получивших результаты анкетного опроса охотников, в начале 1970-х на Псковщине отстреливали около 10 тыс. вальдшнепов в год (Приклонский, Сапетина 1978). Если учесть, что в эти годы там было 210 приписных охотничьих хозяйств и порядка 15 тыс. охотников (Русаков, Русакова 1969), то приведённые данные вряд ли покажутся завышенными. В последние десятилетия, однако, по мнению сотрудников Госкомэкологии и Управления охотничьего хозяйства, общая численность вальдшнепа, как и других куликов, здесь снижается (Ботина и др. 1993).
Прилёт и весенний пролёт
Принято считать, что прилёт вальдшнепа в Псковскую обл. происходит в середине апреля, обычно 14 апреля (Гладков 1951). В окрестностях Пскова первых особей отмечали 31 марта 1895, 1 апреля 1906, 2 апреля 1897 по старому стилю (Зарудный 1910; Нестеров, Никандров 1913), т.е.
13-15 апреля по новому стилю. Однако чаще вальдшнепы прилетали и раньше, обычно в третьей декаде марта (Зарудный 1910), а в 1913 4 птиц добыли на тяге около устья Великой уже 19 марта (Никандров 1913; Нестеров, Никандров 1914), что соответствует 1 апреля по новому стилю. По сведениям, собранным И.А.Порчинским (1872), в Гдовском уезде вальдшнеп появлялся во второй половине марта (по старому стилю), когда в лесах только появлялись первые проталины. Пролёт шёл до середины апреля (по новому стилю), и “высыпки” пролётных особей встречались не более недели. Во время весеннего пролёта вальдшнепы в основном держались неподалеку от обширных хвойных лесов, предпочитая опушки с ручьями с ольхой и другими кустарниками по берегам.
Сопоставив сроки прилёта вальдшнепа, отмеченные Н.А.Зарудным (1910), П.В.Нестеровым и Я.Н.Никандровым (1913), С.И.Чистовским и Л.В. Рисположенским (1949), с собственными наблюдениями под Псковом, М.М.Мешков (1956) и позднее М.М.Мешков и Л.П.Урядова (1972) писали, что прилёт происходит с 8 марта по 19 апреля, в среднем 6 апреля (по новому стилю), в то время, когда идёт бурное таяние снега на полях, лугах и болотах, освобождаются ото льда речки и в низинах стоят разливы талой воды. В Эстонии в 1877-1986 прилёт первых вальдшнепов отмечался с 13 марта по 6 апреля, в среднем 22 марта, а интенсивный пролёт продолжается в апреле (Poldvere 1994).
В Себежском Поозерье мы регистрировали первые встречи вальдшнепов в конце марта (27 марта 1989 и 29 марта 1990) - первой декаде апреля (1 апреля 1986, 10 апреля 1987). Однако определить точные даты прилёта вальдшнепа, на наш взгляд, практически невозможно, потому что регистрация этих птиц носит случайный характер. На то, что весенний пролёт этого вида малозаметен, обращал внимание ещё Н.А.Зарудный (1910). В холодные вёсны, особенно после снегопадов, прилетевшие вальдшнепы скрытно кормятся в лесу вдоль мелких ручьев, не вылетают на тягу и остаются незамеченными. Ошибка в определении срока прилёта может составлять несколько дней, а то и неделю, о чём часто можно слышать в беседах с псковскими охотоведами и охотниками.
Размножение
Период тяги. Вскоре после прилёта вальдшнепы приступают к токовым полетам, широко известным как тяга. Количество тянущих самцов несколько увеличивается к маю, что указывает скорее всего на растянутый прилёт птиц. В тяге, наряду со взрослыми, участвуют и самцы в возрасте около года. Один из них был добыт, например, 1 мая 1998 на тяге возле дер. Сосново в Локнянском р-не.
Интенсивность тяги сильно меняется день ото дня. При этом трудно судить о причинах столь резкого изменения в поведении птиц. Хотя интенсивность тяги, несомненно, сильно зависит от погоды, резкие перепады в её интенсивности не всегда возможно объяснить только этим. Иногда тяга наблюдается в холодную погоду и даже в снегопад. Тем не менее, максимальное число особей токует в тихие пасмурные вечера. При ясном небе и слабом ветре тяга проходит тоже достаточно интенсивно. В полнолуние птицы тянут и ночью. В утренние часы нам удавалось отмечать в Себежском Поозерье не более 3-5 протянувших особей, тогда как накануне вечером там же отмечали до 12-15 токовых полётов.
Каждый самец во время тяги летает по своему определённому и замкнутому маршруту, неоднократно пересекая при этом одни и те же места, лежащие на направляющих линиях, которыми служат поляны, вырубки, лесные дороги, берега речек и ручьёв и т.п. Довольно часто токовые маршруты разных самцов пересекаются или частично совпадают, и тогда с одного места удаётся порой видеть одновременно 2-Зтянущих вальдшнепов. Вечерняя тяга, на наш взгляд, бывает гораздо продолжительней, чем указывают в литературе. По крайней мере, она регулярно начинается не после, а до захода солнца, а заканчивается зачастую после полуночи. В пасмурные же дни, особенно с моросящим дождём, вспугнутые в лесу самцы начинают тянуть иногда даже за 2-3 ч до захода. На юге Псковской обл. вальдшнепы токуют в мае обычно с 2030 до 2330, в июне с 2130 до О30, а в июле с 2100 до 24.
Период тяги сильно растянут. Регулярная тяга продолжается до конца июня, но отдельные самцы тянут и в июле. В Псковском уезде весбма оживлённая тяга сохранялась ещё в первой декаде июля (Зарудный 1910). В Гдовском уезде И.А.Порчинский (1872) наблюдал тянущих вальдшнепов около Петрова Дня (12 июля по новому стилю), а в Себежском Поозерье мы отмечали тягу до 14 июля (1982). Наиболее поздняя встреча токующего самца произошла в верховьях Псковы 2 августа 1980 (Мальчевский, Пукинский 1983; Ильинский и др. 1985).
Сильная растянутость сроков тяги свидетельствует о способности самок вальдшнепа приступать к размножению в течение длительного периода. Большинство исследователей, работавших на Северо-Западе России (Порчинский 1972; Родионов 1973; Мальчевский, Пукинский 1983), объясняет появление поздних кладок только разорением части гнёзд и повторным размножением, сопровождающимся дополнительной копуляцией. Другая точка зрения допускает наличие у части самок вторых кладок (Волков 1968; Подковыркин 1972). Очевидно, что пока не будут проведены исследования с применением индивидуального мечения, этот вопрос будет оставаться открытым. Мы склонны предполагать, что молодые самки (в возрасте около года) могут приступать к откладке яиц позднее старых и тем самым увеличивать общую продолжительность периода токования и спаривания у вальдшнепа.
Период гнездования. По данным И.А.Порчинского (1872), в Гдовском уезде в хорошую весну самки садились на яйца во второй половине апреля (по старому стилю), в холодную — в первых числах мая. 16 апреля 1894 К.М.Дерюгин нашёл гнездо с 4 ненасиженными яйцами, а 18 мая 1896 г-н Андреев — гнездо с 4 насиженными яйцами (Зарудный 1910).
В Себежском Поозерье петербургским орнитологам удалось описать 5 гнёзд вальдшнепа. Наиболее ранняя находка гнезда — 2 мая 1986 — сделана И.В.Ильинским, обследовавшим обширную территорию к востоку от дер. Осыно, где запаханные поля чередуются с оставшимися после ме- лиорации участками мелколиственного, в основном сероольхового, леса. Гнездо располагалось не долее 500 м от деревни, в 8 м от пашни среди жердняка серой ольхи. В гнезде было 4 насиженных яйца. Птенцы вылупились 15 мая. В мелколесье в 2.5 км восточнее Осыно И.В.Ильинский нашёл ещё одно гнездо 16 мая 1984. В нём было 3 слабо насиженных яйца. Гнездо располагалось возле самого ствола серой ольхи, растущей на опушке. Гнездо с 4 слабо насиженными яйцами найдено С.А.Фетисовым 29 мая 1982 в редком соснячке на небольшом верховом болотце в урочище Боровые, в 200 м от бывшей деревни. С одной стороны болотце заросло густым ивняком, с другой — полосой смешанного леса, отделяющего его от поля. Гнездо находилось под сосенкой Pinus sylvestris в 10 м от края болотца и представляло собой ямку во мху почти без выстилки, укрытую на кочке среди багульника Ledum palustre. Позднее гнездо оказалось брошенным (хранится в экспозиции Себежского музея природы) (Фетисов 1985; Фетисов и др. 1998 г). Размеры гнезда, мм: диаметр лотка 116, глубина лотка 56. Размеры яиц, мм: 43.5x32.8; 43.0x32.5; 42.9x32.9; 43.8x32.4. Судя по развитию эмбрионов, кладка завершена 23-24 мая.
Ещё одно гнездо найдено 14 июня 1983 неподалеку от урочища Боровые, в 104 кв. бывшего Руднянского лесничества. Самка очень плотно сидела под 1.5-метровой ёлочкой Picea abies, растущей на сравнительно чистом и ровном участке зарастающей вырубки в 5-6 м от края старого смешанного леса с одной стороны и в 10-12 м от густого подроста берёзы, осины Populus tremula и ели с другой. Птица резко взлетела вверх, подпустив нас на 3-4 м. Гнездо представляло собой ямку во мху с редким травостоем. 2 яйца из 4 были наклюнуты. 16 июня самка сидела во время дождя в гнезде, вероятно, уже на птенцах. Наиболее позднее гнездо с 3 слабо (5-6 сут) насиженными яйцами нашёл 17 июля 1984 в окрестностях дер. Мылинки В.А.Фёдоров. Гнездо располагалось на краю болотца среди сухого бора на небольшой кочке, покрытой Polytrichum commune.
Известны и другие случаи находки гнёзд вальдшнепа в Псковской обл., не имеющие, правда, подробных описаний. В 1957-1962 два гнезда с 4 яйцами найдены в Гдовском и Псковском р-нах (Мешков, Урядова 1967). В 1963 в Псковском р-не под отдельно стоявшей на поляне ивой лесник вспугнул самку с гнезда с 4 яйцами (Голованова, Пу-кинский 1967). 23 июня 1998 Д.Ю.Леоке нашел старое гнездо вальдшнепа в Полистовском заповеднике, устроенное под берёзой на краю лесной поляны в мелколиственном лесу. В нём находилась скорлупа от 4 яиц, из которых вылупились птенцы (Фетисов и др. 19986).
И.А.Порчинский (1872) писал, что в кладках вальдшнепа на севере Псковской губернии 3, реже 4 яйца. По известным нам данным, включая и литературные, полная кладка в 2 случаях состояла из 3 яиц и в 9 случаях — из 4; средняя величина кладки составила 3.82± 0.12 яиц (я = И).
Период вождения выводков. Следствием растянутости откладки яиц у вальдшнепа в Псковской обл. является длительный период появления и вождения выводков, так что во время охоты в августе под выстрел попадают молодые птицы самого разного возраста (Порчинский 1872). Пухо- вички вальдшнепа в Псковском р-не встречались в сырых лиственных лесах с середины мая по новому стилю (Нестеров, Никандров 1913, 1914) и в июне (Голованова, Пукинский 1967); птенцы размером “со скворца” — в начале июля (Зарудный 1910). В Полоцком р-не Белоруссии А.В.Федюшин (1926) видел пуховичков размером “с воробья” 30 июня 1924.
В южной части области вылупление происходит обычно с середины мая до середины июня. Выводки пуховичков в возрасте не старше недели мы встречали в Себежском р-не с 15 мая (1985, 1992) по 11 июля (1982). Приведём несколько примеров таких встреч, когда возраст птенцов или величина выводка были точно известны, либо демонстративное поведение птиц заслуживало интереса.
15 мая 1985 выводок обнаружили в ольховом мелколесье за фермой в дер. Осыно. Он держался на берегу ручья в густых зарослях серой ольхи и черемухи Padus avium, среди которых встречались отдельные ели. На месте взлёта самки поймали птенца, его размеры, мм: длина клюва (по коньку) 18.6, длина крыла 24 мм. На его писк отозвались еще два затаившихся птенца, после чего самка, до этого с шумом взмывшая из травы вертикально вверх и отлетевшая с тревожным голосовым сигналом в сторону, стала биться на земле, громко хлопая крыльями, а потом стала подходить ближе, издавая хриплые верещащие звуки и периодически взмахивая крыльями. Варианты подобного поведения описаны в литературе АС.Маль-чевским и Ю.Б.Пукинским (1983) и другими авторами.
15 мая 1992 в 1.5 км от дер. Селищи самка вальдшнепа вылетела из ольховых зарослей навстречу бежавшему по дороге спаниелю и отвела собаку на 60-80 м вдоль дороги, после чего улетела в лес. Отводя, самка медленно летела над самой землёй, неестественно низко опустив хвост и ноги, временами почти садясь на дорогу и громко хлопая крыльями. Там, откуда она вылетела, в полосе ольшаника между скошенным лугом и дорогой, в 4-5 м от неё, в поросшей редкой травой низине нашли птенца в возрасте около 2 нед. размером с дрозда, который лежал, плотно прижавшись к земле. Его маховые были наполовину в чехлах, летать он ещё не мог, но побывав в руках, стал активно спасаться бегством.
22 мая 1986 один птенец из выводка в возрасте не более 2-3 сут был пойман на поросшей кустами вырубке в окрестностях Осыно.
Несколько выводков И.В.Ильинский, Ю.Б.Пукинский и С.А.Фетисов встретили в урочище Боровые в 1982-1983. 24 июня самка отводила от 2 птенцов примерно недельного возраста на зарастающей вырубке. 27 июня другая отводила от 3 птенцов в возрасте 3-4 сут в заболоченном смешанном лесу на берегу мелиоративной канавы. Ещё 3 выводка обнаружены на заросших берёзово-осиновыми молодняками и орляком Pteridium aquilinum вырубках 8, 10 и 11 июля. Одна самка продемонстрировала очень бурный и продолжительный отвод. Она взлетела, опустив, как обычно, хвост и ноги, пролетела около 10 м, села на землю и, громко “кудахтая”, стала шумно бить крыльями, как будто упала в воду. После этого она несколько раз перелетала на 5-7 м и, оставаясь на виду, проделывала этот приём ещё раз, а потом уже отлетела подальше и стала скрытно облетать кругами над самой землёй то место, где затаились птенцы и находились люди.
Возле подросших птенцов самки ведут себя иначе. При приближении человека они обычно стремительно улетают, а птенцы затаиваются. 6 июля 1997 И.В.Ильинский и С.А.Фетисов обнаружили самку с 3 птенцами возле оз. Плоское в Красногородском зоологическом заказнике. Выводок держался на захламлённом участке между сырым пойменным лиственным лесом и сухим бором с густым подлеском из крушины ломкой Frangula alnus и рябины Sorbus aucuparia и зарослями орляка. Двух птенцов удалось поймать. Их размеры, мм: длина клюва от ноздри 37 и 37; длина клюва по коньку 47 и 48; длина крыла 101 и 112; длина цевки 34 и 35. Маховые перья у обоих представляли собой кисточки длиной от 20 до 70 мм; трубочки рулевых только что лопнули. Птенцы ещё не летали, но убегали и затаивались, подлезая под упавшие сучья и прижимаясь к земле.
Молодых, уже перепархивающих вальдшнепят встретил 9 июля 1904 по новому стилю в Псковском уезде Б.П.Корев (Зарудный 1910).
Сроки распадения выводков у вальдшнепа в Псковской обл. неизвестны. Можно только предполагать, что птенцы из поздних выводков держатся вместе до отлёта. Во время ночных наблюдений с фарой в сентябре-октябре 1993-1998 мы наблюдали в Псковской обл. обычно одиночных вальдшнепов (более 500 особей), но около 4% птиц встречены попарно, а чуть больше 9% в составе групп из 3-4 особей. В течение осени доля вальдшнепов, встреченных нами парами или группами, заметно изменялась. В октябре всё больше птиц держалось поодиночке. Если 2125 сентября 1993-1997 доля одиночек составляла 66.2%, то 11-15 октября она достигала уже 90.9%. Возможно, что это происходило по мере отлёта из района нашего наблюдения местных вальдшнепов, которых как раз и объединяли между собой родственные отношения, хотя не исключено, что такая картина могла быть следствием и особенностей территориального поведения птиц на местах гнездования (например, использования ими одних и тех же кормовых участков), а кроме того, могли быть и другие неизвестные нам причины.
Один раз — 22 сентября 1994 — нам удалось поймать сачком одновременно обоих членов пары, кормившихся в низине на краю грязевой лужи на полевой дороге. Ими оказались взрослая особь и молодая птица из позднего выводка, но у нас, к сожалению, нет никаких дополнительных оснований, чтобы утверждать, что это была самка со своим птенцом. В другом случае — 5 октября 1995 — одним из членов в одновременно пойманной паре был молодой вальдшнеп, окольцованный нами неподалёку 8 дней назад. Тогда он отдыхал в одиночку, а во второй раз, возможно, встретился со своим собратом случайно, во время кормёжки.
Рассматривая все случаи, когда нам удалось поймать и точно определить возраст только одного члена в паре или группе, можно отметить следующее. В 10 парах из 14, пойманной птицей оказывалась молодая (в 3 случаях молодые вальдшнепы из поздних выводков), в остальных 4 случаях — взрослая птица. В 4 случаях из 5 в подобной ситуации, но в группах, состоявших из 3 особей, по крайней мере одна из них была молодая, и только в одном случае — взрослая птица.
В сборе полевых материалов принимали активное участие в 1980-х годах И.В.Илъинский и В.А.Федоров, а начиная с 1993 — С.А.Царев, Ф.Госсманн, П.А.Зверев и И.Г.Милевский. Мы благодарим за помощь в организации полевых исследований сотрудников лаборатории зоологии позвоночных Биологического НИИ СПбГУ и российского клуба “Вальдшнеп”, а также Управления охотничьего хозяйства Псковской обл.. Псковского полевого отряда Балтийского фонда природы СПбОЕ, и наших французских коллег из Национального Управления охоты Франции (координатор Ф.Госсманн). Исследования, проведенные нами в 1993-1998, финансировались в основном Национальным Управлением охоты Франции (ON С).