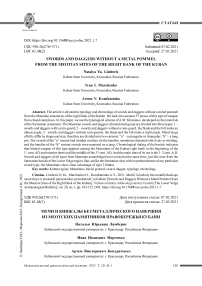Мечи и кинжалы без металлического навершия из меотских памятников правобережья Кубани
Автор: Лимберис Наталья Юрьевна, Марченко Иван Иванович, Кондратенко Артем Викторович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена типологии и хронологии мечей и кинжалов без металлического навершия из меотских грунтовых могильников правобережья Кубани. Нами учтено 57 экземпляров этого вида оружия из закрытых комплексов. В работе мы используем типологическую схему А.М. Хазанова, разработанную на материалах сарматского вооружения. Меотские мечи и кинжалы этого отдела относятся к трем типам: тип 1 - мечи и кинжалы с перекрестием; тип 2 - мечи и кинжалы без перекрестья, клинок которых переходит в черенок под тупым углом; тип 3 - мечи и кинжалы без перекрестья, клинок которых переходит в черенок под прямым углом. Металлические черенки рукоятей отличаются формой и размерами и разделены на два варианта: «а» - прямоугольные или треугольные; «б» - длинный штырь. Мечи варианта «а» имели деревянные накладки на рукояти, которые иногда крепились с помощью заклепки или обмотки, а рукояти мечей варианта «б» насаживались на штырь. Хронологическая атрибуция погребений показывает, что клинковое оружие этого типа появляется у меотов правобережья Кубани в начале I в. н.э. и бытует вплоть до середины III в. н.э. Причем основное время их использования приходится на I-II н.э. Как и в сарматских погребениях Нижнего Поволжья, в меотских комплексах мечи и кинжалы всех типов синхронны. Но, в отличие от сарматских памятников, где не отмечается преобладание какого-то одного типа мечей, у меотов явное преимущество имели клинки типа 2.
Прикубанье, меоты, грунтовый могильник, меч, кинжал, типология, хронология
Короткий адрес: https://sciup.org/149138019
IDR: 149138019 | УДК: 930.26(270+571) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2021.1.7
Текст научной статьи Мечи и кинжалы без металлического навершия из меотских памятников правобережья Кубани
СТАТЬИ
DOI:
Цитирование. Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., Кондратенко А. В., 2021. Мечи и кинжалы без металлического навершия из меотских памятников правобережья Кубани // Нижневолжский археологический вестник. Т. 20, № 1. С. 103–152. DOI:
Для меотского клинкового оружия первых веков н.э. характерны мечи без металлического навершия, рукояти которых откованы вместе с клинком. Существует несколько типологических схем этой категории мечей, основанных на сарматском материале. Нам представляется, что схема, предложенная А.М. Хазановым, работает и в настоящее время, и мы будем, как и большинство исследователей, придерживаться его типологии [Хазанов, 1971, с. 17]. Меотские мечи и кинжалы этого отдела относятся к трем типам. В тип 1 включены мечи и кинжалы с перекрестием. К типу 2 отнесены мечи и кинжалы без перекрестья, клинок которых переходит в черенок под тупым углом, и в тип 3 объединены мечи и кинжалы без перекрестья, клинок которых переходит в черенок под прямым углом. Металлические черенки рукоятей отличаются формой и размерами, поэтому мы предлагаем разделить их на два варианта: прямоугольные или треугольные – «а», длинный штырь – «б». Мечи варианта «а» имели деревянные накладки на рукояти, которые иногда крепились с помощью заклепки или обмотки, скорее всего, кожаными ремешками, а рукояти мечей варианта «б» насаживались на штырь. Возможно, они имели катушкообразную форму, но это только предположение, так как даже тлен от них не дает возможности восстановить форму рукоятей.
Нами учтено 57 экземпляров этого вида оружия из закрытых комплексов меотских грунтовых могильников городищ, расположенных на правобережье Кубани: Старокорсунского № 2 (СК–2), Старокорсунского № 3 (СК–3), хут. Ленина № 1 (Л–1), Спорное (СП), Усть-Лабинско-го № 2 (УЛ–2), Елизаветинского № 2 (ЕЛ–2), Воронежского № 3, Пашковского № 5 (Пашк.–5), а также Пашковского могильника № 2 (Пашк.–2), относящегося к одноименному городищу № 1. Среди мечей встречаются как длинные (от 75 см до 103 см), так и более короткие (от 45 cм до 70 см). Кроме этого, выделяется группа кинжалов, длина которых не превышает 40 см. Размерные характеристики мечей и кинжалов приведены в таблице 1.
Мечи и кинжалы типа 1 (рис. 1, 4), всего 10 экз. из комплексов Л–1 № 33/1980, № 20/1981, № 359/1981; СК–2 № 326в, № 230з, № 613з; СК–3 № 348, № 504; ЕЛ–2 № 31/1978, № 93/1978. Перекрестья большей части мечей – брусковидные, и только у двух экземпляров – ромбовидные (Л–1 № 33/1980 – железное, СК–2 № 613з – бронзовое с вырезом в верхней части, имитирующее нефритовое).
Мечи типа 2 (рис. 2), всего 24 экз.: Л–1 № 64/1980, № 138/1981, № 227/1981, № 255/1981, № 289/1981, № 306/1981, № 364/1981, № 377/1981, № 419/1981, № 27/1983; СК–2 № 33в, № 35в, № 325в, № 329в, № 379з, № 482з, № 554з; СК–3 № 13, № 266, № 270, № 294, № 511; СП№ 161, Пашк.–5 № 2/1972.
Мечи и кинжалы типа 3 (рис. 3, 4), всего 16 экз.: Л–1 № 12/1981, № 140/1981, № 174/1981, № 4/1983; СК–2 № 218з, СК–3 № 4, № 64, № 255, № 315, № 338, № 347; СП № 104, УЛ–2 № 81/1938, ЕЛ–2 № 13/2013, № 140/2013; Пашк.–1 № 1.
Есть также несколько экземпляров мечей, тип которых не установлен. Относительно мечей из Вор–3 № 7/1966, № 59/1966, № 172/1967, № 207/1967, УЛ–2 № 13/1931, № 2/1944 известно только по краткой информации из публикаций, полевым фотографиям и отчетам Н.В. Анфимова без рисунков. Также неясен тип меча из погребения Л–1 № 392/1981, так как он был плохой сохранности и разрушился при снятии. Все эти мечи – без перекрестия и, значит, относились либо ко 2-му, либо к 3-му типу.
На наш взгляд, для того чтобы установить время появления и период использования мечей без металлического навершия ме-отами правобережья Кубани, целесообразно, по возможности, более точно продатировать погребения, в которых они были найдены. Хронология комплексов в большинстве случаев опирается на те предметы инвентаря, которые принято считать относительно надежными хроноиндикаторами, – в основном это бронзовые фибулы разных типов, причем очень немногие из них имеют узкие датировки. Встречаются также импортные стеклянные сосуды, хронология которых для памятников местного населения Прикубанья выглядит достаточно убедительно. Во многих погребениях с мечами нет разработанных хроноиндикаторов, зато присутствуют сероглиняные сосуды, которые в меотских памятниках часто сопровождаются фибулами, зеркалами или другими предметами, имеющими более-менее определенные рамки бытования. По этой причине некоторые типы местной керамики вполне могут служить опорными ориентирами для хронологии комплексов, где нет других датирующих вещей.
Наиболее ранним среди известных в настоящее время меотских комплексов с мечами без металлического навершия является погребение Л–1 № 306, в котором вместе с мечом типа 2а был найден стеклянный амфо-риск (рис. 22,7,10), изготовленный в технике песчаного сердечника. Хронология подобных сосудов из Сиро-Палестинского региона и Египта определяется в пределах II – середины I в. до н.э. [Grose, 1989, p. 170, type III:2A, No. 170], а сосудов поздней кипрской группы – I в. до н.э. – первой половиной I в. н.э. [Hayes, 1975, p. 15]. В некрополе Самофракия период их бытования первоначально ограничивали периодом правления Августа [Dusenbery, 1967, p. 34–49], позже – временем около 25 г. до н.э. [Dusenbery, 1998, p. 234, 1069–1070, No. S143– 24, S144–11, S167–5]. Близкого типа амфориск из Пантикапея Н.З. Кунина отнесла к началу I в. н.э. [Кунина, 1997, с. 253, № 37]. Этим же временем, учитывая формы меотских сероглиняных сосудов, мы датировали погребение № 306 [Лимберис, Марченко, 2003, с. 110–111, № 60; Marčenko, Limberis, 2008, S. 386, Taf. 131, Kat-Nr. 120].
Меч типа 1а найден в погребении ЕЛ–2 № 31/1978 (рис. 30) вместе с литыми стеклянными скифосом и чашей, которые позволили нам отнести этот комплекс к первой половине I в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2003, с. 108, 110, 183, № 107, 1 , 2 ; Marčenko, Limberis, 2008, S. 389, Taf. 195, Kat.-Nr. 188].
Узкую хронологию имеет погребение ЕЛ–2 № 140/2013 с мечом типа 3б , откуда происходит фибула-брошь без эмали в виде павлина с широким хвостом, украшенным по периметру врезными «глазками». Э. Эттлин-гер выделила эти броши в тип 46 и датировала второй четвертью – серединой I в. н.э. [Ettlinger, 1973, S. 124]. К этому же времени аналогичные застежки относит В.В. Кропотов [Кропотов, 2010, с. 305].
Погребение Л–1 № 419/1981 с мечом типа 2а (рис. 27, 5–10 ) ранее было нами широко датировано по ребристой стеклянной чаше Isings 3c/AR 2.3 [Isings, 1957, p. 20–21; Rütti, 1991, S. 40] I в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2003, с. 110, № 64; Marčenko, Limberis, 2008, S. 386, Taf. 128, Kat.-Nr. 125]. Аналогичные чаши, согласно новым исследованиям коллекции стеклянных изделий из лагеря Август, датируются 15–50 гг. [Fünfschilling, 2015, S. 264– 265, 684], что позволяет сузить хронологию этого комплекса до второй – третьей четверти I в. н.э.
В погребении ЕЛ–2 № 13/2013 мечу типа 3б сопутствовала фибула с выпуклой пластинчатой спинкой и кнопкой на конце приемника серии I, варианта 2, хронологию которых В.В. Кропотов определяет периодом формирования позднесарматской культуры, то есть «большей частью» II в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 212–213]. По наблюдениям В.М. Косянен-ко, пластинчатые экземпляры с кнопкой на конце приемника из некрополя Кобякова городища относятся к I в. н.э. [Косяненко, 2008, с. 92–93]. Выводы исследовательницы построены на материалах памятника оседлого ме-отского населения Нижнего Дона, поэтому ее датировка является для нас более предпочтительной. Елизаветинское погребение мы считаем возможным отнести к I в. н.э.
В погребениях СК–2 № 35в с мечом типа 2а (рис. 13, 11 ) и Л–1 № 289 с кинжалом того же типа (рис. 25, 1–4 ) датирующими находками являются железные бритвы (рис. 13, 8 ; 25, 3 ). Такие бритвы встречены в Старокор-сунском могильнике № 2 вместе с лучковыми фибулами группы 4, серии 1 [Кропотов, 2010, с. 68–74]. В погребении СК–2 № 29в была найдена фибула варианта 1, в погребении СК–2 № 139в – варианта 2 и, кроме нее, еще пластинчатая фибула с завитком на конце приемника, что дало нам основание датировать бритвы I в. н.э. Бритвы происходят также из двух комплексов I в. н.э. некрополя городища Спорное (№ 98, 143) с мечами с кольцевидными навершиями [Лимберис, Марченко, 2019а, с. 206, рис. 1, 8 , 6, 6 ]. Этим же временем, скорее всего, нужно датировать и комплексы СК–2 № 35в и Л–1 № 289.
В комплект вооружения из погребения СК–2 № 482з вместе с мечом типа 2а входили наконечник копья и набор наконечников стрел (рис. 17). Наконечник копья с удлиненно-ромбовидным пером с прогнутыми краями и длинным уплощенным острием относится к типу III, 4, IV, 1 по нашей классификации. Данный вариант наконечников копий встречается в комплексах второй половины II в. до н.э. и в I–II вв. н.э. Это погребение мы датировали I в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2006, с. 171]. В погребениях Л–3 № 53 и № 58 аналогичным копьям сопутствовали кружки с прямоугольной площадкой и выступом на ручке, основное время бытования которых, вероятнее всего, ограничивается I в. н.э. Среди черешковых наконечников стрел находился один втульчатый, что может указывать на более раннюю дату, возможно, на начало этого столетия. Не исключено и вторичное использование этого наконечника, так как он имеет очень маленькие размеры, характерные для IV–III вв. до н.э.
Разрушенное в древности погребение Л–1 № 227/1981 с мечом типа 2б может быть датировано по набору усеченно-биконических бус из глухого голубого стекла, которые Е.М. Алексеева считает характерными для I в. н.э. [Алексеева, 1978, с. 69, тип 101, рис. 15]. Хотя такие бусы, по нашим наблюдениям, не являются надежным хроноиндикатором, других данных для датировки комплекс не имеет.
Три меча без перекрестия и металлического навершия происходят из погребений четвертой хронологической группы второй половины I в. до н.э. – II в. н.э. Усть-Лабинском могильника № 2. Такие мечи, как считал Н.В. Анфимов, появились на Кубани и Боспо-ре на рубеже эр и были господствующей формой в первые века н.э. [Анфимов, 1951, с. 202]. Мечи из погребений УЛ–2 № 13/1931 и № 2/1944 относятся к типу 2 или 3 , варианты их неизвестны. Опубликован только рисунок меча типа 3б из погребения № 81/1938 г., вместе с которым была найдена бронзовая лучковая подвязная фибула, два керамических сосуда и костяная ворворка (рис. 29, 1–6 ) [Анфимов, 1951, с. 197, 198, рис. 18, 1 , 9 ]. Эту фибулу В.В. Кропотов отнес к серии I, варианту 2 [Кропотов, 2010, с. 72, 89, № 208], что позволяет датировать комплекс второй половиной I – началом II в. н.э.
Погребение ЕЛ–2 № 93/1978 (рис. 29,7–13) с мечом типа 1а можно датировать по находке бронзовой подвески-«ведерка» в виде полого цилиндра, с петлей для подвешивания [Анфимов, 1984, с. 95, табл. XII,30]. Такие подвески в памятниках Предгорного Крыма относятся к I в. н.э., а в более поздних комплексах они не встречаются [Труфанов, 2009, с. 231, рис. 65,17,20]. Аналогичная подвеска была найдена в погребении СК–3 № 81 вместе с двумя лучковыми подвязными фибулами серии I, варианта 2 и одной застежкой серии IV, варианта 2, что позволяет датировать данный комплекс второй половиной I – началом II в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 74, 161]. Таким образом, хронологию елизаветинского погребения с мечом также можно ограни- чить I в. н.э., возможно, началом следующего столетия.
Особый интерес представляет меч типа 1а из погребения СК–2 № 613з (рис. 18, 19), который имеет бронзовое литое ромбовидное перекрестие с прямоугольным вырезом сверху и выступом снизу. Длинные мечи с короткими ромбическими перекрестиями из бронзы, железа или нефрита и длинным черенком для рукояти известны в сарматских памятниках Волго-Донских степей и на сопредельных территориях. В.Е. Маслов предлагал разделить мечи с бронзовыми перекрестиями на две группы: с перекрестиями, близкими нефритовым (с вырезом сверху и центральным выступом снизу), и с прямыми, ромбовидными в сечении перекрестиями, не имеющими центрального выступа [Маслов, 1999, с. 221]. А.С. Скрипкин считает, что разделение на две группы по форме перекрестия не имеет большого значения, так как все подобные мечи независимо от материала перекрестий восходят к единой традиции в их изготовлении. Исследователь связывает их распространение в сарматской среде с восточными (китайскими) инновациями. Самые ранние мечи он датирует II–I вв. до н.э., а поздние – II– III вв. н.э. [Скрипкин, 2000, с. 18, 20, 31]. В недавно вышедшей совместной статье А.С. Скрипкин и В.М. Клепиков небезосновательно считают, что мечи с кольцевым навершием и мечи без металлического навершия появляются в данном регионе в результате миграционных процессов, исходной территорией которых были центральноазиатские районы, соседствующие с Китаем [Скрипкин, Клепиков, 2020, с. 214–215].
По мнению С.И. Безуглова, прототипами мечей с подобными перекрестиями были, безусловно, китайские изделия [Безуглов, 2000, с. 176]. О восточном происхождении таких мечей пишет и А.В. Симоненко [Симоненко, 2010, с. 56]. Новой находкой на правобережье Нижнего Подонья является меч с бронзовым перекрестием без выреза из погребения 3 кургана 7 могильника «Попов-I», которое авторы публикации относят «к самому концу раннесарматского периода» и датируют временем, «близким к рубежу эр» [Кропотов, Скворцов, 2020, с. 352–354, рис. 5].
Для Прикубанья мечи с бронзовыми перекрестиями являются уникальными находка- ми. Кроме меча из Старокорсунского могильника № 2 нам известен еще только один меч из кургана в станице Динской (раскопки Е.А. Ярковой в 1973 г.). Этот сарматский комплекс датируется I в. до н.э. На основании сохранности фрагментов клинка и не очень качественного полевого чертежа меч был отнесен к коротким [Марченко, 1996, с. 56, рис. 96,2]. Однако не исключено, что меч из Динской мог быть и длинным.
Погребению СК–2 № 613з нами была посвящена специальная статья [Лимберис, Марченко, 2012, с. 144–154]. Вместе с мечом в этом богатом комплексе найдена конская узда с набором серебряных фаларов: большим нагрудным в виде чаши, двумя наплечными, украшенными вихревой розеткой, и девятью малыми в виде львиных масок. В комплект упряжи входило семь пар железных удил. Найдены также железный кинжал без металлического навершия и перекрестия (тип 3а ), ножи, мелкие детали портупейного набора (бронзовые и железные подвески, пряжки, зажимы) и украшения (золотой браслет, бронзовый перстень). Анализ инвентаря позволил нам датировать этот комплекс второй половиной I – началом II в. н.э. На основании краниометрических данных была установлена сарматская принадлежность погребенного [Лимберис, Марченко, 2012, с. 144, 154]. Поэтому меч из старокорсунского комплекса можно считать сарматским по принадлежности.
В погребении СК–3 № 347 (рис. 11, 1–5 ) с мечом типа 3а хроноиндикаторами являются лучковая подвязная фибула серии I, варианта 3 первой половины – середины II в. н.э. [Амброз, 1966, с. 49–50; Кропотов, 2010, с. 74–75] и стеклянный бальзамарий формы AR 129, который датируется временем Тиберия–Траяна и, вероятно, позже, а в абсолютных датах – с 20–70/80 гг. до 100 г. н.э. [Rütti, 1991, S. 52, Abb. 35; Fünfschilling, 2015, S. 403, Formentafel 3]. На Боспоре такие бальзама-рии (тип I, 2, A) встречаются в основном в комплексах первой половины I в. н.э. и реже – в более поздних [Кунина, Сорокина, 1972, с. 157, рис. 1]. Эти находки позволили нам отнести данный комплекс ко второй половине I в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2003, с. 115, № 96; Marčenko, Limberis, 2008, S. 388, Taf. 181, Kat.-Nr. 173].
В комплексе СК–3 № 4 (рис. 5,1–6) вместе с кинжалом типа 3а найдена фибула типа Альмгрен 69 [Almgren, 1923, S. 34, Fig. 69], по которой мы первоначально датировали комплекс второй половиной I в. н.э. [Marčenko, Limberis, 2008, S. 387, Taf. 158, Kat.-Nr. 151]. В лагере Август соответствующий тип датируется второй четвертью – концом I в. н.э. [Riha, 1994, Typ 2.9, Taf. 78]. В.В. Кропотов отнес такие застежки к форме 1 сильно профилированных фибул с расширенной головкой. Автор отмечает, что западноевропейская схема развития не всегда находит подтверждение в древностях Свободной Европы (Словении и Дакии), где такие фибулы датируются концом I – началом II в. н.э. и, опираясь на три находки из Крыма и Нижнего Дона, предлагает датировать этот тип застежек периодом формирования позднесарматской культуры, то есть «большей частью II в. н.э.» [Кропотов, 2010, с. 257–259]. Для уточнения датировки фибул Альмгрен 69 следует обратиться к комплексам вещей из погребений, на которые ссылается автор. В могиле № 82 (первая камера подбоя) Неаполя Скифского нет вещей, которые могли бы скорректировать дату застежки. Во второй камере (могила 85) найдены сильно профилированные фибулы с бусинами на дужке II серии, лучковая I серии, варианта 3 и смычковая. Причем в обеих камерах совершались подзахоронения. У нас нет оснований считать одновременными эти две могилы, как полагает В.В. Кропотов [Кропотов, 2010, с. 262, № 16]. Да и сам исследователь этого памятника Э.А. Сымонович считал их разновременными и могилу 85 датировал I в. н.э. [Сымонович, 1983, с. 70–72]. Во втором комплексе (разрушенное погребение из Левенцовского карьера г. Ростов-на-Дону), кроме фибулы этого типа, было найдено орнаментированное зеркало-подвеска с боковым ушком. Такие зеркала, как сейчас установлено, встречаются и в I в. н.э. [Косяненко, 2008, с. 84–104, 108–117; Лимберис, Марченко, 2018, c. 214, рис. 9]. Автор публикации датировала этот комплекс концом I в. н.э. [Косяненко, 1989, с. 59–61, рис. 1,17,18]. В третьем комплексе (могила 25 могильника у с. Красная Заря), который приводит В.В. Кропотов, встречены две лучковые подвязные фибулы серии I, варианта 2, по которым авторы публикации да- тировали это погребение второй половиной I в. н.э. [Волошинов и др., 2007, с. 303–307, рис. 1,25, 4,19, 5]. Таким образом, говорить о большом запаздывании фибул типа Альмгрен 69 нет оснований. Учитывая время появления их в Дакии, погребение СК–3 № 4, вероятно, может относиться к концу I – началу II в. н.э.
В погребениях СК–3 № 13 с мечом типа 2б (рис. 6, 3–9 ), № 64 с кинжалом типа 3а (рис. 7, 1–5 ), № 270 с мечом типа 2а (рис. 8, 1–7 ), № 338 с мечом типа 3а (рис. 9, 1–8 ), Л–1 № 364/1981 с мечом типа 2а (рис. 26, 6–12 ) также были встречены одинаковые лучковые подвязные фибулы серии I, варианта 3, традиционная датировка которых – первая половина – середина II в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 74–75]. Однако в погребении Л–1 № 364 присутствовал также стеклянный бальзама-рий типа Isings 28b/AR 130.2, на основании которого хронология комплекса ранее была нами определена в пределах второй половины I – начала II в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2003, с. 114, 181, рис. 27, № 62; Marčenko, Limberis, 2008, S. 386, Taf. 133, Kat.-Nr. 122]. Уточненная хронология сосудов формы AR 130.2 в настоящее время ограничивается 50–100/120 гг. н.э. [Rütti, 1991, S. 52; Fünfschilling, 2015, S. 404, Formentafel 3]. Учитывая хронологию фибулы, комплекс Л–1 № 364 теперь предлагается датировать началом II в. н.э.
В погребении СК–3 № 511 с мечом типа 2б (рис. 10, 6–9 ) найдены удила с колесовидными псалиями, овальные петли которых приварены к ступице псалия. Колесовидные псалии с круглыми приваренными петлями присутствуют в погребении СК–2 613з второй половины I – начала II в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2012, с. 153, рис. 3, 4 , 5 , 8 , 9 ]. Другой датирующей находкой является пластинчатое колечко с пуансонным орнаментом. Такие украшения часто встречаются в меотских погребениях с лучковыми подвязными фибулами серии I, 1–3 вариантов. На этом основании датировку погребения можно ограничить I – первой половиной II в. н.э.
В погребении Л–1 № 377/1981 (рис. 24, 4–9 ) вместе с кинжалом типа 2а был найден сероглиняный кувшин, который по некоторым характерным морфологическим признакам (валикообразный кольцевой поддон, ручка с продольным ребром) тяготеет к I в. до н.э.
Набор бус в основном состоит из типов, появившихся еще в эллинистическую эпоху и продолжавших бытовать в римское время. Только две янтарные дисковидные бусины относятся к типу, зародившемуся в I в. н.э. и получившему распространение в более поздний период [Алексеева, 1978, с. 24, тип 11]. Эти скудные хронологические данные все же позволяют датировать погребение I в. н.э.
Погребение Л–1 № 359/1981 (рис. 26, 1–5 ) с мечом типа 1а сопровождалось сероглиняным кувшином и красноглиняной чашей с двумя ручками. Аналогичный кувшин происходит из комплекса СК–2 № 28в, который датируется по стеклянному скифосу типа IIIб, варианта 2 первой половиной I в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2019б, с. 236–238]. Форма чаши, продолжающая традиции чернолаковой позднеэллинистической и раннеримской керамики [Rotroff, 1997, p. 119, fig. 23, No. 403, 404; Robinson, 1959, p. 10, 13–14, F29–32; Thompson, 1934, p. 370, 372, fig. 58, D17], весьма близка краснолаковому сосуду боспорского производства из погребения № 78 Цемдолинского некрополя, которое датируется по чаше и набору бус второй половиной I – началом II в. н.э. [Малышев, 2008, с. 115, 142, рис. 107, 78 ]. Хронология погребения Л–1 № 359/1981, скорее всего, не выходит за рамки I в. н.э.
В разрушенном погребении Л–1 № 392/1981 вместе с мечом неустановленного типа 2/3 находилось три красноглиняных сосуда (рис. 27, 1–4 ). Наличие красноглиняной керамики выглядит несколько странным для ме-отских погребений первых веков н.э., но формы характерны для сероглиняных сосудов этого времени. Особенно показателен тип шаровидного горшочка без выделенного горла: такие сосуды являются частыми находками в погребениях, в том числе сопровождавшихся зеркалами-подвесками без орнамента. Аналогичные сероглиняные горшочки присутствуют в четвертой хронологической группе Усть-Лабинского могильника № 2 [Анфимов, 1951, рис. 17, 8 , 9 ], причем один из них был найден в погребении УЛ–2 № 81/1938 с мечом типа 3б , которое по бронзовой лучковой подвязной фибуле серии I, варианта 2 было датировано нами второй половиной I – началом II в. н.э. (обоснование его датировки см. выше). Хронологию же погребения
Л–1 № 392/1981, вероятно, можно ограничить I в. н.э.
Общая морфология кувшина со сливом из комплекса СК–2 № 325в с мечом типа 2а (рис. 11, 6–14 ) указывает на I в. до н.э. – I в. н.э. Горло и тулово этого сосуда раскрашены вертикальными полосами белой краски. Такой прием орнаментации характерен для керамики I–II в. н.э. В этом же погребении были найдены две бронзовые проволочные петельки с перевитым стержнем и маленькая бронзовая пряжка с заклепкой на рамке. Аналогичные предметы присутствуют среди многочисленного инвентаря в богатом комплексе СК–2 № 613з второй половины I – начала II в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2012, с. 153, 154, рис. 5, 19 , 22 , 25 ]. Пряжка такой же конструкции была встречена и в узко датирующемся по римской фибуле погребении Ел.–2 № 140/2013 второй четверти – середины I в. н.э. (см. выше обоснование его датировки). Принимая во внимание тип кувшина, погребение СК–2 № 325в, скорее всего, нужно отнести к I в. н.э.
Близкий кувшин со сливом и миска с острым выступающим венчиком сопутствовали кинжалу типа 3а в погребении СК–2 № 218з (рис. 14, 1–5 ). Подобные кувшины были встречены в погребениях СК–3 № 237, СК–3 № 392 вместе с лучковыми подвязными фибулами серии I, вариантов 2 и 3, и застежкой с завитком на конце приемника. Миска из погребения СК–2 № 218з находит многочисленные параллели в комплексах с кружками c выделенным в основании горлом. Таким образом, по типам сероглиняных сосудов погребение СК–2 № 218з можно датировать I – первой половиной II в. н.э.
К этому же периоду, скорее всего, относится и ограбленное в древности погребение СК–2 № 554з (рис. 16, 1–3 ), где, кроме такого же короткого кинжала типа 2а , сохранилась только бронзовая пряжка с железным язычком.
Из погребения СК–2 № 33в (рис. 12) с мечом типа 2а происходит сероглиняный кувшин с сильно стилизованной зооморфной ручкой. В погребении СП № 125 аналогичному кувшину сопутствовали меч с кольцевым на-вершием и другой инвентарь I в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2019а, с. 206, рис. 2]. Такие же кувшины были найдены в погребениях СК–2 № 273з и 630з вместе с лучковыми подвязными фибулами серии I, варианта 3. Еще один кувшин этой формы, но с ручкой, имитирующей бронзовый шарнир, – с лучковой подвязной фибулой этой же серии, варианта 2, – в погребении СК–2 № 284з. Эти находки дают нам основание датировать подобные кувшины, как и погребение СК–2 № 33в, I – первой половиной II в. н.э.
В комплексе Л–1 № 20/1981 (рис. 23, 1–5 ) вместе с кинжалом типа 1а найден сероглиняный кувшин с приземистым биконическим туловом и высоким цилиндрическим горлом. Кувшин такой же формы происходит из погребения СК–3 № 207, которое по стеклянному бальзамарию типа Isings 28b/AR 130.2 и лучковой подвязной фибуле серии I, варианта 3 ранее мы датировали второй половиной I – началом II в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2003, с. 114, 182, рис. 31, № 85; Marčenko, Limberis, 2008, S. 388, Taf. 168, Kat.-Nr. 161]. Принимая во внимание общепринятую широкую датировку фибул 3 варианта [Кропотов, 2010, с. 75], дату комплекса СК–3 № 207 (см. также датировку погребения Л–1 № 364), скорее всего, следует сузить до начала II в. н.э., а комплекс Л–1 № 20/1981 датировать первой половиной – серединой II в. н.э.
В погребениях СК–2 № 326в (рис. 16, 4–8 ) и СК–3 № 348 (рис. 7, 6–12 ) вместе с кинжалами типа 1а были найдены кружки практически одинаковой конической формы. Комплекс СК–3 № 348 по лучковой подвязной фибуле серии I, варианта 2 и браслету с шишечками на концах датируется второй половиной I – началом II в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2020, с. 427, рис. 2, 17 , 18 ]. Коническим кружкам в меотских погребениях сопутствуют фибулы типа «Авцисса» (СК–2 № 53в; ЕЛ–2 № 45/2013) с кнопкой на конце приемника и стеклянные баль-замарии (СК–3 № 216, СК–3 № 251) I в. н.э. [Marčenko, Limberis, 2008, S. 387, 388, Taf. 145, 169, Kat.-Nr. 140, 162]. Приведенные аналогии дают возможность датировать эти кружки, как и комплексы, в которых они встречаются, I – началом II в. н.э.
В комплексах Л–1 № 138/1981 с мечом типа 2а (рис. 21, 5–9 ) и № 4/1983 с мечом типа 3а (рис. 22, 1–4 ) присутствуют кружки с прямоугольной площадкой и выступом на ручке
(см. также погребения СК–2 № 35в и Л–1 № 289/1981 с железными бритвами и кружками этой формы). Погребения с такими кружками могут быть датированы по совместным находкам неорнаментированных зеркал-подвесок с умбоном в центре (СК–2 № 272з, 372з; Л–1, № 271/11981), широкое распространение, которых в Прикубанье приходится на I в. н.э. [Марченко, 1996, с. 23–25, рис. 5].
В погребении СК–2 № 329в (рис. 15, 6–11 ) с мечом типа 2а была найдена кружка с «мешковидным» туловом и отогнутым краем. Кружки этой формы встречены в комплексах Л–1 № 228/1981 с фибулой типа «Ав-цисса» и неорнаментированным зеркалом-подвеской с умбоном в центре [Marčenko, Limberis, 2008, S. 387, 388, Taf. 127, Kat.-Nr. 115], и в ЕЛ–2 № 164/2013 – с таким же зеркалом. Это позволяет датировать погребение СК–2 № 329 I в. н.э.
В погребении СК–3 № 504 с мечом типа 1а (рис. 10, 1–5 ) найдена кружка с овальным ту-ловом и коротким горлом, выделенным в основании валиком. Аналогичная кружка из упоминавшегося уже комплекса СК–3 № 13 с мечом типа 2б сопровождалась лучковой подвязной фибулой I серии, варианта 3, которые часто встречаются с кружками этой формы (СК–2 № 57в, 58в; СК–3 № 12, 18, 203, 290, 439, 373, 428, 494, 512 и др.). В других известных нам комплексах подобным кружкам сопутствовали фибулы I серии, варианта 2 (ЕЛ–2 № 103/2013; СК–3 № 233; СК–2 № 304в) и мелкие застежки с пластинчатой спинкой и завитком на конце приемника (СК–3 № 204, 203). Аналогии дают нам возможность датировать этот тип кружек, как и погребение СК–3 № 504, I – первой половиной II в. н.э.
В погребении Л–1 № 255/1981 (рис. 25, 5–8 ) вместе с такой кружкой и кинжалом типа 2а присутствовала часть фибулы с выпуклой пластинчатой спинкой, которая может относиться к одному из двух типов – с завитком или кнопкой на конце приемника, – что также позволяет датировать данный комплекс I – первой половиной II в. н.э.
Кружки с округло-биконическим туловом и широким коротким цилиндрическим горлом, выделенным в основании узким выступом или желобком, происходят из погребений СК–2 № 230з с кинжалом типа 1а (рис. 14, 6–12 ),
СК–3 № 255 с мечом типа 3а (рис. 8, 8–12 ) и СК–3 № 266 с кинжалом типа 2а (рис. 5, 7–14 ). Такие кружки широко представлены в меотс-ких памятниках совместно с фибулами разных типов: пластинчатыми с завитком на конце приемника (Л–1 № 255/1981, СК–2 № 145з, СК–3 № 245, 317), лучковыми подвязными I серии, варианта 2 (СК–2 № 134з, СК–3 № 14), варианта 3 (СК–3 № 36, 211, 446, 452), силь-нопрофилированными с бусинами и пластинчатой спинкой (СК–2 № 263, 285з, СК–3 № 2, 274, 478). Опираясь на хронологию комплексов с этими кружками, мы можем широко датировать погребения СК–2 № 230з и СК–3 № 255 I–II вв. н.э., возможно, и началом III в. н.э.
Уточнить дату погребения СК–3 № 266 (рис. 5, 7–10 ) позволяет прямая стратиграфия. Его частично перекрывало погребение № 265, в котором были найдены стеклянные канфа-ры типа Isings 28a/b и чаша Zarte Rippenschale аметистового стекла (рис. 5, 8 , 10 ). Данное погребение мы датировали второй – третьей четвертями I в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2003, с. 109, 113, 186; Marčenko, Limberis, 2008, S. 388, Taf. 172, Kat.-Nr. 165]. В связи с этим хронология комплекса № 266 может быть ограничена последней четвертью I – началом III в. н.э.
В погребении СК–3 № 315 (рис. 9, 9–11 ) вместе с мечом типа 3а найдена сероглиняная миска с сильно загнутым бортиком и слегка прогнутыми стенками, форма которой не характерна для меотской керамики, но часто встречается в центрально-предкавказских памятниках, где такие миски датируются I – началом II в. н.э. [Абрамова, 1993, с. 142, рис. 55, 3 ].
Погребения Л–1 № 33/1980 (рис. 20, 1–6 ) с мечом типа 1а (с ромбовидным в сечении перекрестием), Л–1 № 64/1980 (рис. 21, 1–4 ), СК–2 № 379з (рис. 15, 1–5 ), СК–3 № 294 (рис. 6, 1,2 ) с мечами типа 2а , Л–1 № 12/1980, Л–1 № 140/1981 (рис. 23, 6–10 ), Л–1 № 174/1981 (рис. 24, 1–3 ) с мечами и кинжалом типа 3а по сероглиняной меотской керамике можно датировать только широко – в пределах I–II вв. н.э.
В могильнике Воронежского городища № 3 в четырех погребениях (№ 7, 59, 172, 207), которые Н.В. Анфимов отнес к хронологической группе I–II вв. н.э., были найдены мечи типа 2 или 3 (определить форму рукояти по фотографиям из отчета нельзя) размерами от 83 до 100 см. Из погребения № 59 происходит также нож с кольцевым навершием [Анфимов, 1967, с. 36, 71; Анфимов, 1968, с. 67]. Такой же нож был встречен в комплексе СП № 98 I в. н.э. вместе с мечом с кольцевым навер-шием и сероглиняной керамикой этого времени [Лимберис, Марченко, 2019а, с. 207, рис. 1,15]. Еще один нож происходит из погребения СК–2 № 32в, которое было датировано нами I в. до н.э. [Лимберис, Марченко, 2020, с. 167]. Таким образом, ножи с кольцевым на-вершием в настоящее время нужно датировать в пределах I в. до н.э. – I в. н.э. Датировка же воронежского погребения № 59 может быть ограничена I в. н.э. Остальные погребения с мечами из Воронежского некрополя можно, вслед за Н.В. Анфимовым, датировать I–II вв. н.э.
В погребении № 2/1972 Пашковского могильника № 5 был найден меч типа 2б. В отчете Н.В. Анфимова это погребение датировано I–II вв. н.э. [Анфимов, 1973, с. 14, рис. на стр. 17].
Катакомба № 1, исследованная на Пашковском могильнике № 2 (рис. 31), кроме меча типа 3б , содержала разнообразный и весьма информативный инвентарь, характерный для представителя меото-сарматского всаднического сословия: кинжал, наконечник копья, серп, удила с колесовидными псалиями, детали портупейного снаряжения, обувные железные пряжки и бронзовую фибулу с фигурной обмоткой. Фибула, которая является опорной находкой для датировки катакомбы, относится к варианту 4 серии I, широко распространенному в позднесарматское время на юге Восточной Европы [Амброз, 1966, с. 50, 51; Кропотов, 2010, с. 77, 80]. Анализ инвентаря позволил определить хронологический диапазон погребения в пределах конца II – середины III в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2015, с. 131–133, рис. 1, 2].
Этим же периодом по находке аналогичной фибулы датируется и погребение Л–1 № 27/1983 с мечом типа 2а (рис. 20, 7–11 ).
В богатом катакомбном погребении СП № 161 (рис. 28) вместе с мечом типа 2а присутствовал многочисленный инвентарь: наконечник копья, удила с колесовидными псалия-ми, серп, бронзовые и серебряные пряжки и другие детали портупейного набора, серебряные гривна, браслет и проч. Уникальной находкой является железный умбон от щита, вероятно, представляющий собой модификацию западноевропейских типов таких изделий. Хронология комплекса, опирающаяся на совокупные датировки предметов инвентаря, определяется серединой III в. н.э. [Лимберис, Марченко, 2013, с. 106–113].
В погребении СП № 104, кроме меча типа 3а (рис. 3, 5 ), не было другого инвентаря, поэтому придется удовлетвориться общей хронологией мечей без металлического навер-шия (I – середина III в. н.э.).
Определенной закономерности в положении мечей в погребении не прослеживается. Чаще меч располагался вдоль левой ноги или руки, реже справа. В ряде случаев меч лежал острием в сторону черепа (Л–1 № 227/1981 г., СК–2 № 270, УЛ–2 № 81/1938 г.). Иногда меч укладывался на туловище слева (СК–2 № 483з) или справа (СК–2 № 379з). В погребениях Л–1 № 64/1981 г. и СК–3 № 511 мечи были преднамеренно согнуты.
В погребениях меотских «всадников», которые сопровождались захоронениями лошадей или только наборами конской узды, в основном были встречены длинные мечи (СК–3 № 315, 338, 347, 511; Пашк.–2 № 1; СП № 161; СК–2 № 33в, 613з; ЕЛ–2 № 13), и лишь в захоронениях СК–3 № 504 и Л–1 № 138/1981 – короткие. Кинжалы встречены, главным образом, в погребениях без лошадей или узды. Единственный комплекс, где сочетались меч (тип 1а ) и кинжал (тип 3а ) – это богатое погребение всадника СК–2 613з.
В некоторых погребениях рядом с рукоятями или клинками мечей лежали бусины из камня (Л–1 № 12/1981, СК–2 № 325в, Пашк.–2 № 1) или янтаря (Л–1 № 377/1981, СП № 161/2003), а также плоские костяные «ворворки» – округлые или прямоугольные (Л–1 № 33/1980, СК–2 № 35в, УЛ–2 № 81/1938).
Н.В. Анфимов отмечал, что меч из комплекса УЛ-2 № 81/1938 имел полусферическое костяное навершие, изготовленное из головки бедренной кости животного [Анфимов, 1951, с. 197, рис. 17, 19 ]. Диаметр этого изделия – менее 2 см. Трудно представить навер-шие таких размеров. Очевидно, этот предмет использовался как деталь портупеи.
Дисковидная бусина (диаметр – 2,5 см) из меловой породы лежала на мече в катакомбе № 1 Пашковского могильника № 2 рядом с маленькой стеклянной бусиной и бронзовой портупейной пряжкой. Местоположение и размеры меловой бусины вряд ли позволяют рассматривать ее как навершие [Лимберис, Марченко, 2015, с. 132, рис. 2, 1–3 ].
В погребении СП № 161/2003 крупная янтарная биконическая бусина (диаметр – 4,5 см) была найдена под правым крылом таза (примерно у середины клинка меча) и, скорее всего, также имеет отношение к портупейному набору, связанному с мечом [Лимберис, Марченко, 2013, с. 112].
По мнению С.И. Безуглова, крупные бусины при длинных сарматских мечах служили деталями застежек портупейных ремней и фиксаторами ножен [Безуглов, 2000, с. 172, 177–178]. А.В. Иванов считает, что бусины, расположенные у клинков мечей, являлись навершиями, а нахождение их не у верхнего конца рукоятки свидетельствует о ритуальном умерщвлении меча [Иванов, 2008, с. 76–77]. В качестве аргумента своей гипотезы автор указывает на находку в погребении № 12 могильника городища № 1 хут. Ленина халцедоновой бусины [Иванов, 2008, с. 79]. Но малый диаметр (2,5 см) этой бусины вряд ли позволяет считать ее навершием. Местоположение бусины рядом с рукоятью меча, скорее, свидетельствует о том, что она имеет отношение к портупейному набору. Второй пример, который приводит А.В. Иванов, ссылаясь на находку в погребении СК–2 35в «каменного полусферического навершия» [Иванов, 2008, с. 78], также противоречит действительности. Здесь следует уточнить, что это не каменное и не полусферическое изделие, а костяная квадратная «ворворка» (рис. 13, 2 ). Как уже говорилось, такие изделия встречаются не только с мечами без металлического навершия, но и с мечами с кольцевидными навершиями.
Если говорить о преднамеренном умерщвлении мечей, то в связи с этим обрядом стоит рассматривать лишь случаи положения в погребения преднамеренно согнутых клинков (Л–1 № 64/1980, СК–3 № 511). Что касается собственно наверший, пока нам известен всего один достоверный пример из погре- бения СК–3 № 511, где расколотое плоское халцедоновое навершие диаметром 5,9 см лежало у нижней части клинка (рис. 10,6,7).
В погребениях, сопровождавшихся бусинами и «ворворками» железные скобы на мечах отсутствовали. В таких случаях, отмеченных для сарматских мечей, С.И. Безуглов гипотетично допускает наличие на ножнах деревянных скоб [Безуглов, 2000, с. 178]. Наличие же металлических скоб было зафиксировано только в погребении СК–2 613з (рис. 19, 2 , 3 ). К деревянным ножнам меча на расстоянии 52 см от конца рукояти крепилась пластинчатая железная скоба. Вторая скоба, согнутая из узкой пластины с заостренными концами, была найдена под мечом, ближе к перекрестию [Лимберис, Марченко, 2012, с. 147, 152, рис. 4, 2 , 3 ]. В погребении УЛ–2 № 81/1938 на поясничных позвонках человека был найден железный крючок, который, по предположению Н.В. Анфимова, мог служить для подвешивания меча [Анфимов, 1951, с. 197].
Хронологическая атрибуция погребений с мечами без металлического навершия показывает, что это клинковое оружие появля- ется у меотов правобережья Кубани в начале I в. н.э. и бытует вплоть до середины III в. н.э. Причем к третьему столетию пока можно отнести всего 3 экземпляра. Как и в сарматских погребениях Нижнего Поволжья, в меот-ских комплексах мечи и кинжалы всех типов синхронны [Кривошеев, 2007, с. 66, 67]. Но, в отличие от сарматских памятников, где не отмечается преобладание какого-то одного типа мечей, у меотов явное преимущество имели клинки типа 2 (табл. 1).
Как уже отмечалось, мечи без металлического навершия у сармат появляются значительно раньше, чем у меотов, – во II–I вв. до н.э. Однако меотские воины заимствовали этот вид оружия у кочевников лишь в начале I в. н.э. Меоты быстро наладили собственное производство мечей по сарматским образцам, так как имели собственную высокоразвитую металлообрабатывающую базу, и могли обеспечивать не только свои потребности, но и поставлять оружие кочевникам. Меч с бронзовым перекрестием из сарматского погребения СК–2 № 613з, по всей видимости, имеет восточное происхождение.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Таблица 1. Мечи и кинжалы без металлического навершия (размерные характеристики и датировка)
Table 1. Swords and daggers without metal pommel (dimensional characteristics and dating)
|
№ п/п |
№ погр. |
Длина меча (см) |
Длина клинка |
Ширина клинка |
Длина рукояти |
Ширина рукояти |
Тип |
Датировка |
|||||
|
I в. н.э. |
II в. н.э. |
III в. н.э. |
|||||||||||
|
1/2 |
2/2 |
1/2 |
2/2 |
1/2 |
2/2 |
||||||||
|
Могильник Старокорсунского городища № 3 |
|||||||||||||
|
1 |
4/1986 |
39,4 |
33,4 |
– |
6 |
2,8 |
3а |
||||||
|
2 |
13/1986 |
86,2 |
72,7 |
3,3 |
13,5 |
– |
2б |
— |
|||||
|
3 |
64/1986 |
25,9 |
19,4 |
2,4 |
6,5 |
1,7 |
3а |
||||||
|
4 |
255/1989 |
84,5 * ≈ 87 |
74,8 * ≈ 77,3 |
4 |
9,7 |
– |
3а |
||||||
|
_________________________________________________________________________________________________________________________________1 |
|||||||||||||
|
5 |
266/1989 |
22,5 |
19,2 |
2,8 |
3,3 |
– |
2а |
||||||
|
6 |
270/1989 |
81 |
– |
4 |
– |
– |
– |
||||||
|
7 |
294/1989 |
88,6 |
80,5 |
4,5 |
8,1 |
– |
2а |
||||||
|
8 |
315/1989 |
87,8 |
76,1 |
5,7 |
11,7 |
– |
3а |
||||||
|
9 |
338/1989 |
93,4 |
77,2 |
4,4 |
16,2 |
– |
3а |
— |
|||||
|
10 |
347/1989 |
84,6 |
77,6 |
4,5 |
7 |
– |
3а |
____j |
|||||
|
11 |
348/1989 |
33,5 |
26,9 |
3,2 |
6,6 |
– |
1а |
______Li |
|||||
|
12 |
504/1990 |
48,1 |
40,8 |
4 |
7,3 |
– |
1а |
||||||
|
13 |
511/1990 |
108 |
93,5 |
3,2 |
14,5 |
– |
2б |
||||||
|
Могильник Воронежского городища № 3 |
|||||||||||||
|
14 |
7/1966 |
100 |
– |
– |
– |
– |
2/3 |
' ' ' 1 |
|||||
|
15 |
59/1966 |
95 |
– |
– |
– |
– |
2/3 |
--- |
|||||
|
16 |
172/1967 |
100 |
– |
– |
– |
– |
2/3 |
||||||
|
17 |
207/1967 |
83 |
– |
– |
– |
– |
2/3 |
||||||
|
Могильник Пашковского городища № 5 |
|||||||||||||
|
18 |
2/1972 |
100 |
– |
– |
– |
– |
2б 1 |
||||||
|
Могильник № 2 Пашковского городища № 1 |
|||||||||||||
|
19 1 |
1/2012 |
103,2 |
82,2 |
4,6 1 |
21 1 |
1,5 1 |
3б 1 |
||||||
|
Могильник городища № 1 хут. Ленина |
|||||||||||||
|
20 |
33/1980 |
69,2 |
58,1 |
3,4 |
11,1 |
1,5 |
1а |
||||||
|
21 |
64/1980 |
67 |
59 |
3,1 |
8 |
1,2 |
2а |
||||||
|
22 |
12/1981 |
71,5 |
62 |
5,5 |
9,5 |
2,1 |
3а |
||||||
|
23 |
20/1981 |
32 * ≈ 34,5 |
25,5 * ≈ 28 |
3,9 |
6,5 * |
1,9 |
1а |
— |
■ |
||||
|
24 |
138/1981 |
56 * |
53 * |
5,1 |
3 * |
– |
2а |
||||||
|
25 |
140/1981 |
34,5 * |
32,5 * |
4 |
2 * |
– |
3а |
||||||
|
26 |
174/1981 |
37,5 |
30 |
3,5 |
7,5 |
1,5 |
3а |
||||||
|
27 |
227/1981 |
63,5 * ≈ 66,2 |
56,5 * ≈ 59,2 |
4 |
7 * |
– |
2б |
||||||
|
28 |
255/1981 |
39 |
36,2 |
3,5 |
2,8 |
– |
2а |
||||||
|
29 |
289/1981 |
35,5 |
30 |
4 |
5,5 |
– |
2а |
||||||
|
30 |
306/1981 |
69 |
60 |
3 |
6 * |
– |
2а |
п |
|||||
|
31 |
359/1981 |
49,5 * ≈ 53,5 |
41,5 * ≈ 45,5 |
3 |
8 |
– |
1а |
||||||
|
32 |
364/1981 |
18 * |
11,5 * |
3,3 |
6,5 * |
1,3 |
2а |
■ |
|||||
|
33 |
377/1981 |
35,5 * |
25,7 * |
3,3 |
7,8 * |
– |
2а |
||||||
|
34 |
392/1981 |
≈ 77 |
≈ 75,1 |
2,8 |
1,9 * |
– |
2/3 |
||||||
|
35 |
419/1981 |
39 * |
38 * |
3,8 |
1 * |
– |
2а |
lL-J |
|||||
|
36 |
4/1983 |
40 * ≈ 47,6 |
30 * ≈ 38,6 |
3,7 |
9 |
1,9 |
3а |
||||||
|
37 |
27/1983 |
63 * ≈ 73 |
50,5 * ≈ 60,5 |
4,5 |
10,5 * ≈ 12,5 |
– |
2а |
E |
|||||
Примечание. * – сохранившаяся длина; ≈ – восстановленная длина.
Note. * – preserved length; ≈ – recovered length.
Окончание таблицы 1
End of Table 1
|
№ п/п |
№ погр. |
Длина меча (см) |
Длина клинка |
Ширина клинка |
Длина рукояти |
Ширина рукояти |
Тип |
Датировка |
|||||
|
I в. н.э. |
II в. н.э. |
III в. н.э. |
|||||||||||
|
1/2 |
2/2 |
1/2 |
2/2 |
1/2 |
2/2 |
||||||||
|
Могильник городища «Спорное» |
|||||||||||||
|
38 |
104/2003 |
84 * ≈ 90 |
78,8 * ≈ 84,8 |
5,2 |
6,8 * |
2,4 |
3а |
||||||
|
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1 |
|||||||||||||
|
39 |
161/2003 |
95,4 |
82 |
4,4 |
13,4 |
2,6 |
2а |
ch |
|||||
|
Могильник Старокорсунского городища № 2 |
|||||||||||||
|
40 |
33в |
74,6 * ≈ 76,8 |
66,6 * ≈ 68,8 |
3,8 |
8 |
1,6 |
2а |
||||||
|
41 |
35в |
63 |
52,5 |
2,8 |
10,5 |
1,35 |
2а |
— |
|||||
|
42 |
325в |
73,5 |
66,2 |
3 |
7,3 |
1,6 |
2а |
||||||
|
43 |
326в |
39,6 |
30,5 |
3,3 |
9,1 |
1,0 |
1а |
1 |
|||||
|
44 |
329в |
67 |
56,5 |
3 |
10,5 |
– |
2а |
— |
|||||
|
45 |
218з |
32,2 |
25,1 |
3,1 |
7,1 |
– |
3а |
||||||
|
46 |
230з |
31 |
23,6 |
3 |
7,4 |
– |
1а |
j |
|||||
|
47 |
379з |
73 * |
67 |
3,8 |
6 * |
– |
2а |
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|||||
|
48 |
482з |
61,4 |
51,8 |
3,6 |
9,6 |
– |
2а |
||||||
|
49 |
554з |
28,7 |
25,6 |
3 |
3,1 * |
– |
2а |
||||||
|
50 |
613з |
98,6 |
85,8 |
4,4 |
12,8 |
2,8 |
1а |
||||||
|
Могильник Елизаветинского городища № 2 |
|||||||||||||
|
51 |
31/1978 |
≈ 80 |
≈ 65 |
≈ 5,1 |
≈ 11 |
– |
1а |
||||||
|
11 |
|||||||||||||
|
52 |
93/1978 |
99,3 |
86,8 |
3,5 |
12,5 |
– |
1а |
||||||
|
53 |
13/2013 |
98 |
79 |
4 |
19 |
– |
3б |
||||||
|
54 |
140/2013 |
91 |
74 |
4 |
17 |
– |
3б |
||||||
|
Могильник Усть-Лабинского городища № 2 |
|||||||||||||
|
55 |
13/1931 |
– |
– |
– |
– |
– |
2/3 |
||||||
|
56 |
81/1938 |
76 |
60 |
4 |
16 |
– |
3б |
||||||
|
57 |
2/1944 |
– |
– |
– |
– |
– |
2/3 |
||||||
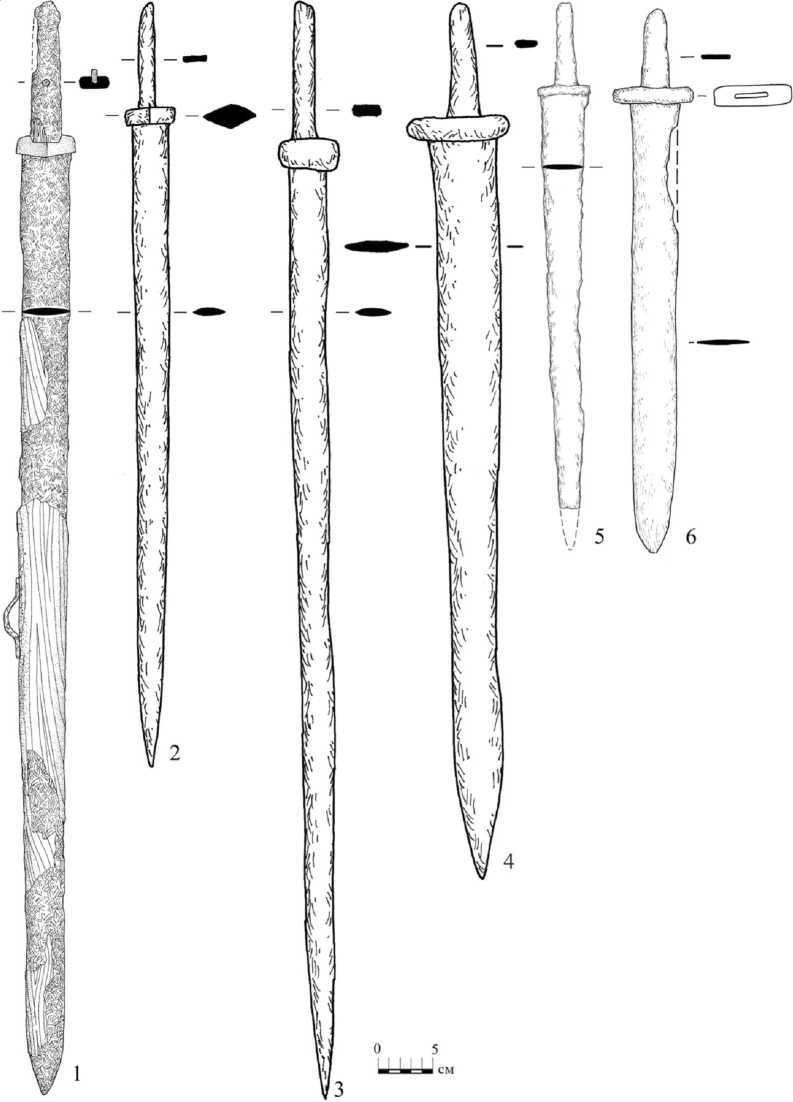
Рис. 1. Меотские мечи без металлического навершия (тип 1):
1 – СК–2 № 613з; 2 – Л–1 № 33/1980; 3 – ЕЛ–2 № 93/1978;
4 – ЕЛ–2 № 31/1978; 5 – Л–1 № 359/1981; 6 – СК–3 № 504
Fig. 1. Maeotian swords without the metal top (type 1):
1 – Starokorsunskaya-2, No. 613з; 2 – Lenin-1, No. 33/1980; 3 – Elisavetinskaya-2, No. 93/1978;
4 – Elisavetinskaya-2, No. 31/1978; 5 – Lenin-1, No. 359/1981; 6 – Starokorsunskaya-3, No. 504
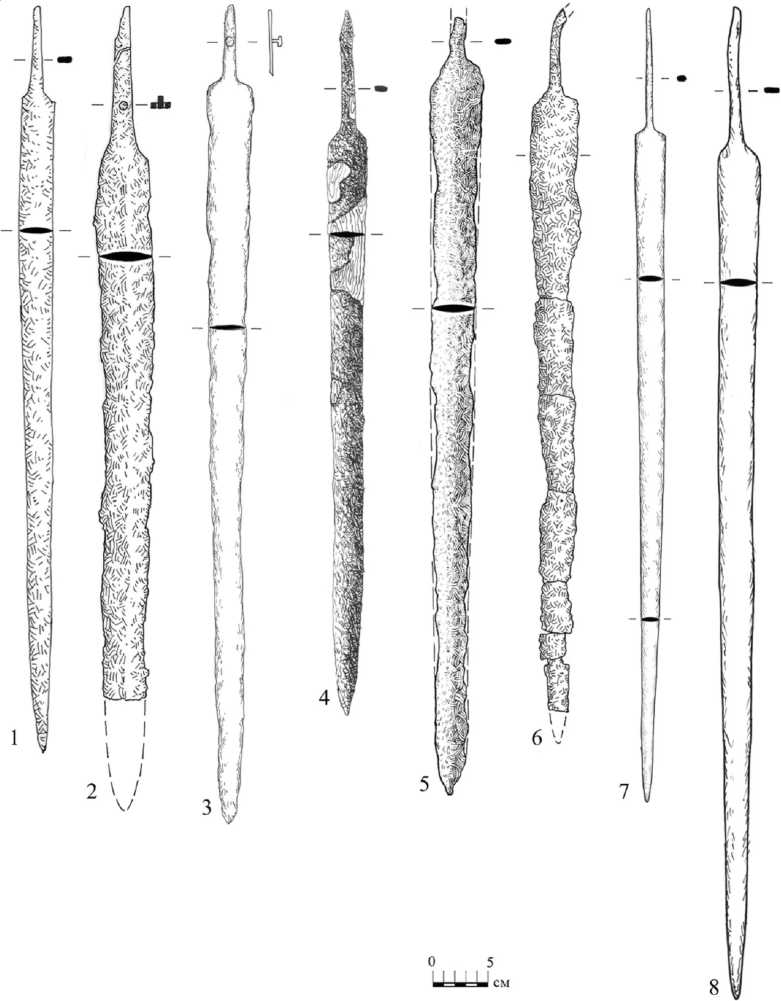
Рис. 2. Меотские мечи без металлического навершия (тип 2)
Вариант «а»: 1 – Л–1 № 64/1980; 2 – Л–1 № 27/1983; 3 – СК–3 № 294; 4 – СК–2 № 35в; 5 – СК–2 № 379з.
Вариант «б»: 6 – Л–1 № 227; 7 – СК–3 № 13; 8 – СК–3 № 511
Fig. 2. Maeotian swords without the metal top (type 2)
Variant “a”: 1 – Lenin-1, No. 64/1980; 2 – Lenin-1, No. 27/1983; 3 – Starokorsunskaya-3, No. 294;
4 – Starokorsunskaya-2, No. 35в; 5 – Starokorsunskaya-2, No. 379з.
Variant “б”: 6 – Lenin-1, No. 227; 7 – Starokorsunskaya-3, No. 13; 8 – Starokorsunskaya-3, No. 511
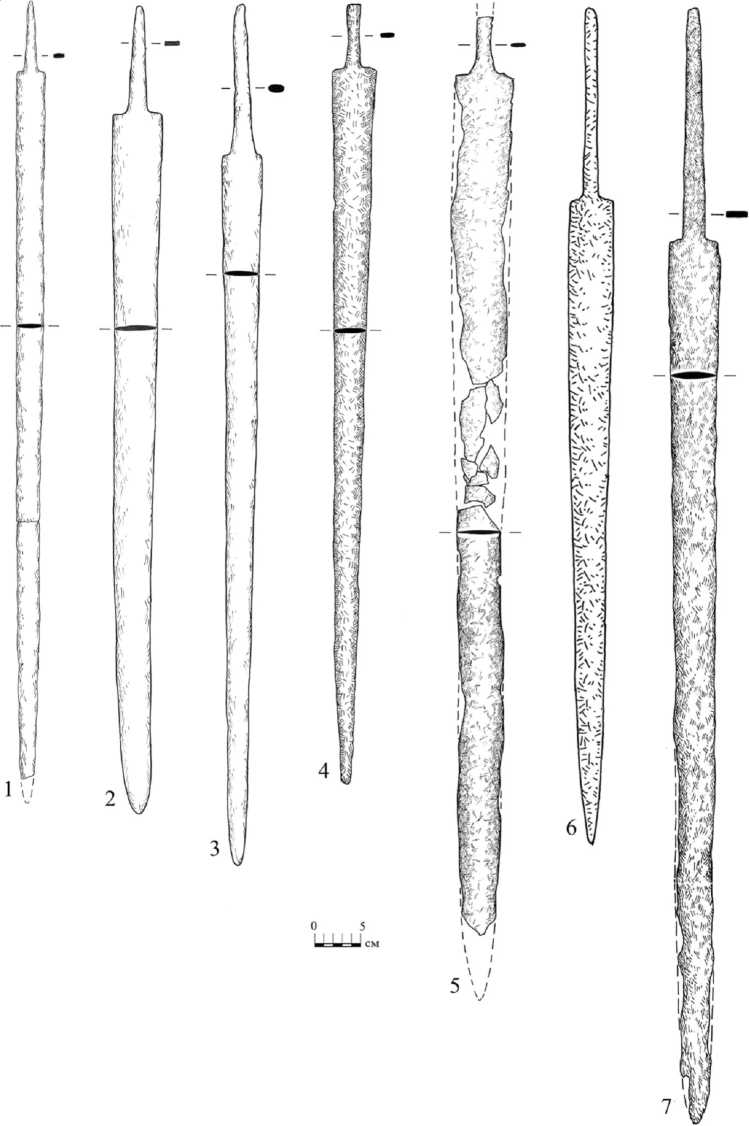
Рис. 3. Меотские мечи без металлического навершия (тип 3)
Вариант «а»: 1 – СК–3 № 255; 2 – СК–3 № 315; 3 – СК–3 № 338; 4 – СК–3 № 347; 5 – СП № 104.
Вариант «б»: 6 – УЛ–2 № 81/1938; 7 – Пашк.–2 № 1
Fig. 3. Maeotian swords without the metal top (type 3)
Variant “a”: 1 – Starokorsunskaya-3, No. 255; 2 – Starokorsunskaya-3, No. 315; 3 – Starokorsunskaya-3, No. 338;
4 – Starokorsunskaya-3, No. 347; 5 – Spornoye, No. 104.
Variant “б”: 6 – Us’t-Labinsk-2, No. 81/1938; 7 – Pashkovskaya-2, No. 1
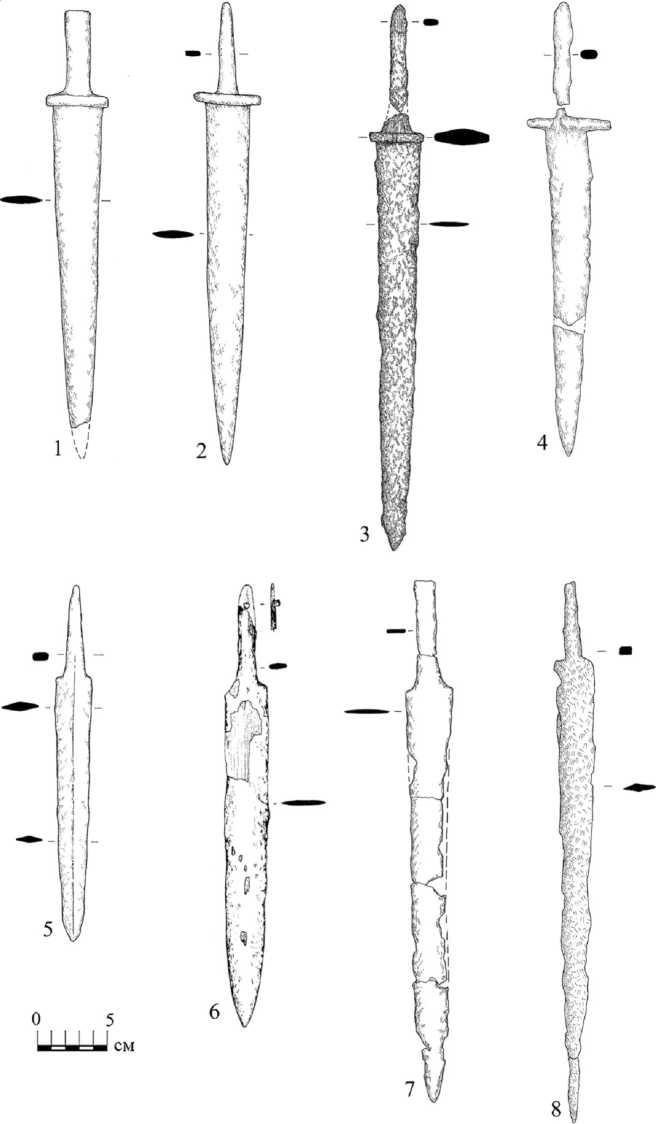
Рис. 4. Меотские кинжалы без металлического навершия
Тип 1: 1 – Л–1 № 20/1980; 2 – СК–3 № 348; 3 – СК–2 № 326в; 4 – СК–2 230з.
Тип 3: 5 – СК–3 № 64; 6 – СК–2 218з; 7 – Л–1 № 184/1981; 8 – СК–3 № 4
Fig. 4. Maeotian daggers without the metal top
Type 1: 1 – Lenin-1, No. 20/1980; 2 – Starokorsunskaya-3, No. 348;
3 – Starokorsunskaya-2, No. 326в; 4 – Starokorsunskaya-2, No. 230з.
Type 3: 5 – Starokorsunskaya-3, No. 64; 6 – Starokorsunskaya-2, No. 218з;
7 – Lenin-1, No. 184/1981; 8 – Starokorsunskaya-3, No. 4
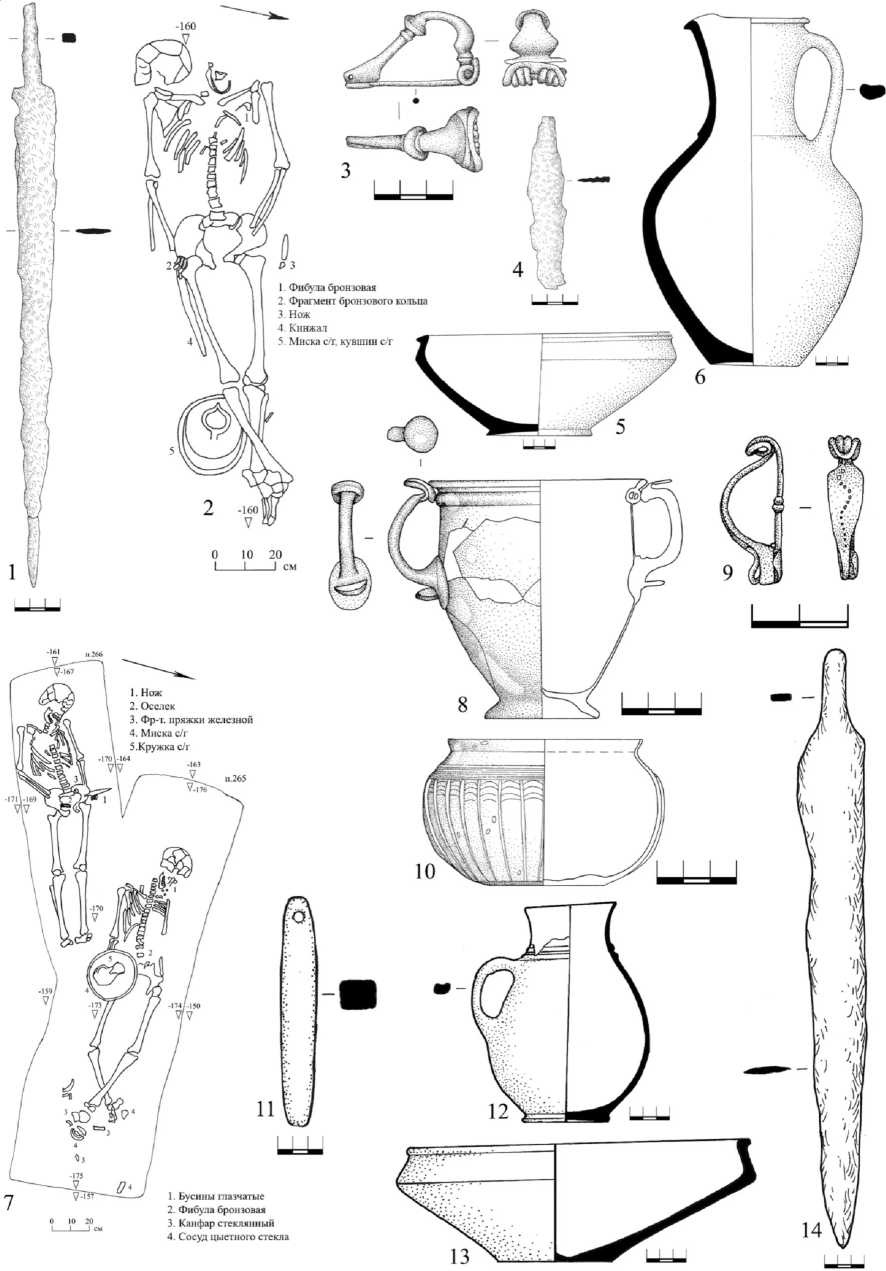
Рис. 5. Могильник Старокорсунского городища № 3:
1–6 – погребение № 4; 7–10 – погребение № 265; 11–14 погребение № 266
Fig. 5. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 3:
1–6 – burial No. 4; 7–10 – burial No. 265; 11–14 – burial No. 266
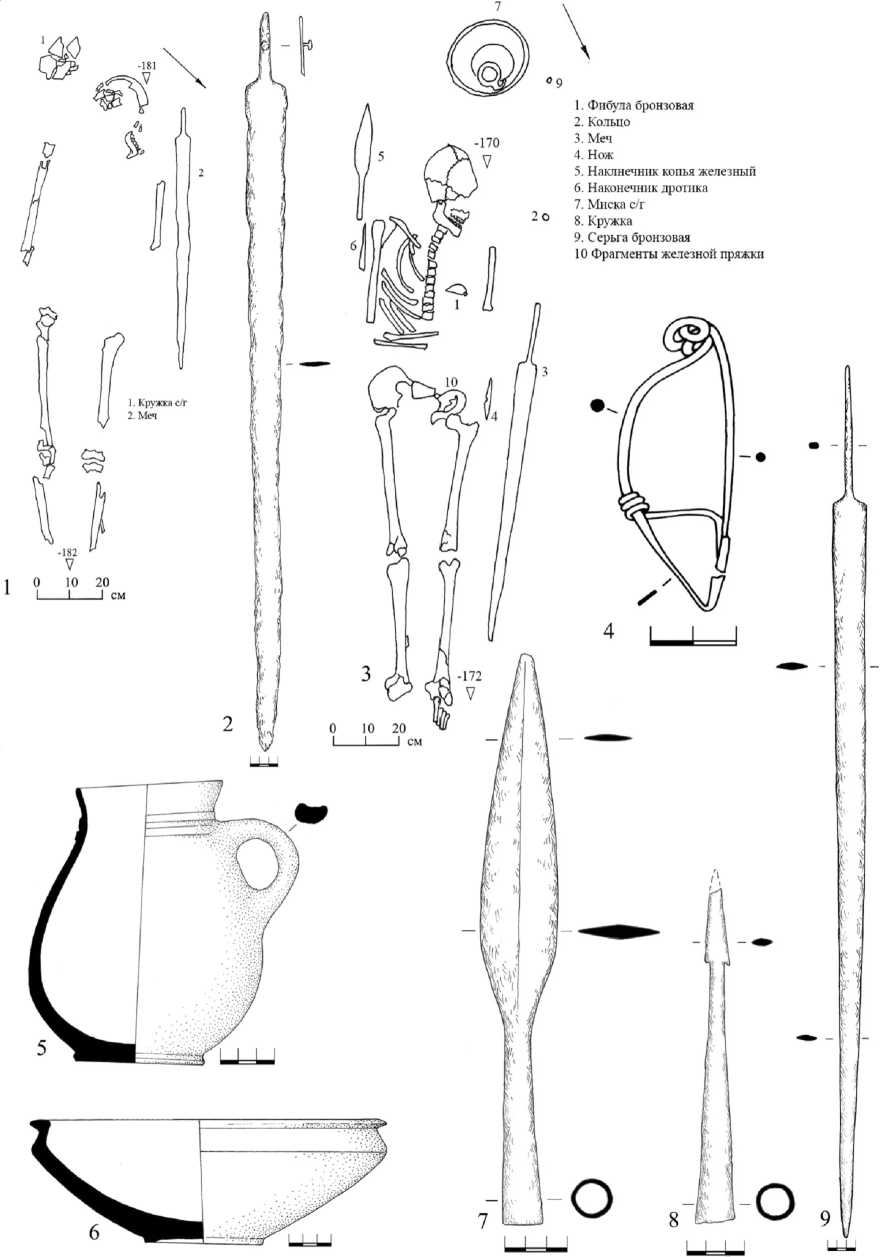
Рис. 6. Могильник Старокорсунского городища № 3:
1–2 – погребение № 294; 3–9 – погребение № 13
Fig. 6. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 3:
1–2 – burial No. 294; 3–9 – burial No. 13
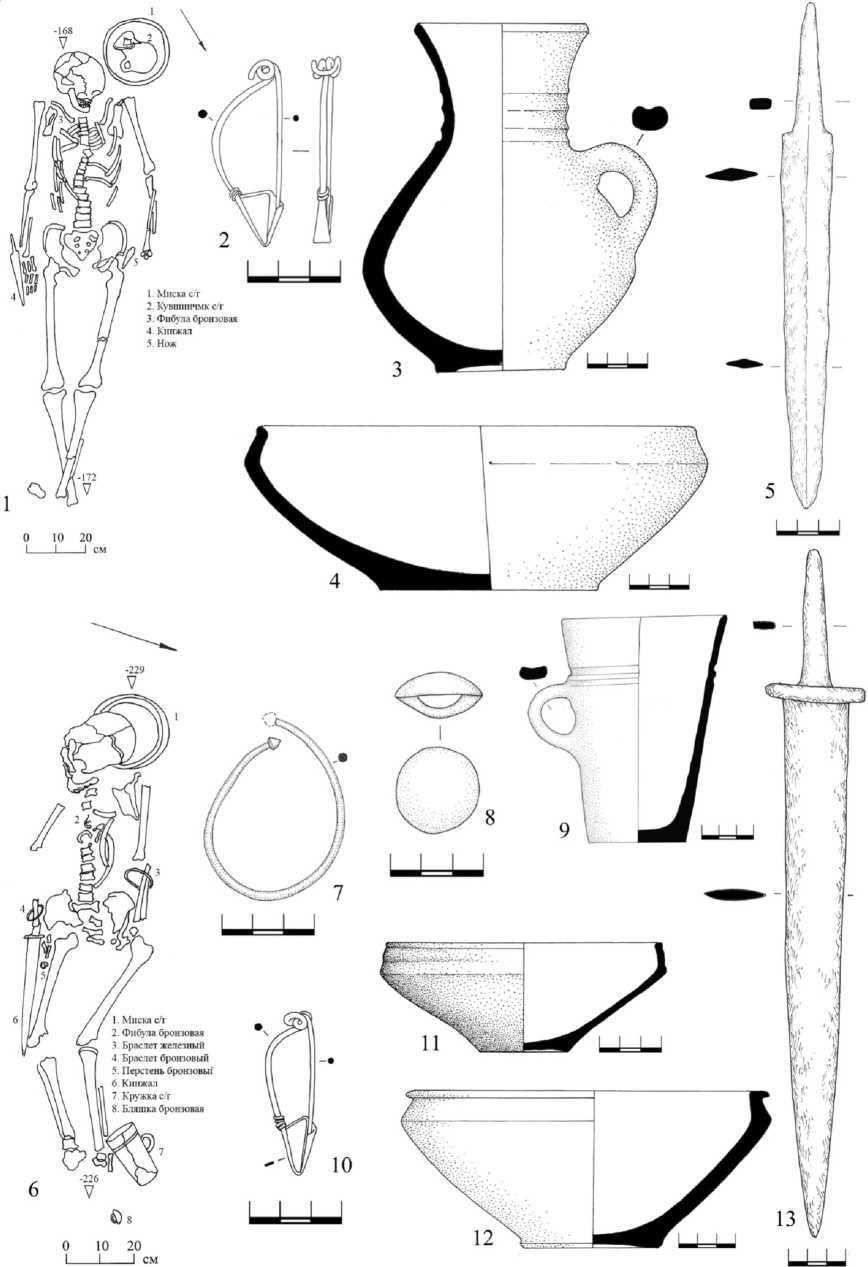
Рис. 7. Могильник Старокорсунского городища № 3:
1–5 – погребение № 64; 6–13 – погребение № 348
Fig. 7. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 3:
1–5 – burial No. 64; 6–13 – burial No. 348
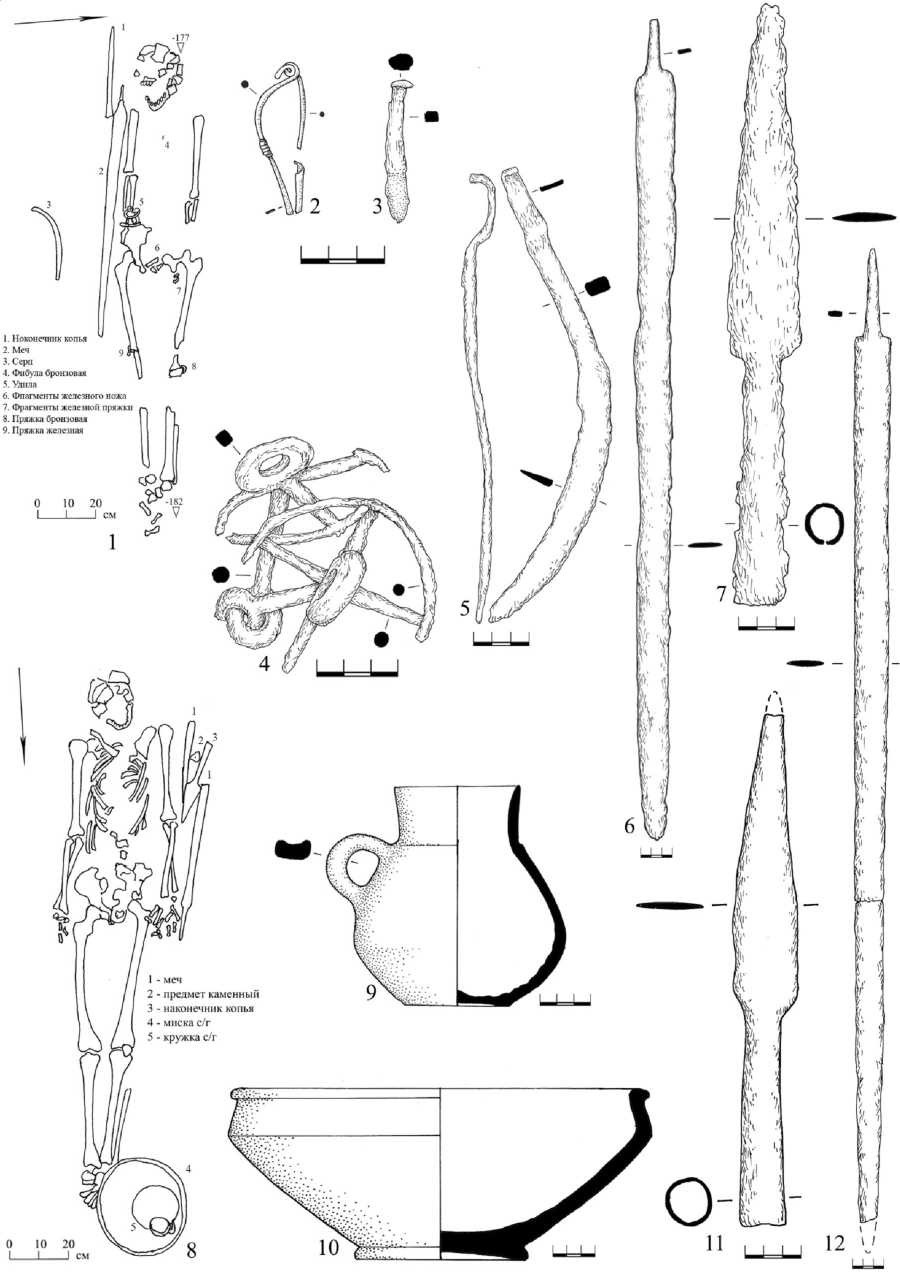
Рис. 8. Могильник Старокорсунского городища № 3: 1–7 – погребение № 270; 8–12 – погребение № 255 Fig. 8. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 3: 1–7 – burial No. 270; 8–12 – burial No. 255
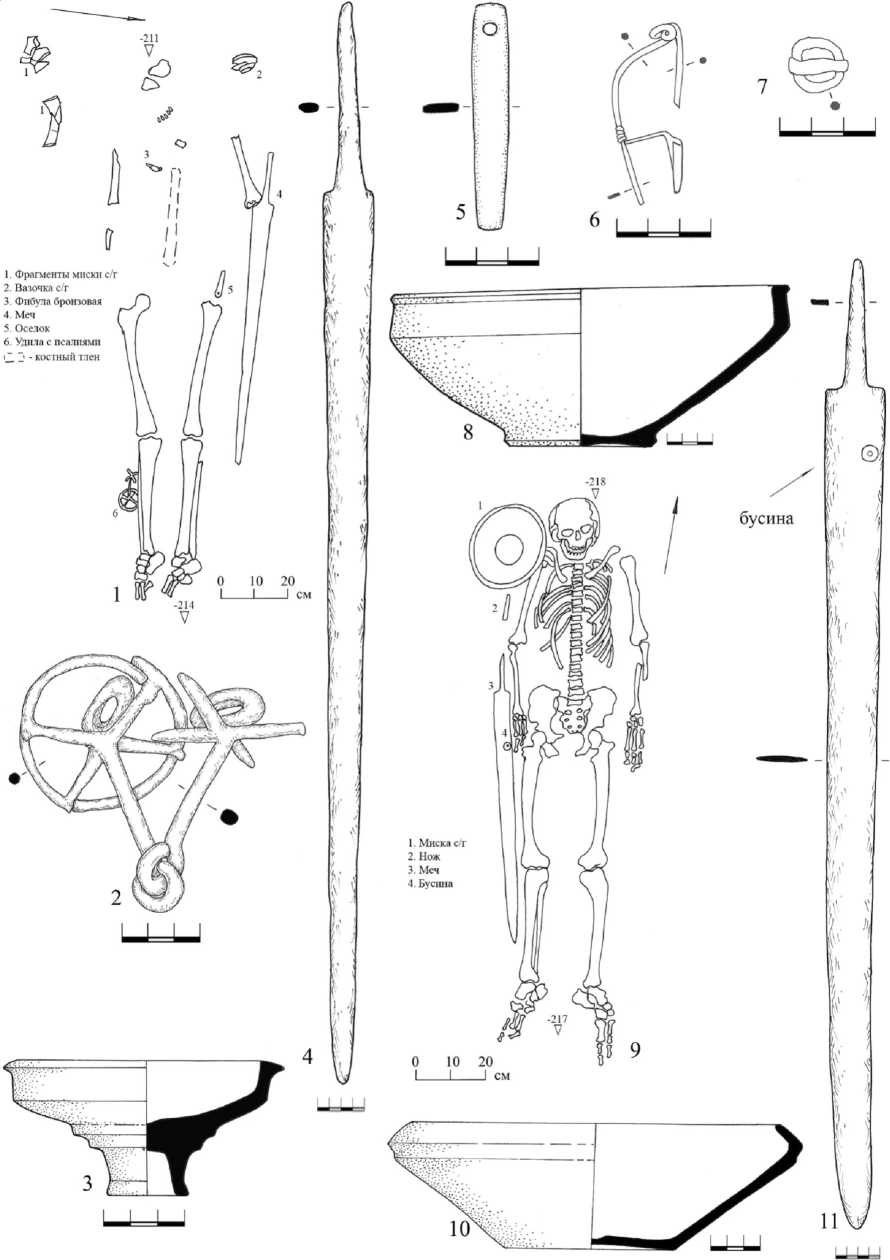
Рис. 9. Могильник Старокорсунского городища № 3:
1–8 – погребение № 338; 9–11 – погребение № 315
Fig. 9. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 3:
1–8 – burial No. 338 ; 9–11 – burial No. 315
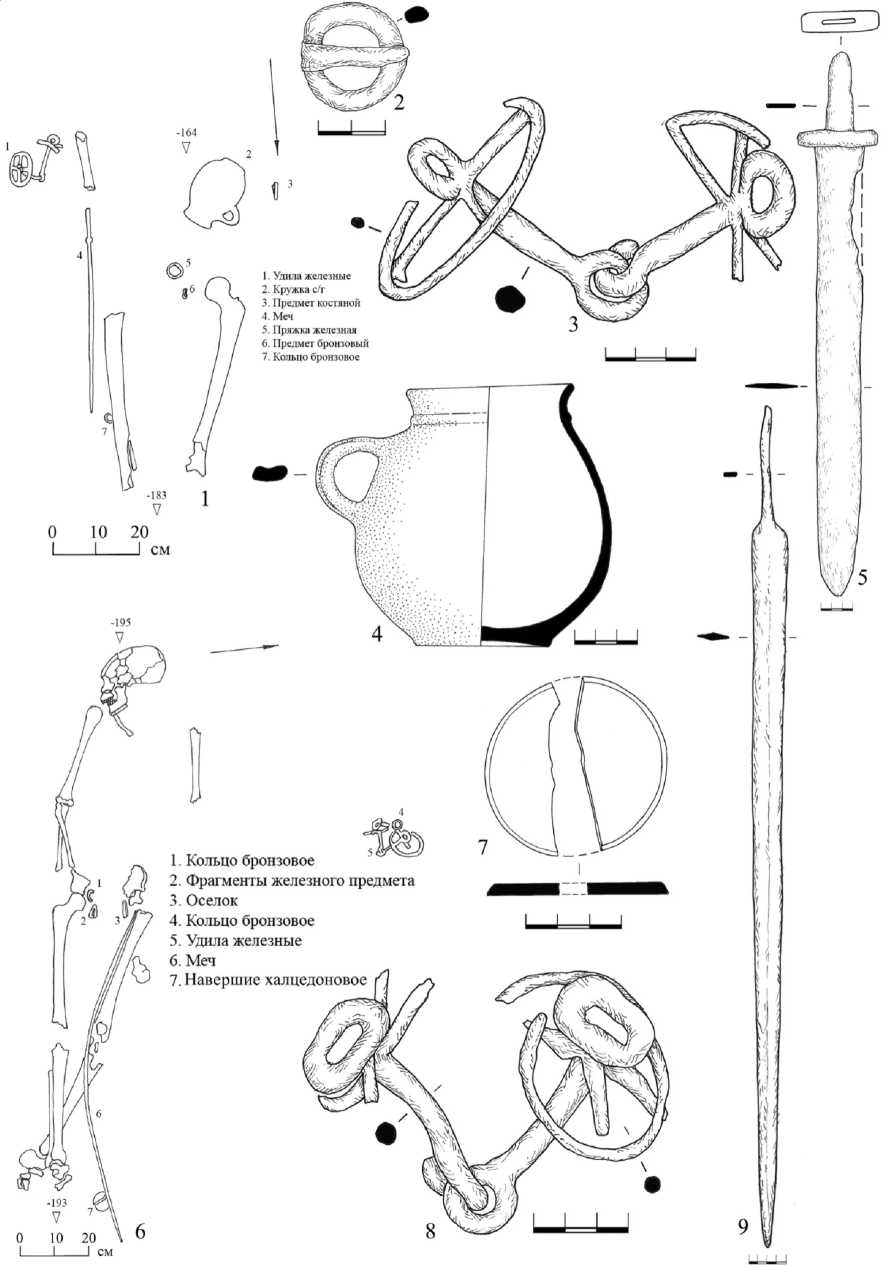
Рис. 10. Могильник Старокорсунского городища № 3:
1–5 – погребение № 504; 6–9 – погребение № 511
Fig. 10. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 3:
1–5 – burial No. 504; 6–9 – burial No. 511
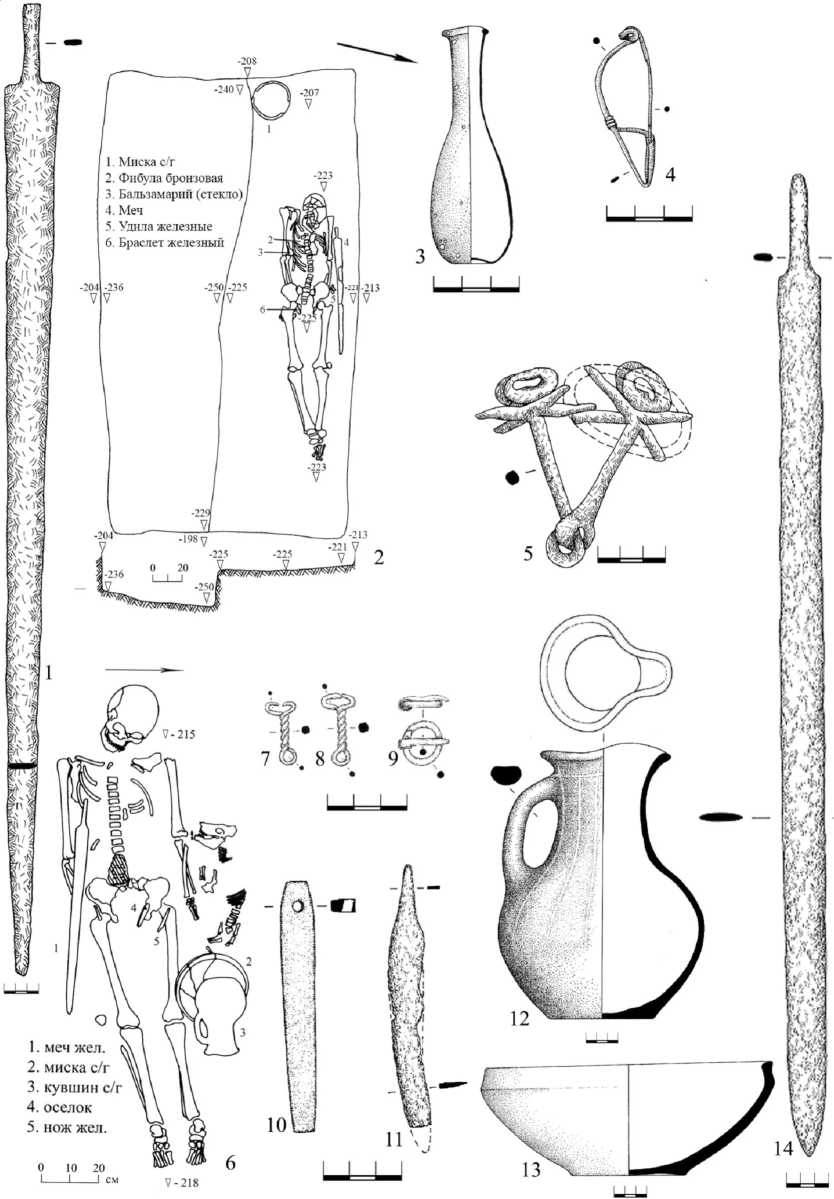
Рис. 11:
1–5 – Могильник Старокорсунского городища № 3, погребение № 347;
6–14 – Могильник Старокорсунского городища № 2, погребение № 325в
Fig. 11:
1–5 – Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 3, burial No. 347;
6–14 – Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 2, burial No. 325в
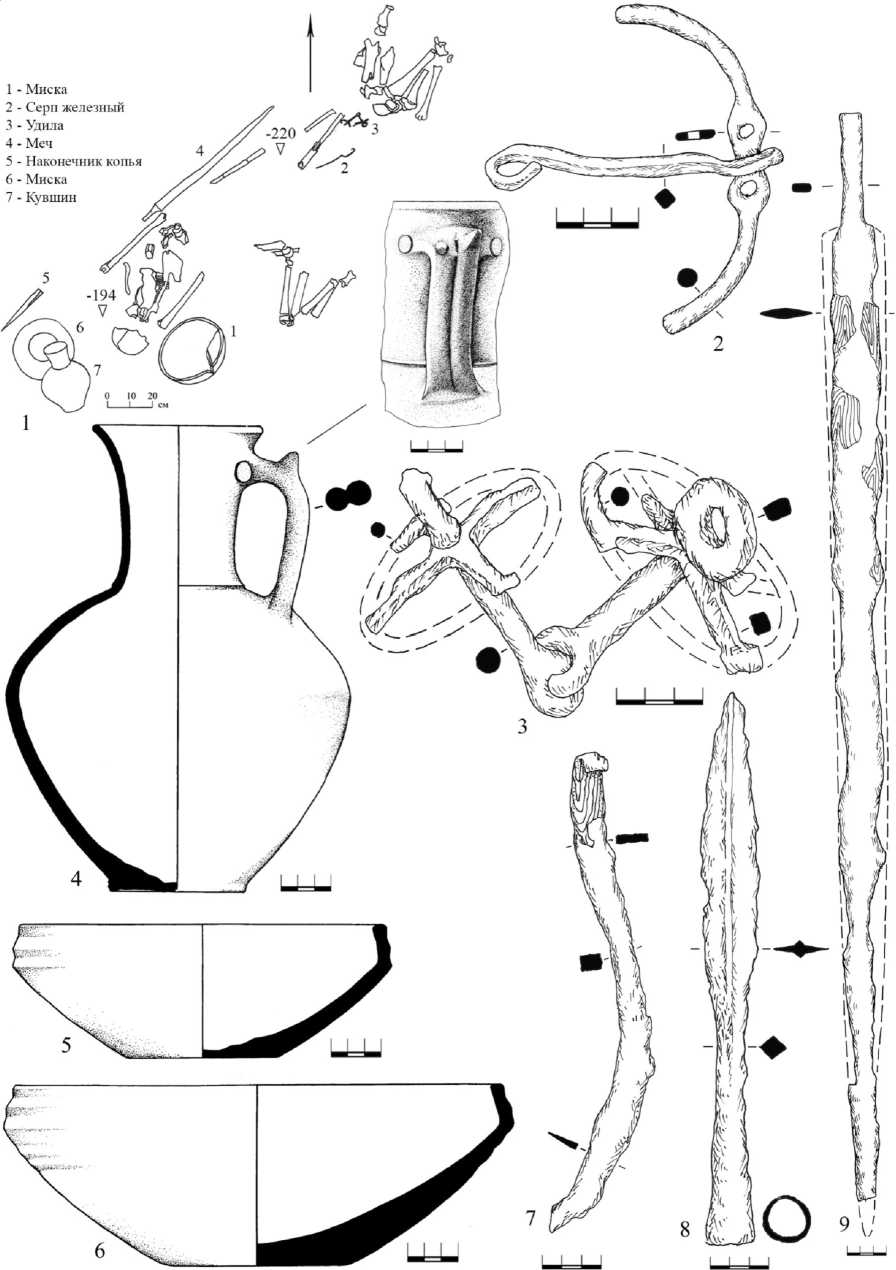
Рис. 12. Могильник Старокорсунского городища № 2, погребение № 33в
Fig. 12. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 2, burial No. 33в
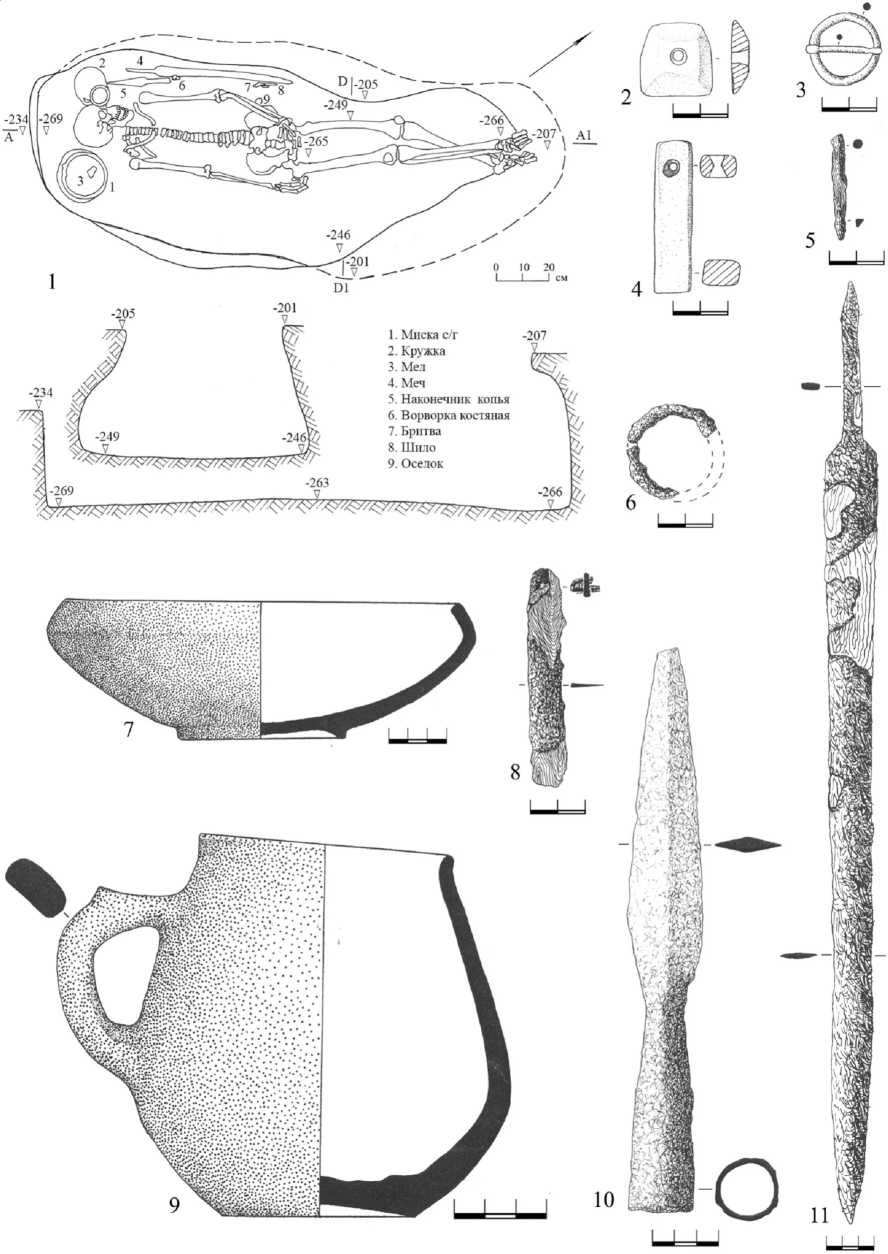
Рис. 13. Могильник Старокорсунского городища № 2, погребение № 35в
Fig. 13. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 2, burial No. 35в
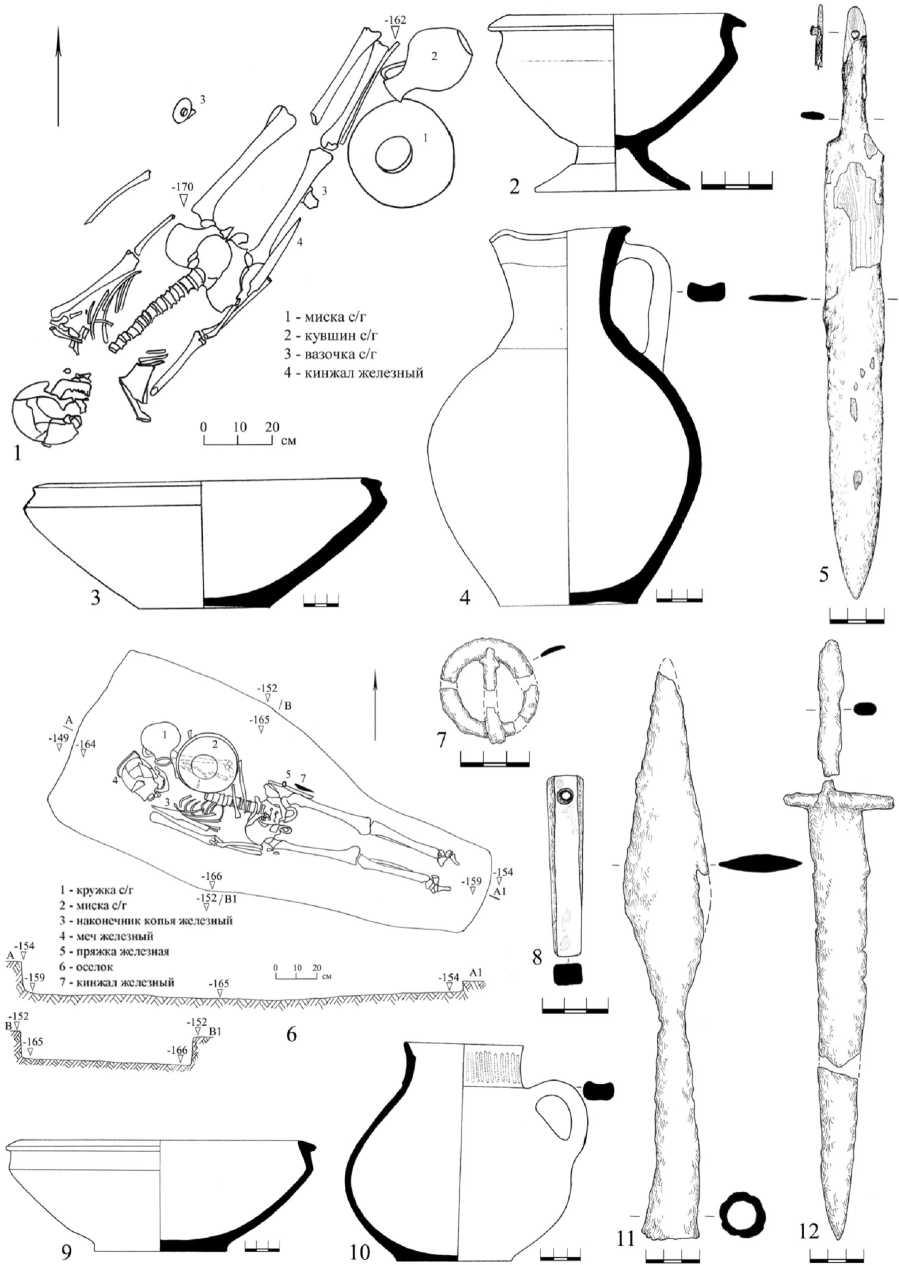
Рис. 14. Могильник Старокорсунского городища № 2: 1–5 – погребение № 218з; 6–12 – погребение № 230з Fig. 14. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 2: 1–5 – burial No. 218з; 6–12 – burial No. 230з
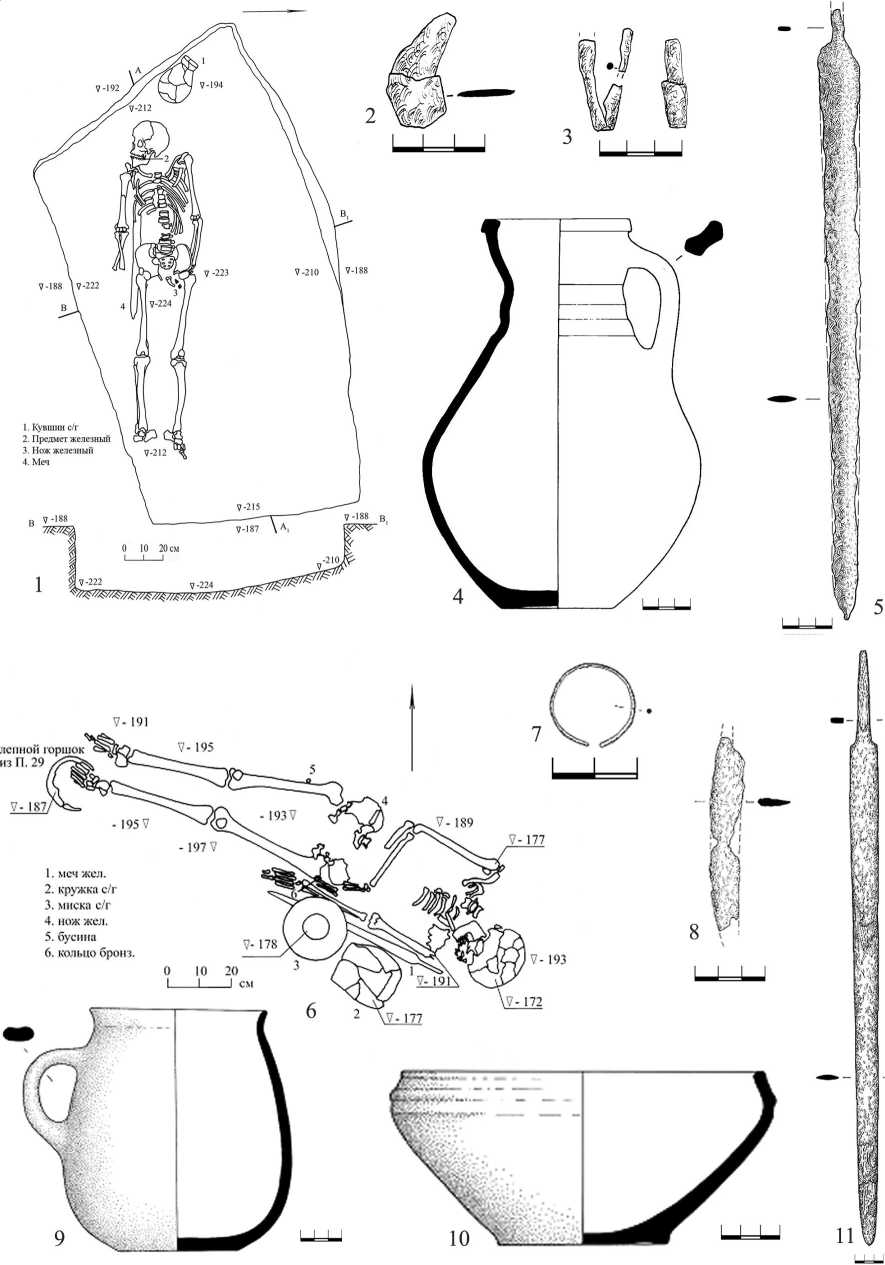
Рис. 15. Могильник Старокорсунского городища № 2: 1–5 – погребение № 379з; 6–11 – погребение № 329в Fig. 15. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 2: 1–5 – burial No. 379з; 6–11 – burial No. 329в
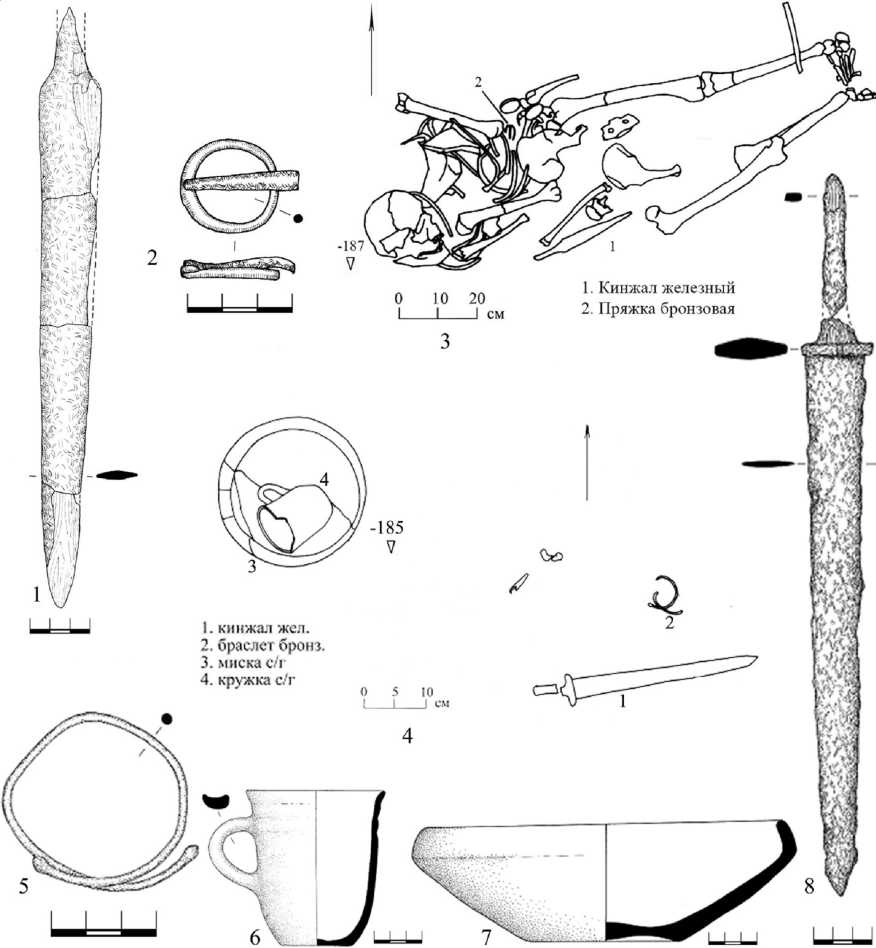
Рис. 16. Могильник Старокорсунского городища № 2: 1–3 – погребение № 554з; 4–8 – погребение № 326в Fig. 16. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 2: 1–3 – burial No. 554з; 4–8 – burial No. 326в
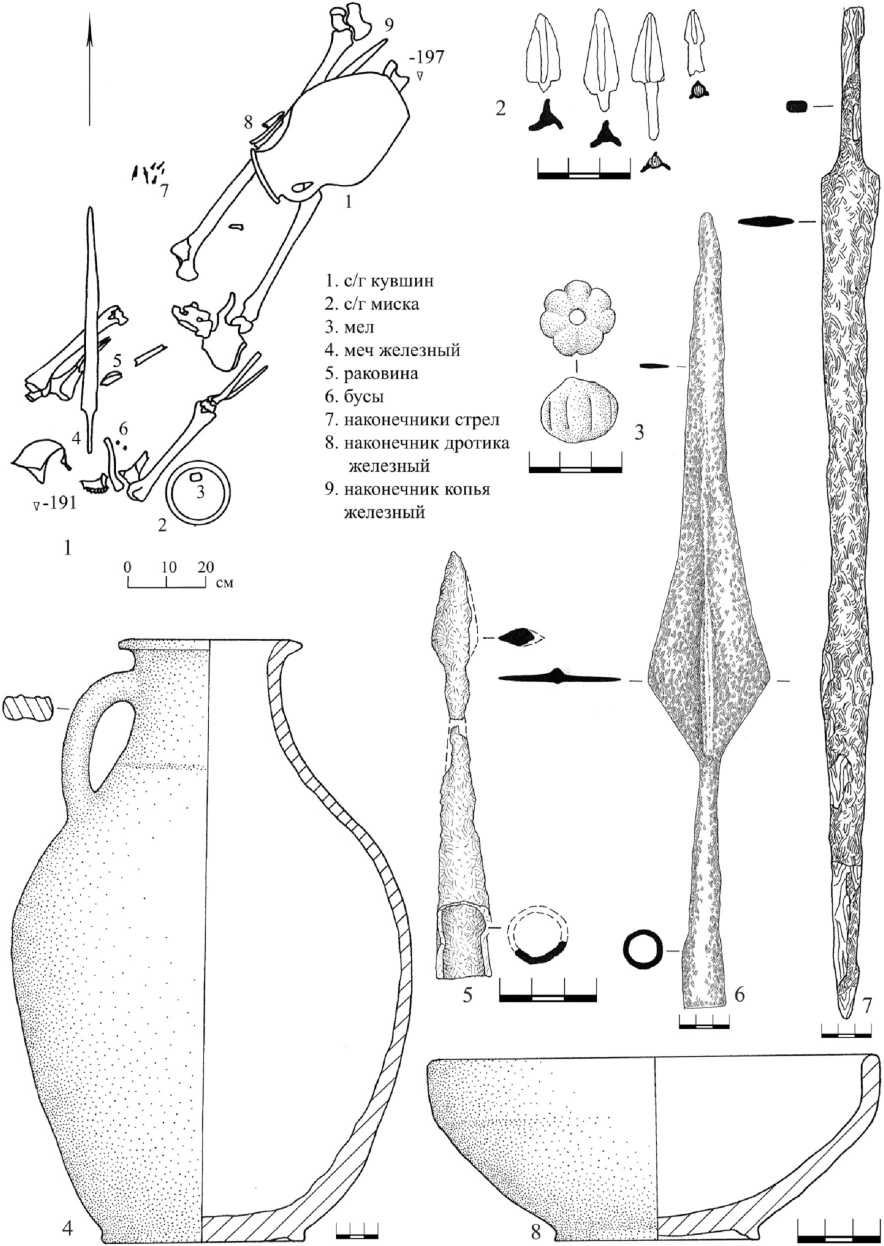
Рис. 17. Могильник Старокорсунского городища № 2, погребение № 482з
Fig. 17. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 2, burial No. 482з
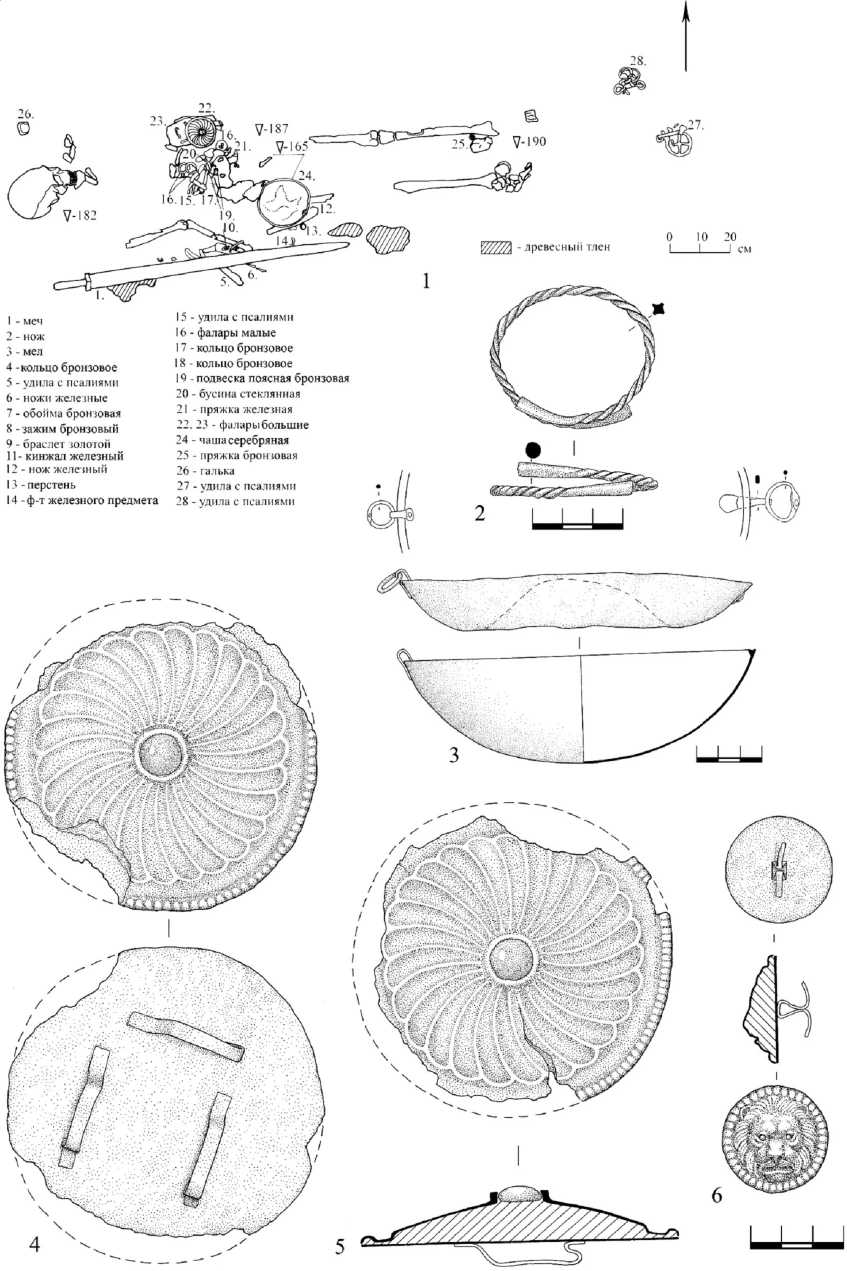
Рис. 18. Могильник Старокорсунского городища № 2, погребение № 613з
Fig. 18. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 2, burial No. 613з
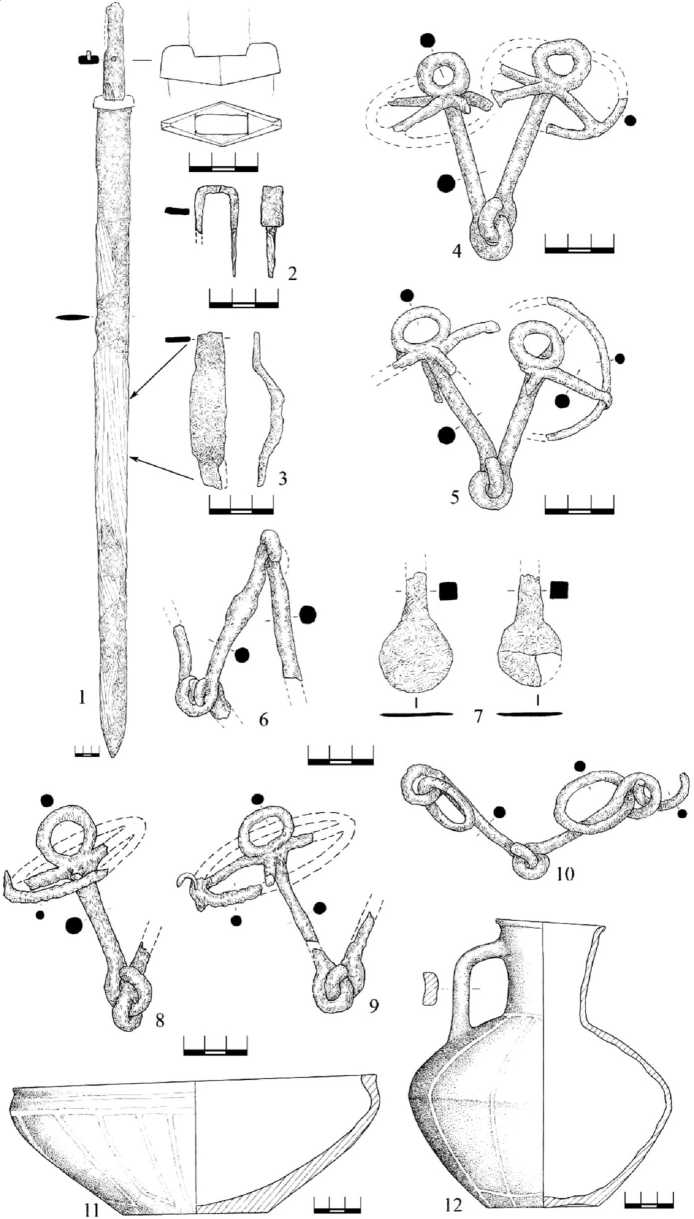
Рис. 19. Могильник Старокорсунского городища № 2, погребение № 613з
Fig. 19. Burial ground of the Starokorsunskaya settlement No. 2, burial No. 613з
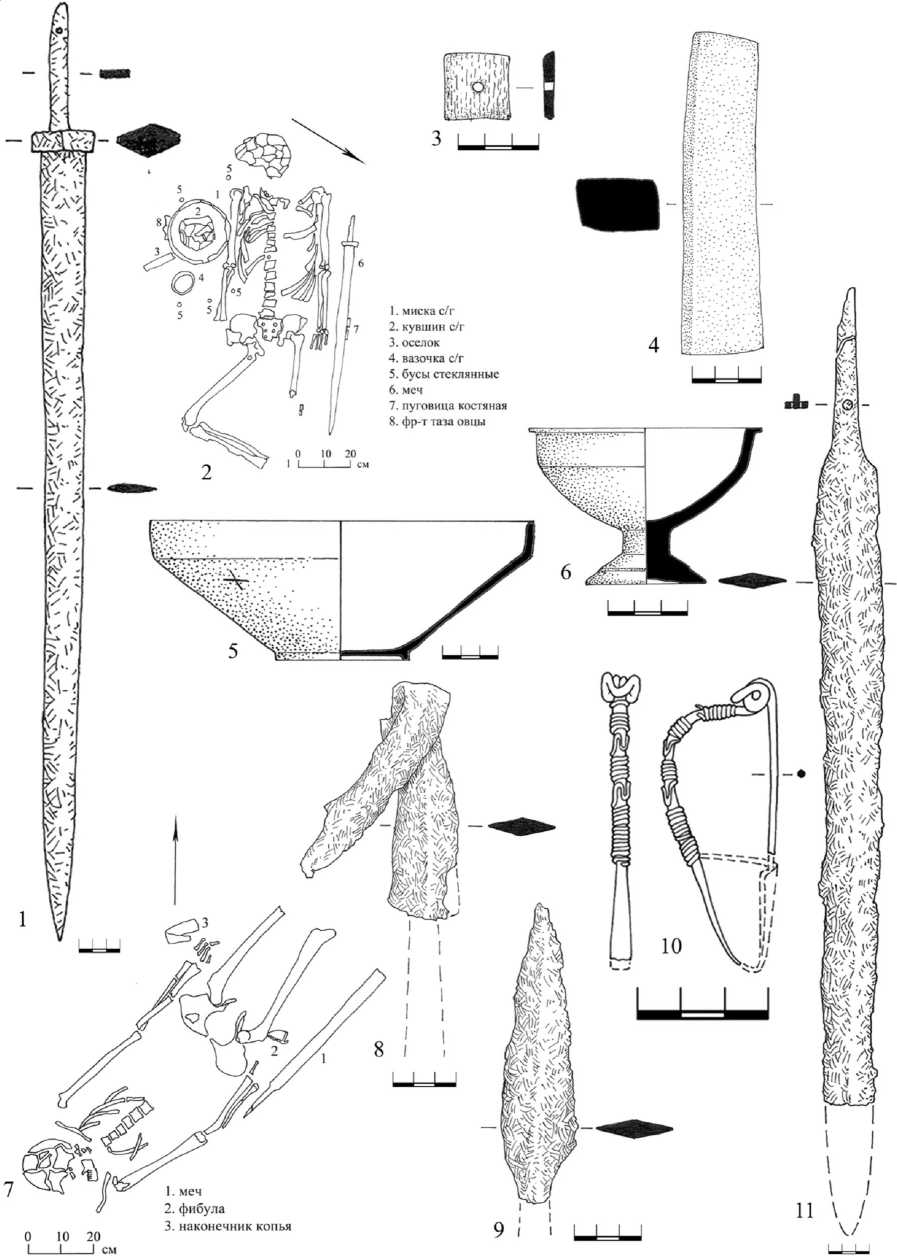
Рис. 20. Могильник городища № 1 хут. Ленина: 1–6 – погребение № 33/1980; 7–11 – погребение № 27/1983 Fig. 20. Burial ground of the Lenin No. 1 settlement: 1–6 – burial No. 33/1980; 7–11 – burial No. 27/1983
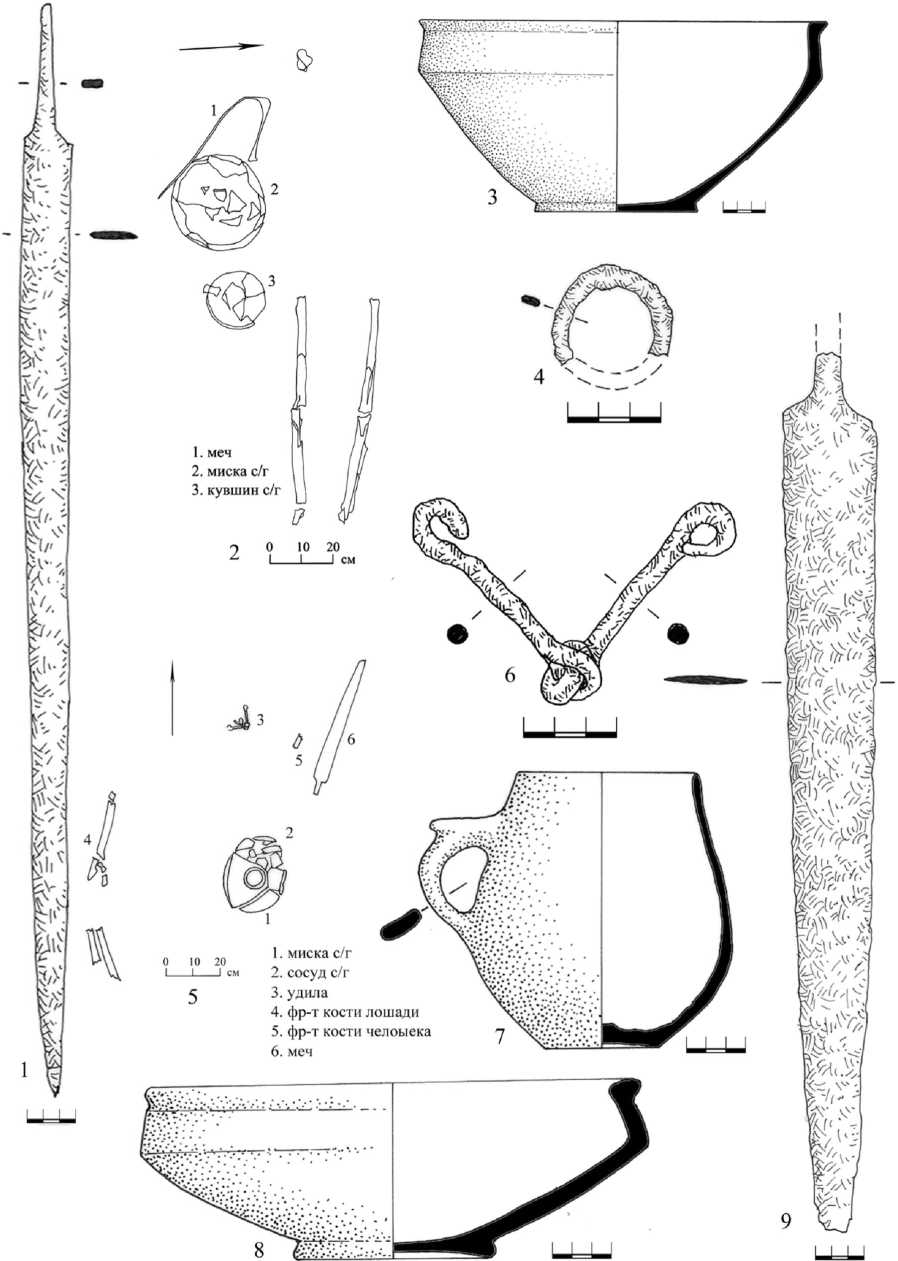
Рис. 21. Могильник городища № 1 хут. Ленина: 1–4 – погребение № 64/1980; 5–9 – погребение № 138/1981 Fig. 21. Burial ground of the Lenin No. 1 settlement: 1–4 – burial No. 64/1980; 5–9 – burial No. 138/1981
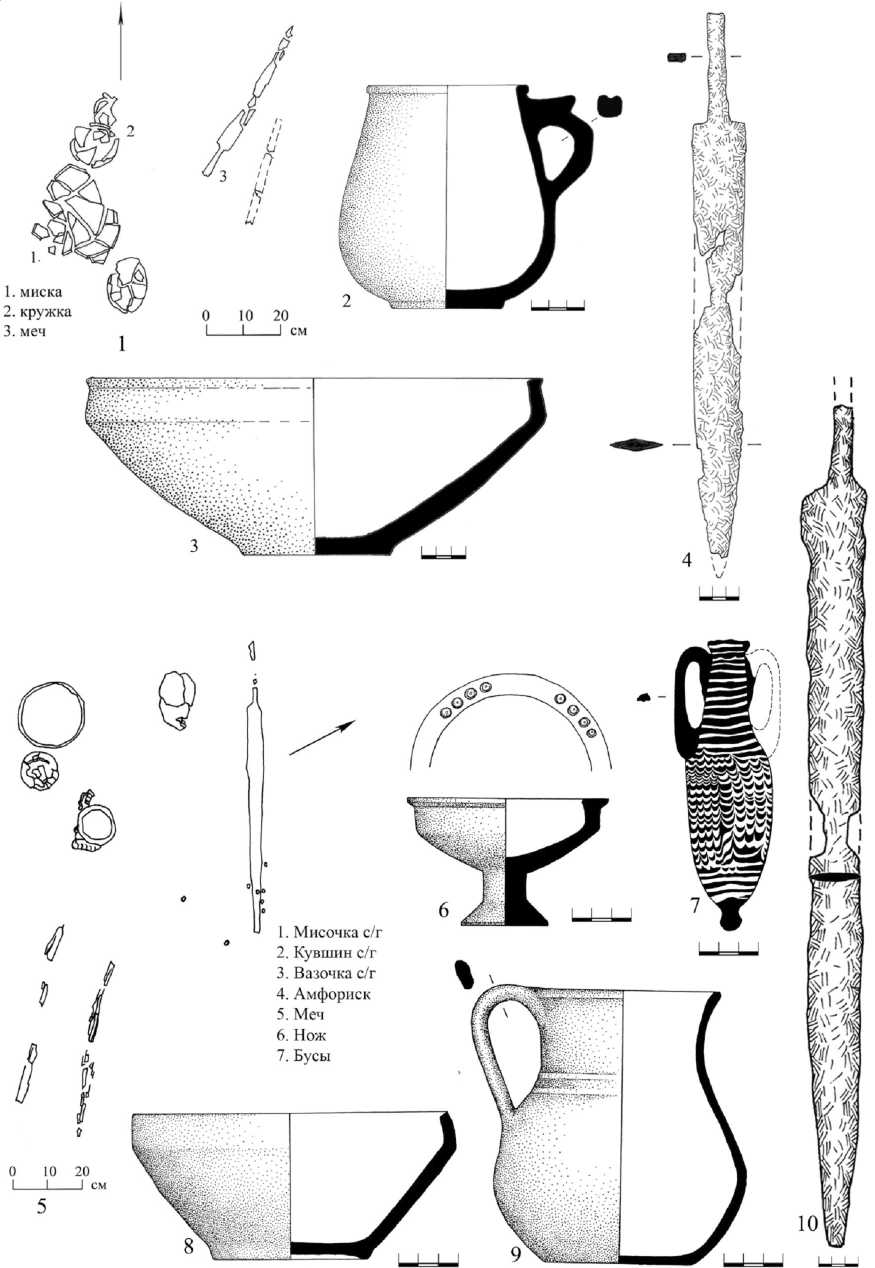
Рис. 22. Могильник городища № 1 хут. Ленина: 1–4 – погребение № 4/1983; 5–10 – погребение № 306/1981 Fig. 22. Burial ground of the Lenin No. 1 settlement: 1–4 – burial No. 4/1983; 5–10 – burial No. 306/1981
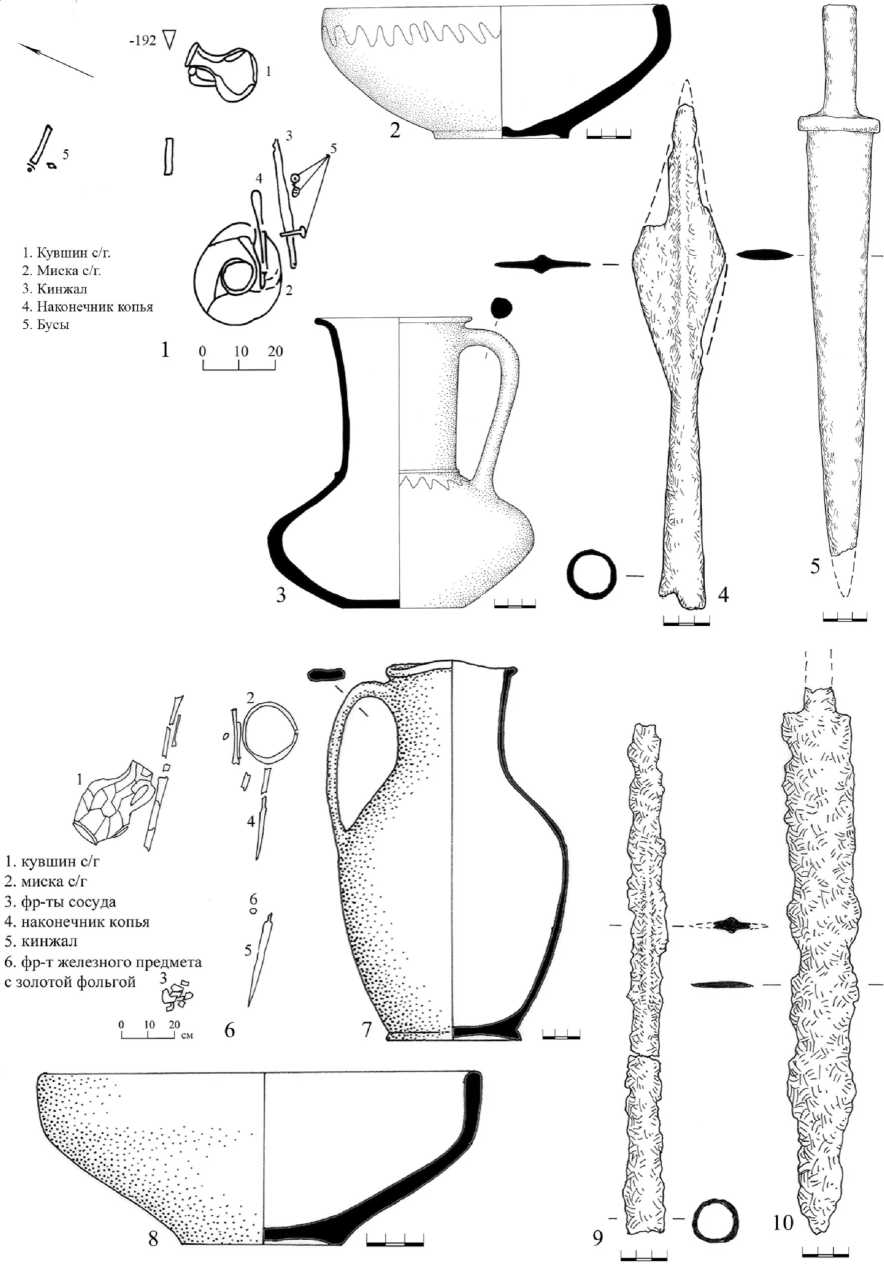
Рис. 23. Могильник городища № 1 хут. Ленина: 1–5 – погребение № 20/1981; 6–10 – погребение № 140/1981 Fig. 23. Burial ground of the Lenin No. 1 settlement: 1–5 – burial No. 20/1981; 6–10 – burial No. 140/1981
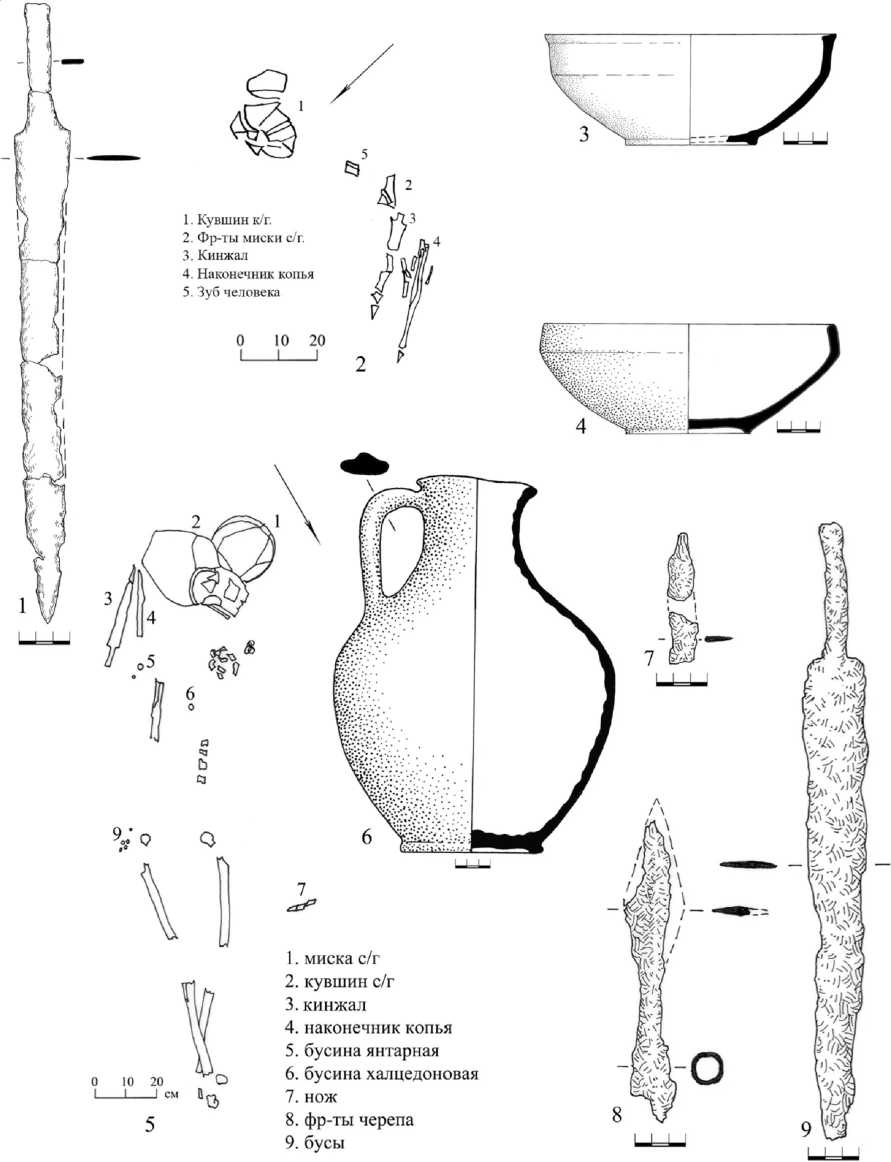
Рис. 24. Могильник городища № 1 хут. Ленина: 1–3 – погребение № 174/1981; 4–9 – погребение № 377/1981 Fig. 24. Burial ground of the Lenin No. 1 settlement: 1–3 – burial No. 174/1981; 4–9 – burial No. 377/1981
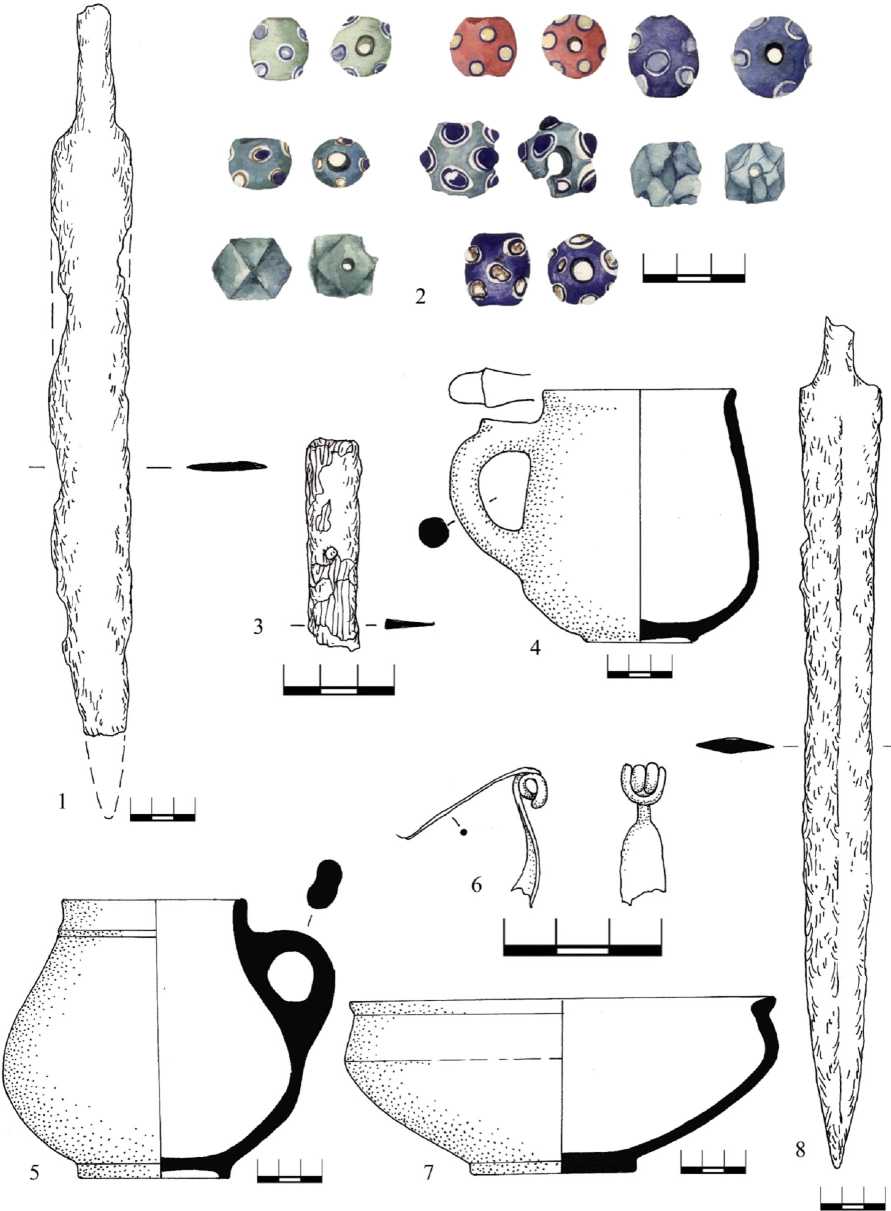
Рис. 25. Могильник городища № 1 хут. Ленина: 1–4 – погребение № 289/1981; 5–8 – погребение № 255/1981 Fig. 25. Burial ground of the Lenin No. 1 settlement: 1–4 – burial No. 289/1981; 5–8 – burial No. 255/1981
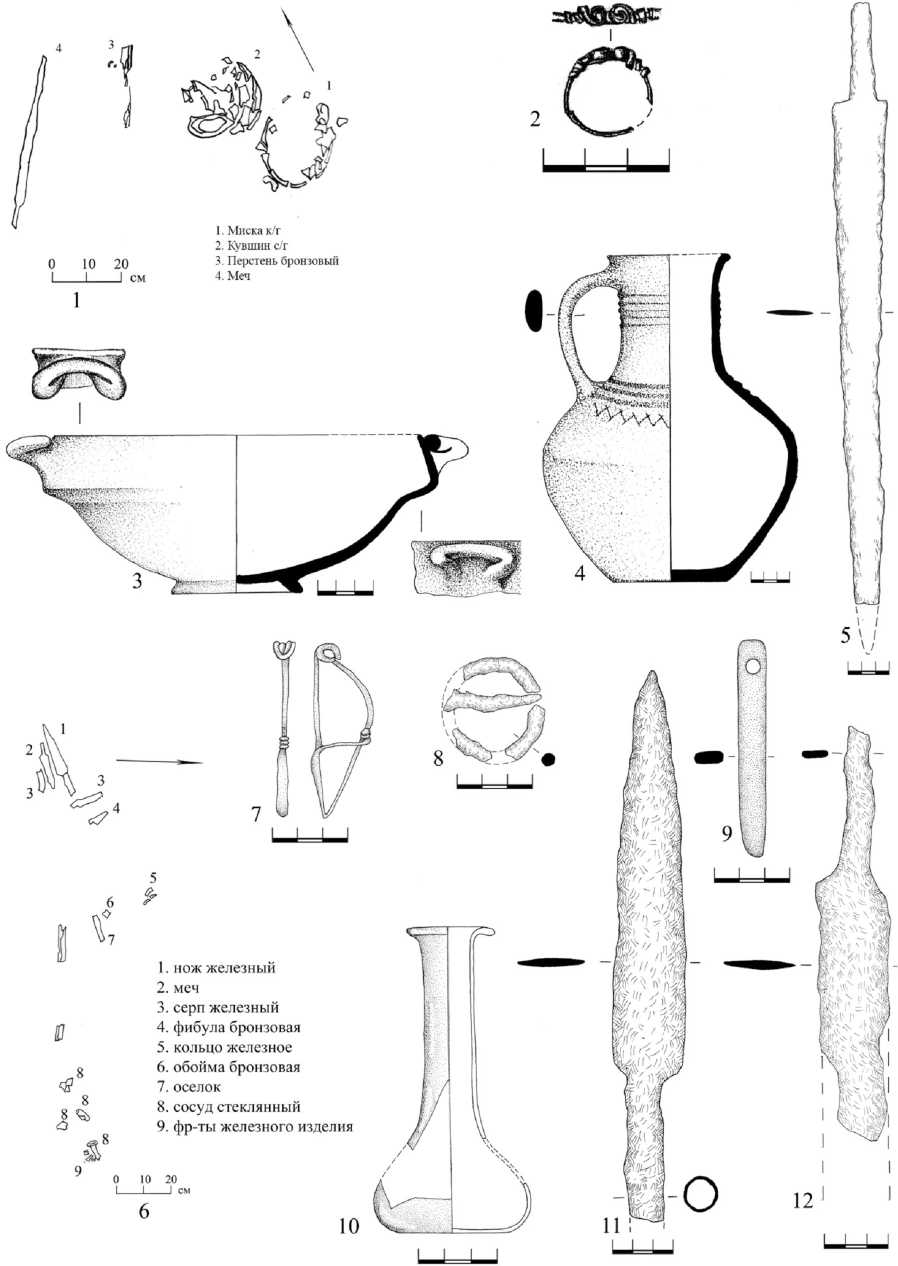
Рис. 26. Могильник городища № 1 хут. Ленина: 1–5 – погребение № 359/1981; 6–12 – погребение № 364/1981 Fig. 26. Burial ground of the Lenin No. 1 settlement: 1–5 – burial No. 359/1981; 6–12 – burial No. 364/1981
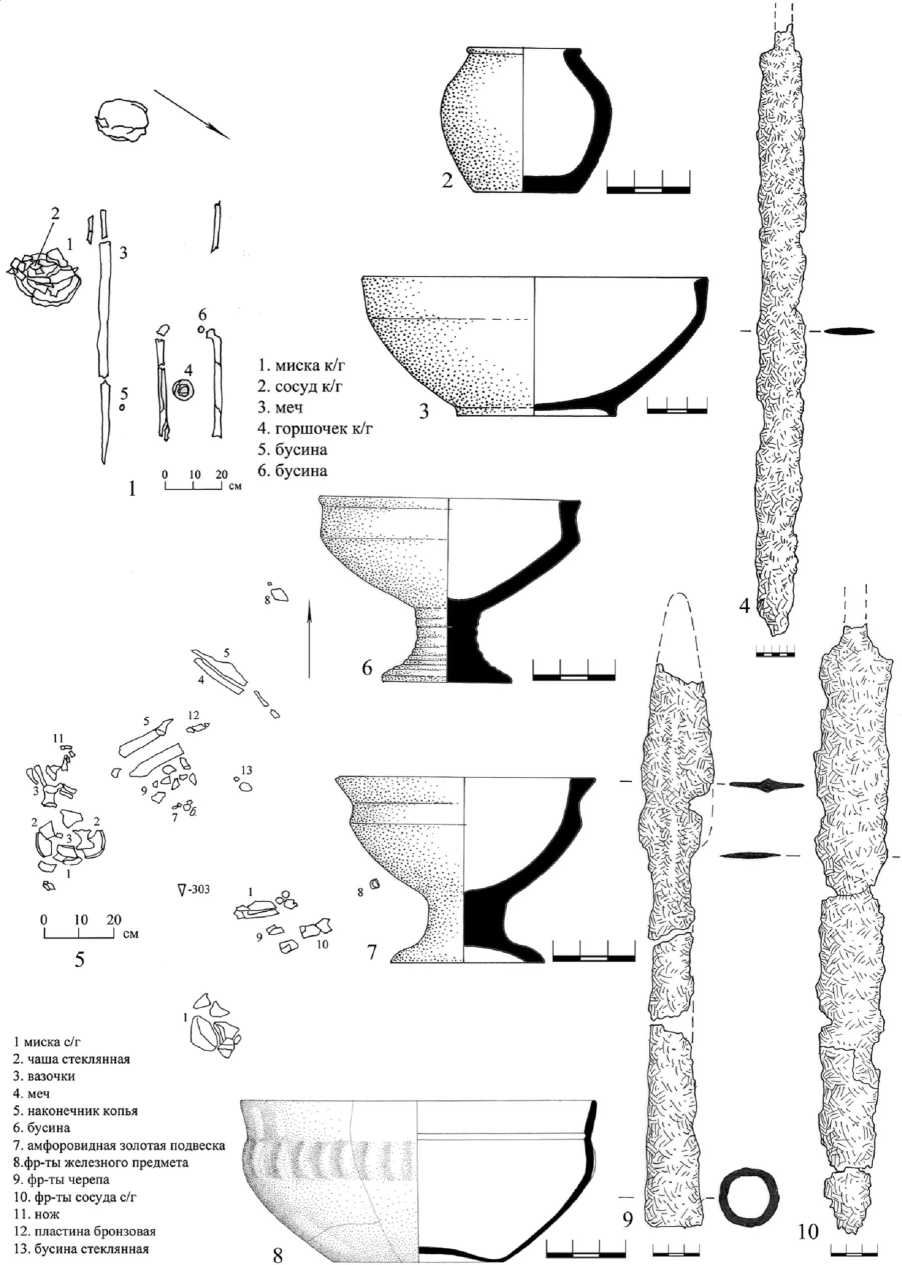
Рис. 27. Могильник городища № 1 хут. Ленина: 1–4 – погребение № 392/1981; 5–10 – погребение № 419/1981 Fig. 27. Burial ground of the Lenin No. 1 settlement: 1–4 – burial No. 392/1981; 5–10 – burial No. 419/1981
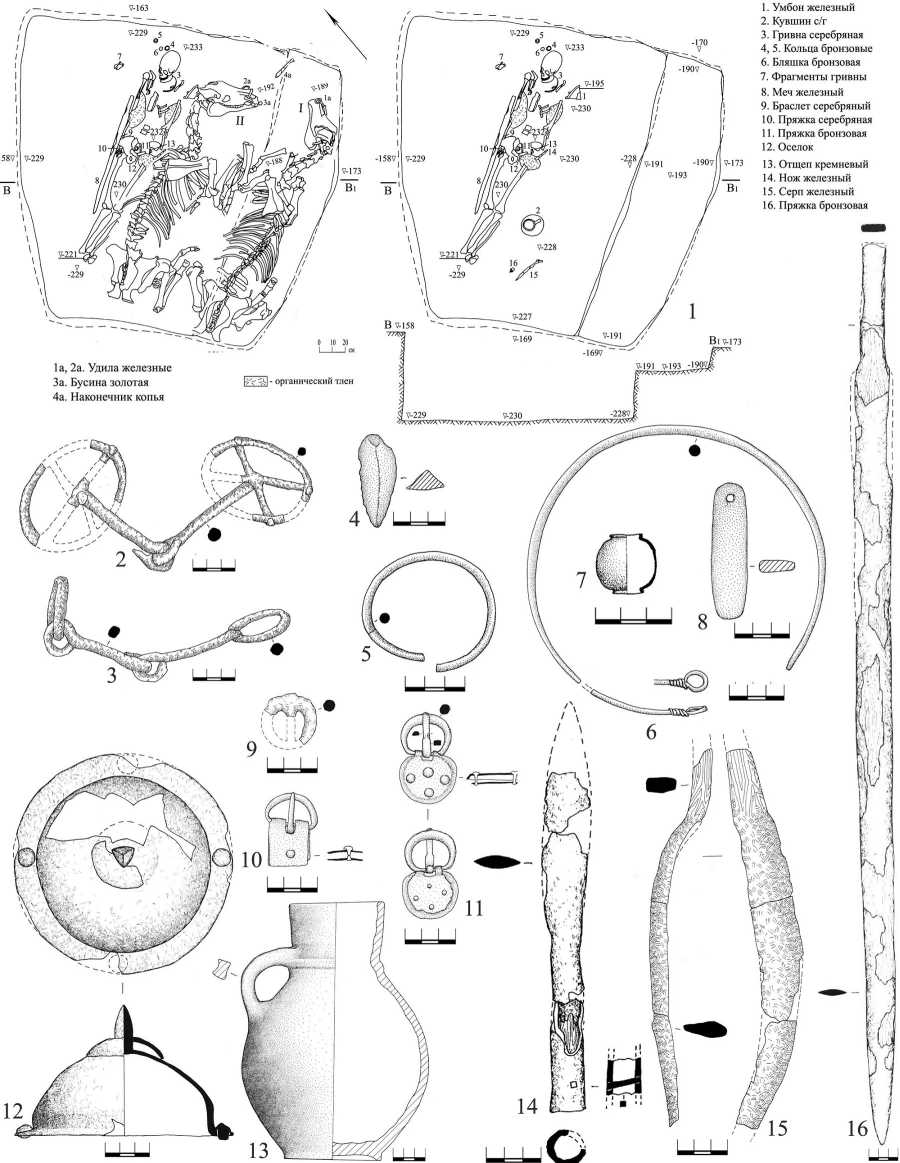
Рис. 28. Могильник городища Спорное, погребение № 161
Fig. 28. Burial ground of the Spornoye settlement, burial No. 161
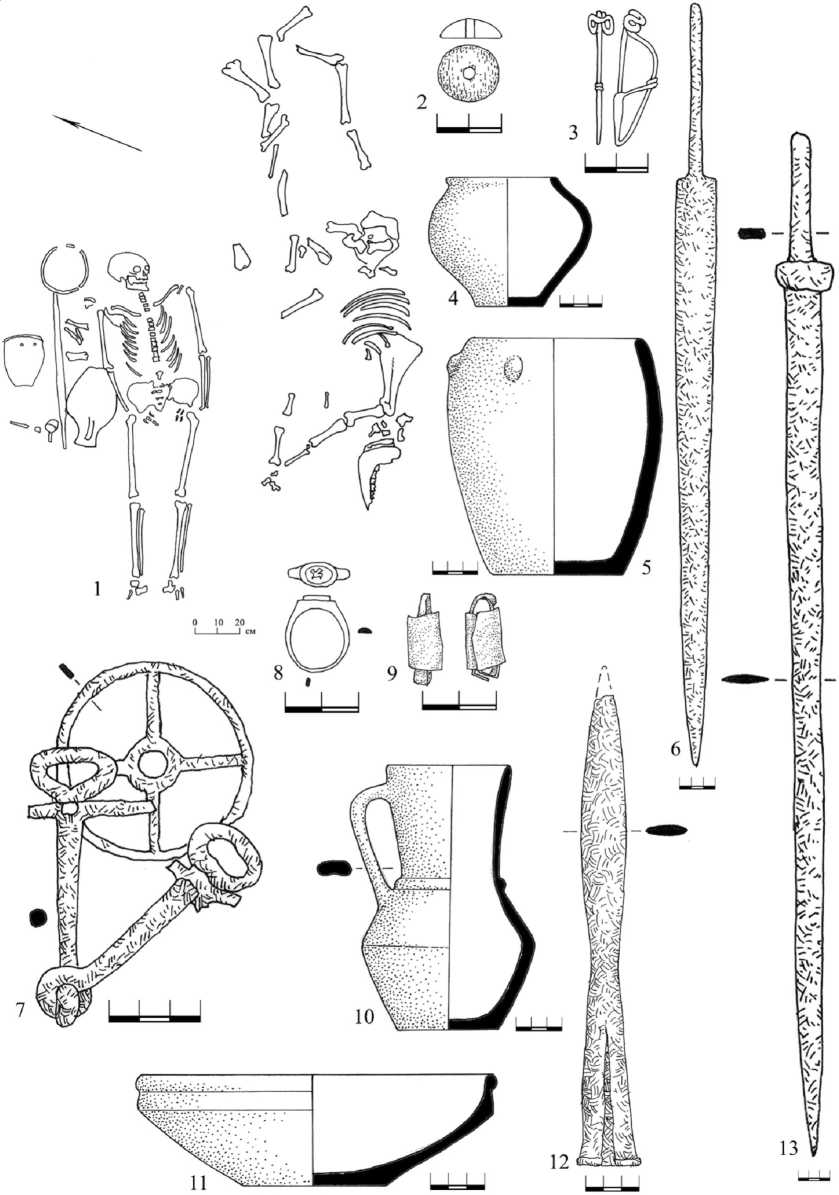
Рис. 29:
1–6 – Могильник Усть-Лабинского городища № 2, погребение № 81/1938;
7–13 – Могильник Елизаветинского городища № 2, погребение № 93/1978
Fig. 29:
1–6 – Burial ground of the Us’t-Labinsk settlement No. 2, burial No. 81/1938;
7–13 – Burial ground of the Elisavetinskaya settlement No. 2, burial No. 93/1978
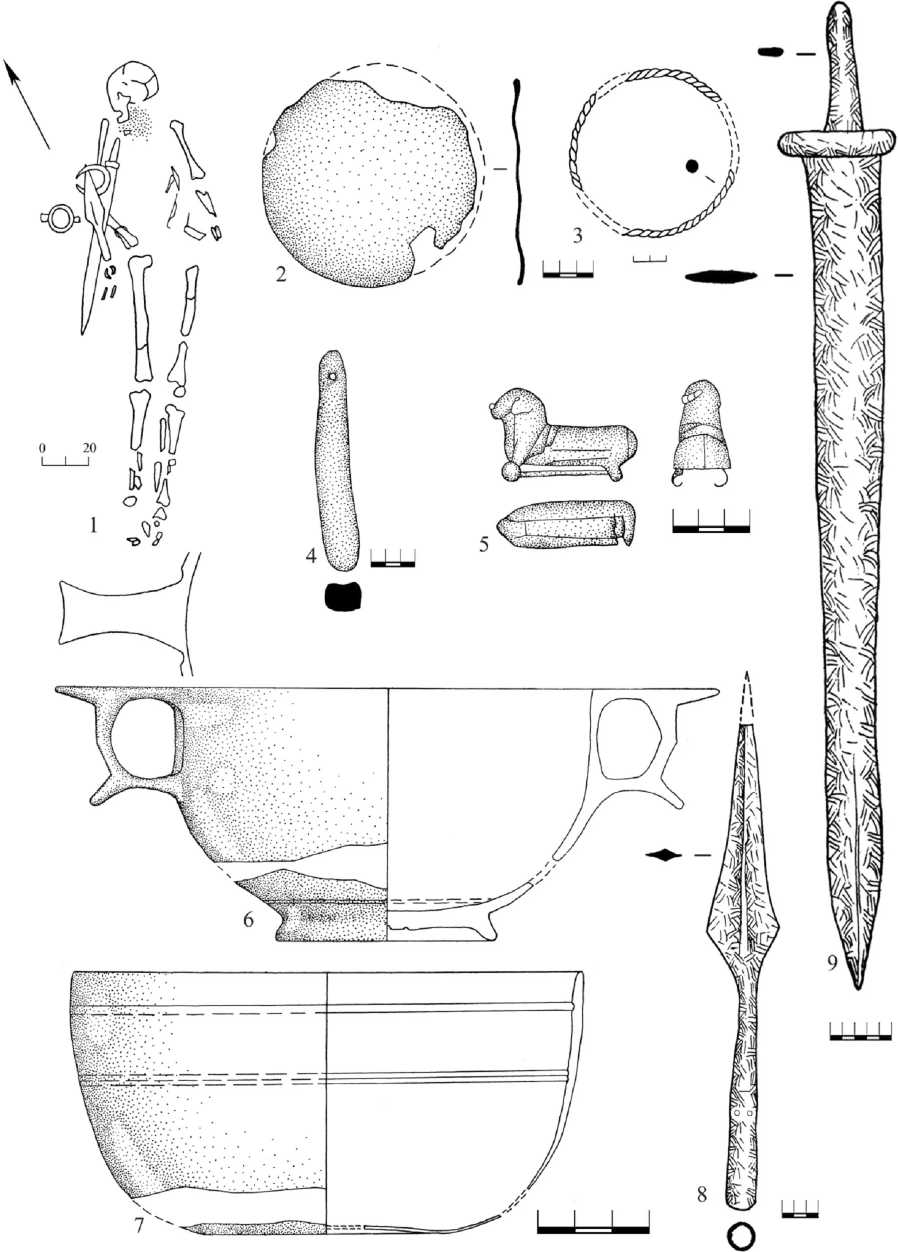
Рис. 30. Могильник Елизаветинского городища № 2, погребение № 31/1978
Fig. 30. Burial ground of the Elisavetinskaya settlement No. 2, burial No. 31/1978
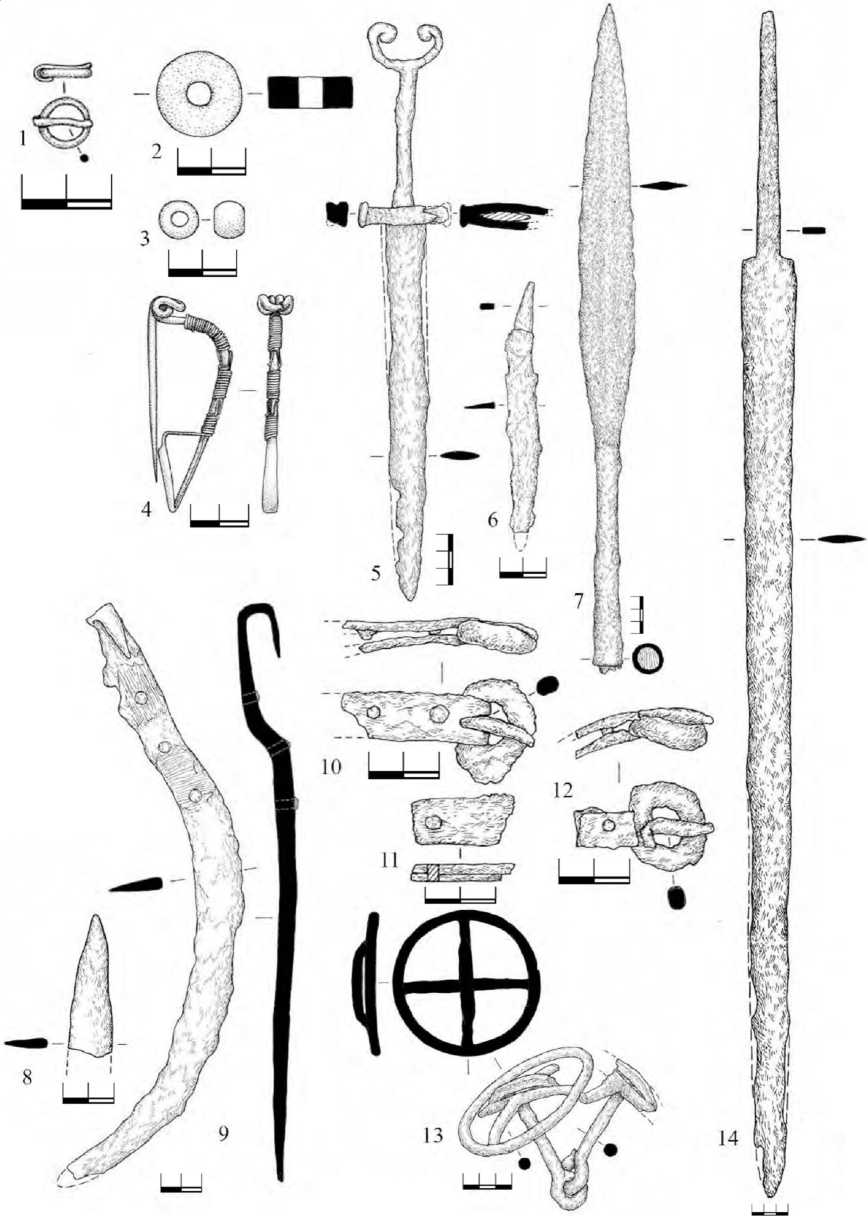
Рис. 31. Могильник № 2 Пашковского городища № 1, погребение № 1
Fig. 31. Burial ground No. 2 of the Pashkovskaya settlement No. 1, burial No. 1
Список литературы Мечи и кинжалы без металлического навершия из меотских памятников правобережья Кубани
- Абрамова М. П., 1993. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н.э. – IV в. н.э.). М. : ИА РАН. 240 с.
- Алексеева Е. М., 1978. Античные бусы Северного Причерноморья. САИ. Вып. ГI–12. М. : Наука. 97 с., 34 табл.
- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга европейской части СССР II в. до н. э. – IV в. н. э. САИ. Д1–30. М. : Наука. 111 с., 28 табл.
- Анфимов И. Н., 1984. Меотский могильник I–II вв. н.э. близ станицы Елизаветинской // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп : Адыгейский НИИ ЭЯЛИ. С. 83–114.
- Анфимов Н. В., 1951. Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лабинской // Материалы и исследования по археологии. Вып. 23. М. : Изд-во АН СССР. С. 155–207.
- Анфимов Н. В., 1967. Отчет об археологических исследованиях, проводившихся в Краснодарском крае в 1966 г. // Архив ИА РАН. Р-1, № 3806.
- Анфимов Н. В., 1968. Отчет об археологических работах, связанных с охранными мероприятиями, проведенных в 1967 году // Архив ИА РАН. Р-1, № 3807.
- Анфимов Н. В., 1973. Отчет о раскопках Пашковского 5-го могильника в 1972 г. // Архив ИА РАН. Р-1, № 6505.
- Безуглов С. И., 2000. Позднесарматские мечи (по материалам Подонья) // Сарматы и их соседи на Дону. Материалы и исследования по археологии Дона. Вып. 1. Ростов н/Д : Терра. С.169–193.
- Волошинов А. А., Масякин В. В., Неневоля И. И., 2007. Два комплекса с римскими импортами из Краснозоринского некрополя // Древняя Таврика. Симферополь : Универсум. С. 303–318.
- Иванов А. В., 2008. О длинных мечах без металлического перекрестия и навершия (по материалам меотских памятников Кубани) // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 9. Армавир : Армавирский государственный педагогический университет. С. 75–84.
- Косяненко В. М., 1989. Новые материалы позднеантичного времени с территории г. Ростов-на-Дону // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 8. Азов : Азовский краеведческий музей. С. 58–62.
- Косяненко В. М. 2008. Некрополь Кобякова городища (по материалам раскопок 1956–1962 гг.) // Донские древности. Вып. 9. Азов : Азовский музей-заповедник. 554 с.
- Кривошеев М. В., 2007. Вооружение позднесарматского времени Нижнего Поволжья // Вооружение сарматов : региональная типология и хронология : докл. к VI Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Челябинск : Южно-Уральский ГУ. С. 65–70.
- Кропотов В. В., 2010. Фибулы сарматской эпохи. Киев : ИА НАНУ ; АДЕФ-Украина. 384 с.
- Кропотов В. В., Скворцов Н. В., 2020. Сарматские погребения из курганного могильника «Попов I» на Дону // Археологическое наследие. Античность. Скифы. Сарматы. № 1 (3). Воронеж : Научная книга. С. 351–359.
- Кунина Н. З., 1997. Античное стекло в собрании Эрмитажа. СПб. : Государственный Эрмитаж, АРС. 359 с.
- Кунина Н. З., Сорокина Н. П., 1972. Стеклянные бальзамарии Боспора // Труды государственного Эрмитажа. Т. XIII. С. 146–177.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2003. Стеклянные сосуды позднеэллинистического и римского времени из Прикубанья // Материалы и исследования по археологии Кубани. № 3. Краснодар : КубГУ. С. 106–183.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2006. Типология и хронология меотских железных наконечников копий из памятников правобережья Кубани // Материалы и исследования по археологии Кубани. № 6. Краснодар : КубГУ. С. 152–181.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2012. Погребение сарматского всадника на некрополе меотского городища // Евразия в скифо-сарматское время. Памяти Ирины Ивановны Гущиной. Труды ГИМ. Вып. 191. С. 141–154.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2013. Всадническое погребение с умбоном из Среднего Прикубанья // Stratum plus. № 4. С. 105–115.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2015. Две катакомбы позднесарматского времени из Пашковского могильника № 1 // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. № 5 (35). С. 126–138. DOI: http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu4.2015.5.12.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2018. Хронология орнаментированных зеркал-подвесок с боковой ручкой из меотских могильников правобережья Кубани // Stratum plus. № 4. С. 201–218.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2019а. Погребения с мечами с кольцевым навершием из могильника меотского городища Спорное // Stratum plus. № 4. С. 189–209.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2019б. Меотские погребения со стеклянными скифосами зубовского типа // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 235–244. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.15.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2020. Хронология браслетов с коническими шишечками на концах из меотских памятников Прикубанья // Археологія і давня історія України. Вип. 3 (36). С. 423–430.
- Малышев А. А., 2008. Погребальный инвентарь Цемдолинского некрополя // Аспургиане на юго-востоке азиатского Боспора. По материалам Цемдолинского могильника. М. : ИА РАН. С. 136–180.
- Маслов В. Е., 1999. О датировке изображений на поясных пластинах из Орлатского могильника // Евразийские древности. 100 лет Б. Н. Гракову : архив. материалы, публ., ст. М. : ИА РАН. С. 219–236.
- Марченко И. И., 1996. Сираки Кубани (По материалам курганных погребений Нижней Кубани). Краснодар : КубГУ. 336 с.
- Симоненко А. В., 2010. Сарматские всадники Северного Причерноморья. СПб. : Нестор-История. 328 с.
- Скрипкин А. С., 2000. Новые аспекты в изучении истории материальной культуры сарматов // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 3. С. 17–40.
- Скрипкин А. С., Клепиков В. М., 2020. Археологические памятники II–I вв. до н.э. Нижнего Поволжья и некоторые этнические проблемы сарматов // Археологія і давня історія України. Вип. 3 (36). С. 214–222.
- Сымонович Э. А., 1983. Население столицы позднескифского царства (по материалам Восточного могильника Неаполя скифского). Киев : Наукова думка. 175 с.
- Труфанов А. А., 2009. Хронология могильников Предгорного Крыма I в. до н.э. – III в. н. э. // Stratum plus. № 4. С. 117–329.
- Хазанов А. И., 1971. Очерки военного дела сарматов. М. : Наука. 169 c.
- Almgren O., 1923. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchrislichen Jahrhunderte mit Berücksicktigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Mannus-Bibliothek. Bd. 32. Leihzig : Curt Kabitzsch. 254 s.
- Dusenbery E. B., 1967. Ancient Glass from Cemeteries of Samophfrace // Journal of Glass Studies. Vol. 9. P. 34–49.
- Dusenbery E. B., 1998. Samophrace. II. The necropoleis. The necropoleis and catalogues of burials. Catalogues of Objects by categories. Princeton : Princeton University Press. 1252 p.
- Grose D. F., 1989. Early Ancient Glass : Сore-formed, Rod-formed, and Cast Vessels and Objects from Late Bronze Age to the Early Roman Empire, 1600 B.C. to A.D. 50. N. Y. : Hudson Hill Press. 453 p.
- Hayes J. W., 1975. Roman and Pre-Roman Glass in the Royal Ontario Museum. Toronto : Royal Ontario Museum. 229 p.
- Fünfschilling S., 2015. Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst. Bd. 51. August : Museum Augusta Raurica. 711 s.
- Ettlinger E., 1973. Die römischen Fibeln in der Schweiz. Bern : Francke. 198 s.
- Isings C., 1957. Roman Glass from Dated Finds. Djakarta, Groningen : J.B. Wolters Publ. 183 p.
- Marčenko I. I., Limberis N. Ju., 2008. Römische importe in sarmatischen und maiotischen Denkmälern des Kubangebietes // Simonenko A., Marčenko I. I., Limberis N. Ju. Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern. Archäologie in Eurasien. Bd. 25. Mainz : Philipp von Zabern. S. 265–400, 222 taf.
- Riha E., 1994. Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Die Neufunde seit 1975. Forschungen in Augst. Bd. 18. August : Museum Augusta Raurica. 206 s.
- Rotroff S. I., 1997. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. The Athenian Agora. Vol. XXIX. Princeton, New Jersey : The American school of classic studies in Athens. 979 p.
- Robinson H. S., 1959. Pottery of the Roman Period chronology. The Athenian Agora. Vol. V. Princeton, New Jersey : The American school of classic studies in Athens. 149 p.
- Rütti B., 1991. Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugust. Forschungen in Augst. Bd. 13. Nr. 1. August : Museum Augusta Raurica. 370 p.
- Thompson H. A., 1934. Two Centuries of Hellenistic Pottery. The American Excavation in the Athenian Agora. Fifth Report // Hesperia. Vol. III. No. 4. Athens, The American school of classic studies in Athens. P. 311–480.