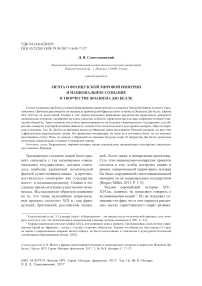Мечта о французской мировой империи и национальное сознание в творчестве Жоашена дю Белле
Автор: Самотовинский Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме условий формирования национального сознания в Западной Европе позднего Средневековья. Проблема рассмотрена на материале произведений французского гуманиста Жоашена Дю Белле. Европа XIV-XVI вв. не знала наций. Однако в этот период возникают важнейшие предпосылки нациогенеза, рождается национальное сознание, основанное на идеях единства, особости, превосходства или даже избранности некой этнической общности. Такое сознание могло быть ориентировано не на создание «национального государства», а на обретение империи, в которой подобная общность должна стать политическим и культурным центром, обрести мировую гегемонию. Так, Ж. Дю Белле призывал видеть во Франции новое воплощение Римской империи, но при этом с французским национальным лицом. Ни германские императоры, ни папы не в состоянии были, по его мнению, восстановить статус Рима, но именно с Францией он связывал будущее мира. В творчестве Дю Белле органично сочетались национальное сознание и имперские чаяния.
Возрождение, мировая империя, нация, национализм, национальное государство, национальное сознание, франция
Короткий адрес: https://sciup.org/147219831
IDR: 147219831 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-8-17-27
Текст научной статьи Мечта о французской мировой империи и национальное сознание в творчестве Жоашена дю Белле
Традиционно создание наций было принято связывать с так называемым «национальным государством», которое считалось наиболее адекватной политической формой существования нации 1 и противопоставлялось «империи» как государству много- и наднациональному. Однако в последнее время ситуация существенно изменилась. Исследователи обратили внимание на то, что такие величайшие национальные проекты «долгого» XIX в., как французский, британский, российский, немец- кий, были также и имперскими проектами. Суть этих национально-имперских проектов состояла в том, чтобы построить нацию в рамках «национальной территории», которая бы была «сердцевиной» многонациональной империи, но не национальным государством [Berger, Miller, 2015. P. 1–5].
Реалии европейской истории XIV– XVI вв., конечно, не позволяют говорить о возникновении наций 2. Но не подлежит сомнению тот факт, что в этот период в различных частях «христианского мира» развива- ется национальное сознание – даже там, где, казалось бы, к этому вовсе нет предпосылок в виде так называемой политической «централизации» и культурной гомогенности населения. Верховная власть и интеллектуальные элиты начинают определять население той или иной территории (само оно в своей массе было еще далеко от такого восприятия) как единое сообщество со своей особой судьбой, противопоставляемое другим подобным сообществам 3.
Формирующееся национальное сознание, основанное на идеях единства, особости, превосходства или даже избранности некой этнической общности, могло предполагать не создание «национального государства», а обретение империи, в которой эта общность должна была стать центром и обрести мировую гегемонию. Так, Священная Римская империя стала объектом «национализации». Первой ее счастливой обладательницей оказалась «германская нация». Но по мере формирования национального сознания в других частях христианского мира, это обладание стало восприниматься не иначе, как узурпация.
Зарождение национального самосознания в Италии во многом связано с именами Данте и Петрарки. Оба воспринимали население Италии как общность, имеющую свои особенности и великое прошлое. Оба идентифицировали себя с этой общностью, переживали за ее историческую судьбу, мечтали о ее политическом объединении [Баткин, 1958. С. 83–85; Девятайкина, 2012].
В то же время для Данте, как справедливо заметил Л. М. Баткин, идея национального объединения Италии облекается в форму мечты о мировой империи. Именно Италия, а не Германия, должна была стать ее центром, сердцевиной. В роли «нового Августа» Данте видел германского императора Генриха VII [Баткин, 1958. С. 83–85].
Проект национального объединения Италии Франческо Петрарки, по-видимому, также не был основан на идее того, что мы называем «национальным государством». И в прошлом, и в будущем Рим для Петрарки – caput mundi, а Италия – не рядовое государство, но центр мировой империи. Renovatio Romae, renovatio Italiae, renovatio Imperii – три надежды, которые лелеял поэт, связывая свои несбывшиеся чаяния сначала с Коло ди Риенцо, а затем с императором Карлом IV, мечтая чтобы тот стал новым Августом, обосновался в Риме и превратился в римлянина по духу [Bayley, 2001. P. 154–160; Yates, 1999. P. 13; Корелин, 1888. C. 46].
В Германии решающую роль в становлении национального самосознания сыграли гуманисты Я. Вимпфелинг, К. Цельтис, г. Бебель и др. Все они связывали судьбу «германской нации» не с национальным государством, а со Священной Римской империей германской нации . По выражению С. Бергера, концепция четырех империй была ими «инструментализирована в национальных целях: священная Римская империя германской нации была изображена как последний наследник Римской империи, облеченный долгом исполнить ее миссию. Таким образом, теория четырех империй, изначально являвшаяся частью христианской провиденциальной исторической мысли, была секуляризирована до имперско-национально-провиденциального концепта» [Berger, 2015. P. 266]. Позиция немецких гуманистов заключалась в том, что императором должен быть непременно немец, ибо сам Карл Великий был немцем. Он наследовал римским цезарям и передал их миссию последующим германским императорам. Немцы должны были стать основой империи благодаря своим выдающимся качествам [Ibid.].
Рождение и развитие национального сознания во Франции также зачастую было связано с проектами обретения мировой империи. Согласно Б. Гене, c начала XIV в. определенно прослеживается представление о французской нации (natione gallicus, nation gallicana, nation de France) как особой «этнической общности», географически совпадающей с французским королевством [Guenée, 1967. P. 21]. Дальнейшей артикуляции и распространению национального сознания способствовала Столетняя война с ее пропагандой, апеллировавшей к идее единства подданных французского короля [Ibid. P. 27].
Идея нации во Франции покоилась на представлении об исключительности и избранности, во-первых, французских королей, независимых от папы и императора, во-вторых, их подданных и, в-третьих, Франции – «Святой земли». Королевские пропагандисты неустанно подчеркивали выдающееся благочестие «христианнейших» суверенов и нового «народа Израилева», их особую миссию – защищать веру и церковь [Strayer, 1969. P. 3–16; Малинин, 2008. С. 167–168]. Свидетельствами избранности французов и их королей наряду с благочестием признавались также достижения в культуре и воинская доблесть. Согласно Гийому из Нан-жи (ум. 1300), три лепестка геральдической лилии означали веру, ученость и воинскую доблесть (fides, sapientia et militia), в которых Франция превосходила все другие государства [Strayer, 1969. P. 6].
Идея религиозного, политического и культурного превосходства давала благоприятную почву для притязаний на всемирную гегемонию и господство. Интересно, что именно с начала XIV в. представители французского королевского дома начинают систематически претендовать на имперскую корону [Zeller, 1934. P. 273], а юристы и публицисты – обосновывать права «христианнейших королей» и их подданных на мировое господство. Пьер Дюбуа (1306) и Жан де Жанден (1323) утверждали, что власть над миром (totius orbis dominium) должна принадлежать не германским императорам, а французским королям и французам, как отличающимся особыми врожденными качествами, дарованными им Богом и природой [Малинин, 2008. С. 171–172].
В первой половине XVI в. идея избранности французских «христианнейших королей», французов и Франции ничуть не утратила свое значение. Более того, в этот период в среде гуманистов национальное сознание обогащается культом национального языка. Гуманисты первой трети XVI в. увидели в родном наречии потенциальный язык высокой культуры. Так, Ж. Тори верил, что французский язык должен их усилиями обогатиться и обрести собственную грамматику, заняв достойное место рядом с греческим и латинским. Национальная культура Франции должна быть выражена на французском, только таким путем Франция займет исключительное место в истории культуры, осуществит translatio studii [Стаф, 2015. С. 327– 342].
Мечтали ли поборники французского языка и о политической гегемонии Франции, о translatio imperii? Мы не нашли свидетельств этому. Более того, Тори писал: «Римляне, которые владычествовали над большей частью мира, более процветали и больше одержали побед благодаря своему языку, нежели своему мечу. Богу угодно, чтобы мы могли сделать то же самое, но не для того, чтобы быть тиранами и царями над всеми, а чтобы, имея наш язык хорошо упорядоченным, могли бы изложить добрые науки и искусства и предать их памяти или писаниям» [Tory, 1529].
Как бы то ни было, имперских притязаний не были чужды другие французские литераторы и гуманисты, чуткие к современным политическим обстоятельствам. Напомним, что Франциск I всерьез вступил в борьбу за имперскую корону с королем Испании Карлом I Габсбургом [Zeller, 1934. P. 500–510]. Выборы были им проиграны. На престоле Священной Римской империи оказался испанский король под именем Карла V. Великий канцлер нового императора Меркурино ди Гаттинара, вдохновлявшийся «Монархией» Данте, сотворил для своего повелителя грандиозный проект глобальной империи, которая должна была объединить все человечество, учредить мир и истинную веру на всей земле [Yates, 1999. P. 20–28] 4.
Имперская пропаганда, конечно, провоцировала развитие контрмифа о Франции как мировом гегемоне. Кстати пришлись дарования тех же итальянцев, находивших прибежище при французском дворе. Поэт Луиджи Аламанни (1495–1556), флорентийский изгнанник, в 1548 г. обещал мировую монар- хию (del mondo eterna monarchia) Генриху II [Alamanni, 1836. P. 274].
Однако тон в мифотворчестве задавали французские интеллектуалы, опиравшиеся на многовековую отечественную традицию. Около 1523 г. францисканец Жан Тено (Jean Thenaud, ок. 1480–1542), королевский духовник, поэт и публицист, пророчил Франциску I титул «императора Священной галликанской монархии» (empereur de la sacrée monarchie Gallicane) [Maulde-La-Clavière, 1895. P. 324]. В 1547 г. Жан де Ла Э (Jean de La Haye, он же Symon Silvius), камердинер Маргариты Наваррской, предрек, что Франциск I станет «властителем, который будет править обоими полушариями» [La Haye, 1873. P. 10–11] 5. Наиболее же грандиозный проект мировой французской монархии принадлежит известному мистику, каббалисту и ориенталисту Гийому Постелю [Самотовинский, 2015].
Таким образом, очевидно, что имперские притязания и национальное сознание, основанное на идее исключительности, прекрасно уживались в сознании французов XVI в. Именно в таком контексте становятся понятными некоторые аспекты творчества Жоаше-на Дю Белле.
Уже в своем знаменитом трактате «Защита и прославление французского языка» (1549) Дю Белле выражает надежду на великое будущее Франции и французского языка: «Я верю, что придет время и благодаря счастливой судьбе французов это благородное и могущественное королевство захватит, быть может, в свою очередь бразды мирового правления (les resnes de la monarchie) и что наш язык… только еще начинающий пускать корни, выйдет из земли и достигнет такой высоты и величия, что сможет сравняться даже с греческим и латинским…» [Дю Белле, 1981. С. 240; Du Bellay, 1914. P. 48].
Р. Хелжерсон констатирует: Дю Белле и его единомышленники «воскрешают в памяти Рим и предают забвению Францию… поскольку идентичность, которую они создают, скорее имперская, нежели национальная. Они отказываются от своей собственной идентичности и похищают римскую, поскольку желают быть новыми римляна- ми» [Helgerson, 2005. P. 26]. Программу Дю Белле по развитии французского языка через подражание не старым французским поэтам, а латинским и греческим авторам исследователь выражает в формуле: «Обновить французский язык, сделав его иностранным» [Ibid. P. 23]. Стоит ли говорить, что сам Дю Белле вряд ли бы согласился с подобной трактовкой? Беря за образец великих римлян и греков, поэт, в его собственных глазах, не отказывался от французской национальной идентичности, от признания некой благой «исконной природы» французского языка, которую нужно соответствующим образом культивировать, учась у греков и римлян [Дю Белле, 1981. С. 255]. Как семя не могло утратить своей изначальной природы в процессе культивации (породить растение иного вида), так и французский язык в процессе совершенствования, какие бы средства при этом не использовались, сохранял для Дю Белле свою аутентичность. Он ощущал себя французом и служил Франции, которая должна была занять доминирующее положение, некогда принадлежавшее Риму, или, если угодно, должна была стать «новым Римом», но без латинского языка, «Римом», говорящим на французском, обогащенным заимствованиями, но не утратившим своей оригинальной сути. Но какой же это Рим?
В том же 1549 г. Дю Белле представляет Генриху II небольшую «Просфониму» 6, воспев короля как будущего мирового властителя:
Est-ce pas toy à qui les Dieux promettent Tout le bon heur du monarque Romain?
Les Dieux, qui jà par leurs arrests soumettent
Tout l’univers à ta puissante main? [Du Bellay, 1907. P. 9].
(Не ты ли тот, кому боги обещали всю удачу римского монарха? Боги, которые уже своим решением подчинили всю вселенную твоей могучей руке?).
Как универсальный монарх Генрих должен был установить новый «золотой век», подобный тому, что был воспет Вергилием при Октавиане Августе:
Bien tost après Discorde furieuse
Soubs un frein serf prise tu meneras:
Lors regnera la paix victorieuse:
Lors de Janus le temple fermeras:
Ce nouveau siecle, à l’antique semblable, Verra fleurir le sceptre de Valois.
La Foy chenue, alors non violable, Tiendra le lieu des punissantes loix. Vice mourra: et les nopces pollues Ne seront lors par amours dissolues [Ibid. P. 10].
(Тотчас, как ты обуздаешь неистовый раздор, восторжествует победивший мир, храм Януса будет закрыт… Этот новый век, сходный с древним [веком Августа], увидит, как процветает скипетр Валуа. Седая Вера, тогда не нарушимая, займет место могущественных законов. Порок умрет и не будет тогда оскверненных браков, основанных на разнузданной любви).
Под сенью Валуа на землю придет умиротворение, нравственное и религиозное обновление. «Седая вера» (т. е. древнее, изначальное, неиспорченное христианское учение) восторжествует и станет основой нравственности и социальной жизни. Дю Белле, несомненно, сознавал степень деградации папства и проблемы церкви. Он желал ее реформы, возвращения к изначальному неиспорченному состоянию, но в то же время оставался ей лояльным и осуждал разрыв с Римом и Реформацию [Smith, 1974. P. 46– 57]. Подлинным реформатором церкви Дю Белле видит не папу, а французского монарха, которому суждено будет «восстановить авторитет церкви и Рим освободить из плена» (De remettre l’Eglise en son auctorité, / Et Rome delivrer de sa captivité) [Du Bellay, 1824. P. 114].
Тема грядущей мировой французской монархии и культурной гегемонии французов широко представлена в позднем творчестве поэта. В своем знаменитом «триптихе», включающем «Древности Рима», «Сон, или Видение о Риме» и «Сожаления» (написаны в 1557, опубликованы в 1558 г.), Дю Белле представляет читателю целую историческую концепцию, предполагающую трансляцию мировой политической и культурной гегемонии от Древнего Рима к Франции.
В «Древностях Рима» Дю Белле заставляет читателя прочувствовать былое «римское величие». Римская империя представлена у Дю Белле не просто как огромное могущественное государство, но как абсолютный мировой гегемон, не имеющий конкурентов. Могущество Рима «было могуществом мира» (fut le pouvoir du monde), «Рим один мог быть подобен Риму, Рим один мог потрясти Рим» (Rome seule pouvoit à monde ressembler, Rome seule pouvoit faire trembler) (Древности. VI) [Du Bellay, 1910. P. 5]. Дю Белле поэтически преувеличивает размеры империи, расширяя ее пределы до пределов мира, подчеркивая тем самым ее глобальное значение: «Рим был всем миром, и весь мир – Римом» (Rome fut tout le monde, et tout le monde est Rome) (Древности. XXVI) [Ibid. P. 13].
Древний Рим представлен у Дю Белле не только как мировой политический гегемон, но и как «украшение мира» – цивилизация, вобравшая в себя все культурные достижения и богатства народов известной тогда земли:
Tout ce qu’Egypte en pointe façonna, Tout ce que Grece à la Corinthienne, A l’Ionique, Attique, ou Dorienne, Pour l’ornement des temples maçonna: Tout ce que l’art de Lysippe donna, La main d’Apelle, ou la main Phidienne, Soulait orner cette Ville ancienne, Dont la grandeur le ciel mesme estonna. Tout ce qu’Athene eut onques de sagesse, Tout ce qu’Asie eut onques de richesse, Tout ce qu’Afrique eut onques de nouveau, S’est vu ici. O merveille profonde!
Rome vivant fut l’ornement du monde,
Et morte elle est du monde le tombeau [Ibid. P. 14–15].
(Все, что Египет сотворил в совершенстве, все, что Греция на коринфский, ионический и аттический, или дорический [манер], создала для украшения своих храмов, все то, что искусство Лисиппа дало, рука Апеллеса или Фидия, обычно украшало этот древний Город, величие которого удивляло само небо. Всю мудрость, что имели когда-либо Афины, все богатства, что имела когда-либо Азия, все новшества, что имела когда-либо Африка, можно увидеть здесь. О, разительная перемена! Живя, Рим был украшением мира, а умерев, стал могилой мира) (Древности. XXIX).
Древний Рим, в представлении Дю Белле, погиб, сломленный собственной гордыней и фатальным законом, согласно которому все рождается, возрастает, достигает расцвета, а затем приходит в упадок и погибает [Виппер, 1976. С. 247–275]. Суждено ли Риму возродиться в качестве мирового гегемона?
В Cредние века и на заре Нового времени широко была распространена идея translatio imperii, согласно которой Римская империя не погибла, а продолжает существовать в обличье Священной Римской империи. Дю Белле, вслед за Петраркой и его последователями, отрицал преемственность между Римской империей и Священной Римской империей. Он высоко отзывался лишь об империи Карла Великого, считая ее французской [Дю Белле, 1981. С. 246]. Притязания же Священной Римской империи, считавшей себя прямой преемницей Римской и Каролингской, для Дю Белле были абсурдны. Это новообразование он воспринимает лишь как жалкое подобие подлинного Древнего Рима (on vid la corneille Germaine / Se deguisant feindre l’aigle Romaine) (Древности. XVII) [Du Bellay, 1910. P. 10].
В изображении Дю Белле нынешний император Священной Римской империи Карл V, мечтающий о глобальной монархии, – обуянный гордыней мечтатель, который «обещал себе во сне всю вселенную» ( Tout l’univers se promettoit en songe) [Du Bellay, 1913. P. 167] 7.
Мог ли этот император стать новым Августом? Дю Белле подчеркивает, что он стал причиной разорения Рима, а не его возрождения. «Неистовая буря» (l’orage impetueux), налетевшая на город с севера – аллюзия на разорение Рима в 1527 г. имперскими войсками (Сон, XIII) [Du Bellay, 1910. P. 22]. Как отмечает г. Демерсон, «то, против чего направлен “Сон”, – translatio, перенос Империи из Рима в Священную Римскую империю германской нации» [Demerson, 1990. P. 173].
Могло ли папство стать реставратором Рима как мирового гегемона? Известно, что оно претендовало на эту роль. Оправившись от кризиса, связанного с «авиньонским пленением» и схизмой, папство вновь почувствовало себя лидером христианского мира, способным объединить христианских государей против турок. Папы видели себя не только пастырями, но владыками над светскими правителями и даже, с подачи гуманистов, новыми римскими императорами, а Рим – caput mundi [Hankins, 2003. P. 501]. Жестокое разорение Рима в 1527 г. имперскими войсками стало сильным, но не смертельным, ударом по имперским амбициям папской курии [Gouwens, 1998. P. 27, 53, 61–62].
Дю Белле, признавая изначальную благую природу папства, видя в папе «преемника Петра» (Древности. XVIII) [Du Bellay, 1910. P. 10], был удручен его нынешним состоянием и выступал за церковное обновление. Однако, как мы видели, в 1549 г. поэт не надеялся в этом деле на папу, проча роль реформатора французскому королю. Во «Сне» и «Сожалениях» состояние папства рисуется в самых мрачных красках: «То, что благоухало сначала, было испорчено серным запахом» (Ce qui sentoit si bon premierement / Fut corrompu d’une odeur sulphuree. Сон. XI) [Ibid. P. 21]. Папский Рим изображается посредством образа «зверя с семью головами» из книги «Откровения» (13: 1–7; 17: 9). Во «Сне» библейский зверь представлен как «новая гидра о семи головах», символизирующих семь «чудовищных пороков» (Сон. VIII, X) [Ibid. P. 20–21] и очевидно соответствующих семи знаменитым холмам Рима.
Более того, в «Сожалениях» Дю Белле прямо, не прибегая к аллегориям, указывает на развращенность папского Рима, «который под гордыней тройной тиары из золота скрывает властолюбие, ненависть и обман» (qui dessous l’orgueil de trois couronnes d’or / Couve l’ambition, la haine et la feintise) (Сожаления. LXXVIII) [Ibid. P. 64].
Впрочем, следует отметить, что Рим для Дю Белле не являет собой картину полного упадка, его оценка поэтом зачастую амбивалентна: в этом городе парадоксальным образом сочетаются крайние пороки и высокие добродетели, невежество и ученость [Ibid.]. Дю Белле даже отмечает, что Рим и поныне активен: опираясь на свое великое прошлое, он стремится возродится:
Regarde après, comme de jour en jour
Rome, fouillant son antique sejour, Se rebastist de tant d’œuvres divines:
Tu jugeras que le dœmon romain
S’efforce encor d’une fatale main
Ressusciter ces poudreuses ruines [Du Bellay, 1910. P. 14].
(Смотри, как день за днем, Рим, раскапывая свои свое древнее местопребывание, вновь строится столькими божественными творениями. Ты будешь полагать, что Римский демон еще силится фатальной рукой вернуть к жизни свои пыльные руины. Древности. XXVII).
В русском переводе (Ю. Н. Верховского) поэт как бы утверждает, что Рим имеет перспективу возрождения:
Знай, – римский демон, искони живой,
Еще силен десницей роковой
Вновь вызвать к жизни прах своих развалин [Поэты Возрождения, 1948. С. 238].
Однако оригинал сонета не дает оснований для такой трактовки. Будущее восстание Рима из праха представлено в сонете не как убеждение автора, но как ожидание, возникшее у воображаемого читателя («Ты будешь полагать…»), впечатленного зрелищем регенеративной активности в городе. Как отметил г. Демерсон, возрождение Рима представлено здесь в «конативной модальности», как сомнительное [Demerson, 1990. P. 171].
Ни германские императоры, ни папы не в состоянии возродить статус Рима как мирового политического и культурного гегемона. Величие Рима ушло навсегда в прошлое. Будущее мира Дю Белле связывает с Францией. Этому чаянью посвящен сонет (Au Roi), который был предпослан всему «триптиху» в качестве предисловия:
Ne vous pouvant donner ces ouvrages antiques
Pour votre Saint-Germain, ou pour Fontainebleau,
Je vous les donne, Sire, en ce petit tableau,
Peint, le mieux que j’ay peu, de couleurs poëtiques: Qui mis sous vostre nom devant les yeux publiques, Si vous le daignez voir en son jour le plus beau, Se pourra bien vanter d’avoir hors du tombeau
Tiré des vieux Romains les poudreuses reliques.
Que vous puissent les dieux un jour donner tant d’heur, De rebastir en France une telle grandeur,
Que je la voudrais bien peindre en votre langage:
Et peut estre, qu’alors vostre grand Majesté, Repensant à mes vers, dirait qu’ils ont esté
De vostre monarchie un bien heureux présage [Du Bellay, 1910. P. 2].
(Не имея возможности даровать вам эти древние творения для вашего [дворца в] Сен-Жермен или Фонтенбло, я даровал вам их, Сир, в этой небольшой картине, написанной, так хорошо, насколько я мог, поэтическими цветами. Каковая, будучи представлена публике под вашим покровительством, если вам угодно воспринять ее с наибольшей благосклонностью, сможет похвалиться, что вызволила из могилы пыльные реликвии древних римлян. Да даруют боги вам столько удачи, чтобы воссоздать во Франции то величие , которое я пожелал изобразить на вашем языке. И, может быть, ваше Величество, в очередной раз поразмыслив над моими стихами, сможет заключить, что они – счастливейшее предзнаменование вашей монархии .)
Г. Демерсон считал, что проект, включавший «Древности Рима», «Сон» и «Сожаления», остался незавершенным и предполагал четвертую часть – сборник сонетов, в которых представлено видение триумфального будущего Франции и христианнейших королей [Demerson, 1990. P. 176]. Как бы то ни было, идея мировой гегемонии Франции отчетливо представлена в этих трех произведениях.
Список литературы Мечта о французской мировой империи и национальное сознание в творчестве Жоашена дю Белле
- Баткин Л. М. Утопия всемирной монархии у Данте (К вопросу о социально-политических взглядах Данте)//Средние века. 1958. Вып. 11. С. 76-105.
- Виппер Ю. Б. Поэзия Плеяды. М.: Наука, 1976. 432 с.
- Геллнер Э. Нации и национализм/Пер. с англ. Т. В. Бердиковой, М. К. Тюнькиной. М.: Прогресс, 1991. 320 с.
- Девятайкина Н. И. Национальная идея в культуре раннего Ренессанса (по сочинениям Петрарки 1350-1370 гг.)//Диалог со временем. 2012. № 39. С. 20-33.
- Доронин А. В. Историк и его миф: Иоганн Авентин (1477-1534). М.: РОССПЭН, 2007. 256 с.
- Корелин М. С. Петрарка, как политик//Русская мысль. 1888. Кн. 8. С. 46-74.
- Малинин Ю. П. Франция в эпоху позднего Средневековья. Материалы научного наследия/Сост., отв. ред. М. В. Аникиев, А. Ю. Карачинский, В. В. Шишкин. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. 452 с.
- Самотовинский Д. В. Открытие Нового Света, триумф книгопечатания и артиллерии, возрождение античного наследия в историко-эсхатологическом сценарии Гийома Постеля//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 8: История. С. 29-38.
- Стаф И. К. «Прекрасные литеры» и национальная гордость французов в эпоху раннего Ренессанса//Русско-французский разговорник, или/ou Les Causeries du 7 Septembre: Сб. ст. в честь В. А. Мильчиной. М., 2015. С. 327-342.
- Bayley C. C. Petrarch, Charles IV, and the «Renovatio imperii»//Renaissance Thought/Еd. by R. Black. London; New York, 2001. P. 154-160.
- Berger S. Building the Nation Among Visions of German Empire//Nationalizing Empires/Eds. A. Miller and S. Berger. Budapest; New York, 2015. P. 247-308.
- Berger S., Miller A. Introduction: Building Nations in and with Empires -a Reassessment//Nationalizing Empires/Eds. A. Miller and S. Berger. Budapest; New York, 2015. P. 1-30.
- Demerson G. Le Songe de J. Du Bellay et les sens des recueils romains//Le songe à la Renaissance: colloque international de Cannes, 29-31 mai 1987/Études réunies et publiées par F. Charpentier. Lyon, 1990. P. 169-178.
- Geary P. The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe. Princeton: Princeton Univ. Press, 2003. 199 p.
- Gouwens K. Remembering the Renaissance: Humanist Narratives of the Sack of Rome. Leiden; Boston: Brill, 1998. 232 p.
- Guenée B. État et nation en France au Moyen Age//Revue historique. 1967. T. 237. P. 17-30.
- Hankins J. Humanism and Platonism in the Italian Renaissance. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2003. Vol. 1. 652 p.
- Helgerson R. Remembering, Forgetting and the Foundation of a National Literature: The Exemple of Joachim Du Bellay//Literature, Literary History, and Cultural Memory. Tubingen, 2005. P. 19-29.
- Maulde-La-Clavière R. de. Louis de Savoie et François Ier, trente ans de jeunesse (1485-1515). Paris: Perrin et Cie, 1895. 428 p.
- Ordinas B. E. «Exempt from time and its fatal change»: Spanish Imperial Ideology, 1450-1700//Renaissance Studies. 2012. Vol. 26. No. 4. P. 580-604.
- Shakoor A. Origins of Modern Europe: Medieval National Consciousness. Delhi: Aakar Books, 2004. 462 p.
- Smith M. Joachim Du Bellay's Veiled Victim. Geneva: Droz, 1974. 124 p.
- Strayer J. France: The Holy Land, the Chosen People, and the Most Christian King//Action and Conviction in Early Modern Europe: Essays in Memory of E. H. Harbison/Eds. Th. K. Rabb and J. E. Seigel. Princeton, 1969. P. 3-16.
- Yates F. A. Charles V and the Idea of the Empire//Yates F. A. Selected Works. London; New York, 1999. Vol. 5: Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century. P. 1-28.
- Zeller G. Les rois de France candidatsà l'Empire: essai sur l'idéologie impériale en France//Revue Historique. 1934. T. 173. Fasc. 2. P. 273-311.
- Дю Белле Ж. Защита и прославление французского языка/Пер. А. Михайлова и М. Толмачева//Эстетика Ренессанса: В 2 т. М., 1981. Т. 2. C. 236-307.
- Поэты Возрождения/Пер. Ю. Н. Верховского. M.: Госполитиздат, 1948. 291 c.
- Alamanni L. Di Girone il cortese. Venezia: G. Antonelli, 1836. 542 p.
- Du Bellay J. Discours au Roi Francois II, sur le faict de ses quatre estats//Les poëtes françois depuis le XIIe siècle jusqu'à Malherbe: avec une notice historique et littéraire sur chaque poète. Paris: Crapelet, 1824. T. 4. P. 88-114.
- Du Bellay J. La Défense et Illustration de la langue française; suivie du projet de l'œuvre intitulée: De la précellence du langage français, par Henri Estienne/éd. par L. Humbert. Paris: Garnier, 1914. 591 p.
- Du Bellay J. Oeuvres completes/éd. par L. Séché. Paris: Revue de la Renaissance, 1907. T. 2. 386 p.; 1910. T. 3. 420 p.; 1913. T. 4. 412 p.
- La Haye J. de. A tresillustre et treschrestienne princesse Madame la princesse de Navarre//Marguerite d'Angoulême. Les Marguerites de la Marguerite des princesses: texte de l'édition de 1547/éd. par F. Franc. Paris, 1873. Т. 1. P. 3-11.
- Tory G. Champfleury au quel est contenu lart & science de la deue & vraye proportio des lettres attiques… Paris: G. Tory & G. Gourmont, 1529. 160 p.