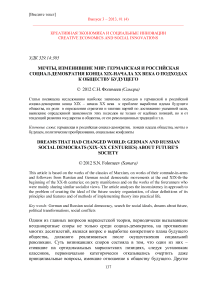Мечты, изменившие мир: германская и российская социал-демократия конца XIX-начала ХХ века о подходах к обществу будущего
Автор: Фоломеев Сергей Николаевич
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Исторические и социологические интерпретации
Статья в выпуске: 1 (4), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию наиболее значимых подходов в германской и российской социал-демократии конца XIX - начала ХХ века к проблеме выработки идеала будущего общества, их роли в определении стратегии и тактики партий по достижению указанной цели, выявление определенной зависимости этих подходов не только от идейных позиций, но и от тенденций развития государства и общества, от его революционных традиций и т.п.
Германская и российская социал-демократия, поиски идеала общества, мечты о будущем, политические преобразования, социальные конфликты
Короткий адрес: https://sciup.org/14238942
IDR: 14238942 | УДК: 329.14:305
Текст научной статьи Мечты, изменившие мир: германская и российская социал-демократия конца XIX-начала ХХ века о подходах к обществу будущего
Одним из главных вопросов марксистской теории, периодически вызывавшем неоднократные споры не только среди социал-демократов, на протяжении многих десятилетий, являлся вопрос о выработке конкретного плана будущего общества, должного реализоваться после осуществления социальной революции. Суть возникавших споров состояла в том, что одни из них – стоявшие на ортодоксальных марксистских позициях, следуя установкам классиков, первоначально категорически отказывались очертить даже принципиальные вопросы, имевшие отношение к обществу будущего. Другие
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS представители этого лагеря использовали образ будущего исключительно в пропагандистских целях. Третьи, отстаивали необходимость хоть немного приоткрыть светлый образ будущего, хотя бы в общих чертах сформулировав идеал социалистического общества. Четвертые, не отрицая возможности построения социализма в принципе, пытались взглянуть на этот процесс с действительно научных позиций, опираясь на современные данные экономики, статистики и других наук.
Сторонники реформистского крыла социал-демократии в большей степени стремились опереться на практическую деятельность по защите экономических и социальных интересов пролетариата и близких к нему слоев трудящихся, приближая, таким образом, эпоху социализма. Позиция противников социалистического учения по этому вопросу варьировалась от жесткой критики и издевательства по поводу отсутствия единства мнений в лагере социал-демократов до доброжелательных попыток объективно разобраться в возможных перспективах социалистического общества. В силу этого, целью данной статьи является рассмотрение наиболее значимых подходов, сложившихся в социал-демократическом лагере к проблеме будущего социалистического общества, их роли в определении стратегии и тактики партий по достижению указанной цели, выявление определенной зависимости этих подходов не только от идейных позиций, но и от тенденций развития государства и общества, от его революционных традиций и т.д.
Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса стали неким эталоном для их последователей в вопросе определения подходов к обществу будущего и путей его достижения. Как указывает в своей книге Ж. Сорель, ссылаясь на Э. Бернштейна, К. Маркс писал в письме своему другу Э.С. Бизли – профессору истории, одному из видных английских социалистов, автору статьи о будущем рабочего класса, «что он недавно еще считал его единственным английским революционером, а теперь считает реакционером», так как «всякий человек, создающий программу будущего, есть реакционер». По мнению Ж. Сореля, К. Маркс был убежден, «что пролетариату незачем следовать урокам ученых изобретателей социальных фантазий, а прямо идти по путям, указанным самим капитализмом. Не нужно никаких программ будущего, сама фабрика есть уже осуществление программы» [41, с.65-66].
Подобную мысль мы встречаем и у Ф. Энгельса в его работе «АнтиДюринг». Давая оценку деятельности социалистов-утопистов, он указывал, что они «были утопистами потому, что ... не могли быть ничем иным в эпоху, когда капиталистическое общество было еще так слабо развито. Они
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS принуждены были конструировать элементы нового общества из своей головы, ибо эти элементы еще не вырисовывались ясно для всех в недрах самого старого общества». Продолжая эту мысль далее, он подчеркивал, что «средства для устранения осознанного зла должны заключаться в более или менее развитом виде в самих изменившихся условиях производства» [53, с.251252].
Еще одним подтверждением достоверности изложенных выше соображений, их соответствия идеям К. Маркса служит работа В.И. Засулич «Элементы идеализма в социализме». Ссылаясь на труды К. Маркса, опубликованные в «Архиве» Брауна, В.И. Засулич утверждает, что он рассматривал социализм как «безличный процесс постепенного усовершенствования капиталистического общества», который «совершенно немыслим как результат направленного к определенной цели действия реального, имеющего объединенную волю исторического субъекта – пролетариата»[16, с. 4].
Привычку К. Маркса к «сжатым формулам» Ж. Сорель объясняет его «ограниченным личным опытом», который «не позволил ему в подробностях уяснить себе те средства, которыми пролетариат может воспользоваться для революции». Именно поэтому, по словам Ж. Сореля, К. Маркс «избегал употреблять слишком конкретные формулы ..., найдя в германской философии способ отвлеченного ... выражения, позволившего ему избегать всяких подробностей» [41, с.67].
Эти соображения в целом соответствуют идеям, изложенным К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии», совпадают с их постулатом об объективной исторической неизбежности крушения капитализма и установления социализма. Организованный и сознательный пролетариат является лишь ускорителем этого процесса.
Указания на фатальную историческую неизбежность грядущего крушения капитализма можно найти в работах ярой сторонницы идей К. Маркса, представительницы леворадикального крыла немецкой социал-демократической партии Р. Люксембург. В своей статье «Чего мы хотим?» она отмечает, что «социалистический переворот является той желанной целью, к которой общественный прогресс направляется с неумолимой силой. И для ускорения этого момента нужно только то, чтобы рабочий класс всех стран возможно точнее уяснил себе, каким способом, какими путями он должен выполнить эту задачу» [33, с. 1].
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
В этой же работе Р. Люксембург так же, как и К. Маркс, указывала на невозможность определения черт будущего общества. «Представить себе во всех подробностях, как будет выглядеть социалистический строй, невозможно, и все попытки такого рода основываются на фантазии» [33, с.9]. Но при этом она называет его «главные основы», к которым причисляет принадлежность всех средств производства обществу, общественное управление производством, «устранение продажи рабочей силы частным эксплуататорам и исчезновение на этой основе всякого социального неравенства». Указывает она и некоторые пути достижения этого идеала: «производство для всего общества по единому общему плану», «управление только из одного центра власти, … имеющего в своем распоряжении силу и надлежащие средства», «захват неограниченной власти в государстве» рабочим классом и установление его диктатуры. При этом она подчеркивает, что такая власть необходима «не для того, чтобы создать новую форму господства и гнета, а только для того, чтобы раз и навсегда уничтожить всякий гнет и всякое господство» [33, с.9,15]. И далее она с пафосом восклицает: «Диктатура пролетариата будет последним случаем употребления насилия в человеческой истории вообще и первым случаем употребления его на пользу широкой массы обездоленных» [33, с.15].
Сегодняшний опыт и знание того, как развивались последующие события с осуществлением этого идеала (в том числе в нашей стране), указывают на существенное расхождение того, что декларировалось в программных документах коммунистов, и того, что происходило в реальности. Указания на фатальную неизбежность наступления социализма и необходимость ускорить этот процесс с помощью диктатуры пролетариата, на невозможность определить существенные черты будущего общественного идеала и более чем детальная проработка силовых способов завоевания власти и реализации этих установок должны были бы насторожить сознательные слои общества, вызвать недоверие к такой политике. Однако и другие радикальные проекты преобразования общества немногим отличались от марксистского.
Ближайший друг и единомышленник К. Маркса и Ф. Энгельса А. Бебель в своей работе, посвященной Ш. Фурье, видел главное средство приближения нового общества в том, чтобы «расчистить путь для развития, чтобы удалить всё устарелое и вымершее, облегчить конец вымирающему, и в этих целях направлять критическое исследование против всех тех пунктов, где появляется зло. Люди, применяющие критику, должны указать причины, вызвавшие зло. Когда причины установлены, не замедлят сами собой явиться и средства лечения» [7, с. 39]. Развивая мысль А. Бебеля, ближайший соратник по партии В. Либкнехт
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS конкретизировал его высказывания в своей речи на Эрфуртском съезде партии в 1891 г.: «Корень зла заключается именно в том факте, что средства производства составляют частную собственность; как необходимым и естественным следствием этого факта является эксплуатация…Отсюда возникает и развивается экономическая зависимость, экономическая эксплуатация, а от них – политическая зависимость, порабощение в разной форме…Лишь устранение причин, лишь уничтожение частной собственности, лишь уничтожение всего современного способа производства благ, может положить конец эксплуатации и порабощению» [32, с. 42,44]. Таким образом, и тот и другой, в соответствии с заветами К. Маркса видели перед собой лишь функцию отрицания существующего, функция же созидания будущего в расчет не принималась. «Так называемое «государство будущего», по поводу которого нас так высмеивают и основы которого мы можем набросать сейчас…лишь в самых общих чертах, является необходимым, неизбежным следствием современного капиталистического государства,, подобно тому, как социалистическое производство есть необходимое следствие и результат современного капиталистического производства…Социализм есть следствие современного капитализма; социалистическое государство будет преемником и наследником капиталистического государства…Социализм, поэтому есть социальная необходимость» [32. с.45,46]. Это не помешало А. Бебелю и В. Либкнехту выйти за предписываемые пределы и заняться обсуждением проблем будущего общества в своих пропагандистских работах [Бебель А. Женщина и социализм; Будущее общество; Социализация общества; Либкнехт В. Социализм и культура].
Не намного дальше Р. Люксембург, А. Бебеля и В. Либкнехта продвинулся в определении черт будущего социалистического общества и ближайший сподвижник и ученик К. Маркса – К. Каутский. Первоначально он однозначно утверждал, «что не наше дело – ломать себе голову над рецептами для кухмистерской будущего» [23, с.11]. Однако жизнь неумолимо ставила эти вопросы на повестку дня. Другие руководители германской социал-демократии и её рядовые члены требовали включения в партийную программу положений, которые указывали бы путь перехода от капитализма к социализму. Категорически выступая против внесения в программу подобных положений, К. Каутский «считал неправильным предписывать партии уже теперь определенный образ действий на случай такого события, которого мы себе не представляли, лишь смутно предчувствуя его, и которое будет заключать в себе очень много неожиданного для нас» [23, с.11].
Отвергал он и любые попытки увидеть в его произведениях некие черты общества будущего. В своей работе «Революционные перспективы
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
(Добавление к «Социальной революции»), написанной в 1904 г., он также как и ранее писал: «Нередко в моих произведениях видели утопию, построение социалистического государства будущего, модель которого я составил для будущих поколений. Но я вовсе не имел намерений дать руководство для того времени, которое будет обладать более ясным взглядом на все социальные вопросы, чем каким мог бы обладать теперь наиболее прозорливый провидец, так как тогда мы будем обладать всем тем опытом, который будет приобретен с настоящего времени до эпохи революции…» [21, с.1]. Будущее общество К. Каутский неразрывно связывал с завоеванием пролетариатом политической власти: «…Если же пролетариат получит политическую власть, то отсюда социализм вытекает сам собой» [21, с.3]. Таким образом, «путь по которому она (социал-демократия – С.Ф.) пойдет для выполнения своей программы, как только она завоюет политическую власть, отчасти указан уже в этой программе. Поскольку же он не указан в ней, он зависит от целого ряда факторов, которых нельзя ещё познать, размышлять о которых теперь было бы бесцельным мудрствованием» [21, с.4].
В работе «Представительное правление», говоря о чрезвычайной важности с практической точки зрения вопроса о парламентаризме, К. Каутский заявляет, что «…нас очень мало занимает вопрос о том, будет ли непосредственное народное законодательство возможным, необходимым или желательным в государстве будущего. Когда пролетариат достигнет политической власти, то в своих мероприятиях и установлениях он станет руководствоваться фактическими отношениями, какие он застанет в момент победы, и с которыми он будет соображаться; он станет поступать сообразно своим потребностям, средствам и пониманию, а не сообразно желаниям и требованиям, какие формулировали бы современные политики, оставаясь на современном положении, современных потребностях, средствах и понимании» [19, с.6]. В другой своей работе «Интеллигенция и социал-демократия» (эта же работа издана под другим названием «Интеллигенция и пролетариат». Пер. с нем. М. Левина.– Одесса: Книгоизд-во «Демос», 1905. – 48 с.) К. Каутский еще более безапелляционно утверждал, что «социал-демократия, как известно, решительно отклоняет от себя задачу построения схемы, по которой можно было бы создать «государство будущего»; она не может также и устанавливать шаблона для организации пролетарского движения в настоящем или ближайшем будущем» [20, с.3]. Как это ни парадоксально, но именно ортодоксальный марксизм в лице его классиков и ревностных последователей и устанавливал эти шаблоны.
И в этих своих произведениях по вопросу о государстве будущего К.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Каутский ни на шаг не отступил от завещанного К. Марксом и Ф. Энгельсом. Следует отметить, что начало ХХ века – это период, когда после смерти К. Маркса и Ф. Энгельса К. Каутский стал признанным авторитетом, одним из влиятельнейших вождей не только германской, но и международной социал-демократии, непоколебимо стоявшим на позициях ортодоксального марксизма. Это накладывало на него определенные обязательства. Однако и противники, и соратники все настойчивее требовали дать хоть какую-то характеристику будущего общества. И К. Каутский оказался вынужденным более детально высказаться по этому вопросу. В своем предисловии к 5-му изданию своей работы «Эрфуртская программа (Комментарий к принципиальной части)» он отмечал, что «прежние издания настоящего сочинения устарели во многих пунктах уже по чисто формальным причинам». Основанием для таких выводов, по мнению К. Каутского, был устаревший статистический материал. «Но не устарели иллюстрации к ходу мысли…Я тщательно проверил настоящую книгу и с этой точки зрения, но мне не пришлось внести сколько-нибудь существенных изменений…». Эти слова К. Каутского относятся к маю 1904 г. [22, с.6,9]. В этом произведении К. Каутский был вынужден обстоятельно высказаться о государстве будущего. «Наши противники заявляют, что социалистическая ассоциация могла бы только тогда быть признана осуществимой и стать целью стремлений разумных людей, если бы существовал её план, разработанный, исследованный и признанный полезным и выполнимым. Ни один разумный человек не начнет постройки, прежде чем не будет готов план, одобренный сведущими людьми. Меньше всего он мог бы согласиться, не имея такого заранее выработанного плана, разрушить своё единственное жилище, чтобы освободить место для этого дома. – Следовательно, мы должны выступить с планом «государства будущего»…Если же мы его скрываем, то это является доказательством, что мы сами хорошо не знаем, чего хотим и не твердо верим в наше дело. Действительно, это звучит очень убедительно, настолько убедительно, что не только наши противники, но даже многие среди наших социалистов настаивали на необходимости подобного плана. И в самом деле, его следовало бы считать необходимым условием нового общества до тех пор, пока не знали законов общественного развития и полагали, что общественные формы строятся так же произвольно, как и дома» [22, с.114]. Исходя из этого «разработка плана устройства «государства будущего», в настоящее время не только бесцельна, но она несовместима более с современной научной точкой зрения» [22, с.118]. Более того, «история человечества, в конечном счете, определяется не идеями людей, но экономическим развитием, которое непреодолимо движется вперед, следуя определенным законам, но не желанием и капризами людей… Не мыслители, 143
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS не философы определяют направление общественного прогресса, но оно дается экономическим развитием» [22,с.118]. Далее он говорит о невозможности познания направления исторического процесса, о чрезвычайной сложности механизма человеческого общества, о невозможности с достоверностью предвидеть те общественные формы, которые являются результатом борьбы эксплуататоров и эксплуатируемых. Именно поэтому «набрасывать… «положительные проекты» для организации государства будущего было бы также почти полезно и глубокомысленно, как заранее писать историю предстоящей войны» [22, с.118-120]. Он подчеркивал, что «новая общественная форма осуществится не в силу того, что отдельные, особенно хитрые умы разрабатывают план наилучшего устройства этой общественной формы, что они постепенно убеждают других в полезности этого плана и, получив в свои руки необходимую власть, приступают со всеми удобствами к возведению и устройству по этому плану социального здания» [22, с.118-119].
Это относится не только к выдающимся личностям, но и к партиям. «Ещё никогда не было такого случая во всемирной истории, чтобы какая-либо революционная партия могла только предвидеть, – не говоря уже о том, чтобы произвольно определить, – какие формы примет новое общество, к которому она стремится. Для дела прогресса было уже большим выигрышем, если такой партии удавалось познать те тенденции, которые вели к этому обществу… Нельзя требовать большего также и от социал-демократии» [22, с.120]. И здесь К.Каутский скромно ставит социал-демократическую партию Германии на один уровень с другими партиями, чтобы отвести от неё неоправданные, с его точки зрения, претензии в отсутствии плана будущего общества. Но чуть далее он с пафосом восклицает, что «ещё никогда не существовало партии, которая так глубоко исследовала бы и так точно понимала бы общественные тенденции своего времени, как социал-демократия» [22, с.120].
Забыв о только что изложенной им самим невозможности познания путей общественного развития выдающимися личностям и партиями [22, с.121], К. Каутский возвещает, что «Капитал» Маркса сделался, по общему признанию, поворотным пунктом современной экономической науки…Если какой-либо мыслитель может познать тенденции экономического развития своей эпохи, то он не может предвидеть тех форм, в которых получат своё выражение эти тенденции» [22, с.121]. Однако при всем уважении к К. Марксу данный довод К. Каутского ничего не проясняет относительно планов и перспектив развития общества с точки зрения марксизма. Однако авторитет К. Маркса и
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS его учения, видимо, дает основание К. Каутскому с негодованием и пафосом одновременно восклицать: «Если социал-демократия отказывается выкладывать для ознакомления почтеннейшей публики какой-либо проспект государства будущего, то буржуазные писатели не имеют никакого повода над этим издеваться и заключать отсюда, что мы не знаем, чего хотим. Социал-демократия яснее предвидит будущее, чем в свое время предвидели пионеры современного общественного строя, – экономисты и просветители» [22, с.121].
В другой своей работе, также посвященной Эрфуртской программе, К. Каутский с ещё большей страстью утверждает: «Мы…полагаем, что ни одна партия не сознает так ясно своей цели, как именно рабочая партия. Да разве вообще какая-нибудь другая из существующих партий имеет цель? Все они крепко держатся за существующее и, хотя видят, что это настоящее несостоятельно и невыносимо, их программы всё-таки заключают в себе лишь немногие паллиативные меры, посредством которых они обещают и надеются поддержать несостоятельное и сделать сносным невыносимое. Рабочая же партия, напротив, строит свою программу не на надеждах, не на обещаниях, а основывает её на законах неумолимой необходимости экономического развития» [18, с.98]. И здесь К. Каутский, не приводя каких-либо доказательств более ясного осознания своих целей социал-демократами, голословно отрицая существование таких целей у политических противников и вообще критиков догмы, уходит от ответа на поставленный вопрос, переходя к критике несогласных. Но такой подход к вопросу абсолютно ничего не добавляет к его прояснению. А ведь именно этого, по его словам, и добивается К. Каутский. Кроме того, упрекая оппонентов в попытках «поддержать несостоятельное и сделать сносным невыносимое», К. Каутский противоречит сам себе, т.к. в гл.1 и 3 данной работы именно он указывает на неуклонное развитие капиталистического производства, вытеснение им отживших хозяйственных форм, именно через дальнейшее развитие капитализма, совершенствование его хозяйственного механизма лежит путь в социализм и т.д.
Возвещенная К. Каутским надежда на то, что социал-демократия глубже остальных партий исследовала тенденции общественного развития, должна иметь под собой какое-то основание. Однако К. Каутский о нём скромно умалчивает. Более того, он вскоре опровергает и свои прежние логические построения, утверждая, что «если мы отвергаем требование создать какой-либо план «государства будущего» и правила перехода к нему, то этим мы хотим сказать, что и вообще считаем бесполезным или даже вредным всякое
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS размышление о социалистическом обществе. Это значило бы выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка. Вредно и бесполезно только сочинять определенные положительные проекты основания и организации социалистического общества. Проекты определенного преобразования общественных отношений можно создавать только для таких областей, которые в смысле времени и пространства входят в круг нашего познания и воздействия. Следовательно, социал-демократия может создавать положительные проекты лишь для современного общества, но не для будущего. Проекты, которые выходят из этих пределов, должны считаться не с фактами, а только с вымышленными предположениями, и, следовательно, являются плодами фантазии, мечтами, которые в лучшем случае остаются безрезультатными. Если виновником таких проектов является человек талантливый и достаточно энергичный, чтобы произвести некоторое действие на умы, то оно может выразиться только в совращении с верного пути и расточении сил» [22, с.122]. Такой подход к решению вопроса никак не указывает на то, что социал-демократия глубже всех других партий познала тенденции общественного развития, поскольку другим партиям также по силам создавать положительные проекты для современного общества. Чем же тогда рабочая партия отличается от других партий? Кроме того, она не раз заявляла, что только она исследует общественные процессы с научных позиций. Значит ли это, что другие партии исследуют их, не руководствуясь научным подходом?
Расписаться в собственном бессилии, недальновидности классиков марксизма и теоретиков социал-демократии в исследовании тенденций общественного развития, лежащих вне пределов дня сегодняшнего, было бы верхом непозволительного для К. Каутского, который вынужден был заявить, что «с такими мечтами, с которыми следует решительно бороться, напротив не нужно смешивать попыток исследовать, какое направление примут тенденции экономического развития, как скоро это последнее будет перемещено с капиталистической основы на социалистическую. Здесь дело идет не об изобретении «рецептов для кухни будущего», но о научной переработке данных, которые стали известными на основании научного исследования определенных фактов. Исследования такого рода далеко не бесполезны, ибо, чем яснее мы можем предвидеть будущее, тем целесообразнее будем мы применять свои силы в настоящем» [22, с.122]. И все-таки, К. Каутский с множеством оговорок и зигзагов мысли, противореча самому себе и классикам марксизма, оказался вынужденным заговорить об исследовании будущего.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Под влиянием критики соратников по партии К. Каутский все более склонялся к необходимости «исследовать те проблемы, которые должны выдвинуться перед нами после завоевания политической власти пролетариатом». Данный процесс он стал рассматривать как «полезную работу мысли, способствующую выработке более ясных и устойчивых политических взглядов». Такая работа имела значение, по его мнению, и с точки зрения пропаганды, так как «противники утверждают, что наша победа поставила бы нас лицом к лицу с неразрешимыми задачами» и вселила бы уверенность в ряды собственной партии, так как некоторые ее члены «изображают в самом мрачном виде последствия нашей победы: день победы, говорят они, будет для нас вместе с тем и днем поражения» [23, с.11-12].
Для того, чтобы прийти к определенным результатам и не «потеряться в безбрежном море фантазий», К. Каутский предлагает исследовать «выдвигающиеся проблемы в простейшей их форме, в какой они никогда не предстанут перед нами в действительности, и оставить в стороне все осложняющие дело обстоятельства». При этом он ссылался на подобные методы исследования, практикующиеся в науке, не забывая при этом, «что в действительности дело обстоит не так просто и идет не так гладко, как в абстракции» [23, с.12]. Рассуждая подобным образом, он приходит к заключению, что «только таким путем и можно вообще прийти к каким-либо определенным научным выводам относительно видов на успех социальной революции» [23, с.13]. Продвигаясь к цели другим путем, «нельзя сказать ничего определенного ни за, ни против».
Признавая некоторую логику в рассуждениях К. Каутского, нельзя не отметить определенной легковесности подхода при рассмотрении важнейших проблем общества. Если неудавшийся научный эксперимент в большинстве случаев можно повторить, изменить условия его реализации, приняв во внимание абстрагирование исследователя от ряда, по его мнению, второстепенных факторов, то подобный подход не применим к решению сложнейших общественных задач: его издержки могут быть чрезвычайно высоки, а последствия грозят обществу социальной катастрофой.
Несогласие с подобной точкой зрения К. Каутского высказывает и проф. М.И. Туган-Барановский, известный русский экономист, имевший в молодости непосредственное отношение к революционному марксизму. В своей работе «Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма» он метафорически сравнивает идеал со звездой, «по которой в ночную пору заблудившийся путник выбирает дорогу». Особенность идеала состоит в том,
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS что путник «никогда не приблизится к удаленному на неизмеримое расстояние светилу», и далекая прекрасная звезда не заменит «прозаический и вполне доступный фонарь под руками» [45, с.71]. «Если идеал можно сравнить со звездой, то наука играет роль фонаря. С одним фонарем, не зная куда идти, не выйдешь на истинную дорогу; но и без фонаря ночью рискуешь сломать себе шею. И идеал и наука в равной мере необходимы для жизни. Идеал дает нам верховные цели нашей деятельности; наука указывает средства для осуществления этих целей и снабжает нас верным критерием для определения, что и в каких целях, и в какой мере, в какое время осуществимо» [45, с.72].
Отказ от научного подхода к достижению идеала противоречит собственным рассуждениям классиков марксизма. В известной работе Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» утверждается, что К. Маркс превратил утопию в науку [54, с.102-167]. Отсюда, по мнению М.И. Туган-Барановского, возникло «пренебрежение многих марксистов к «социальному идеализму», место которого заняло «понимание законов общественного развития» [45, с.254]. К. Маркс, по утверждению М.И. Туган-Барановского, пытается поставить на место социального идеала социальное предвидение. Но «познание будущего навсегда обречено быть частичным, оставляя, таким образом, широкий простор для нашей воли» [45, с.257]. Именно поэтому «возможно полное предвидение будущего есть лучшее оружие в борьбе за социальный идеал!.. Не социальное предвидение, а социальный идеал является верховным вождем в социальной борьбе» [45, с.257]. «Без энтузиазма, без бескорыстного, религиозного подчинения себя, своей личности, всех интересов, всей своей жизни чему-то более высокому, чем мы сами, нельзя достичь великих социальных целей... А только идеал может порождать энтузиазм» [45, с.258-259]. Увы, тогда М.И. Туган-Барановскому еще не было известно, что подобные подходы могут привести не только к освобождению общества и личности от насилия и угнетения, но и к тоталитарному государству.
Испытывая симпатии к идеям социализма и не будучи скован постулатами ортодоксального марксизма, М.И. Туган-Барановский посвятил различным аспектам будущего социалистического общества ещё ряд своих работ [Туган-Барановский М.И. В поисках нового мира; К лучшему будущему; Современный социализм в своем историческом развитии; Социализм как положительное учение].
Далеко не все представители социалистического лагеря отказались от исследования различных аспектов будущего общества. В разное время вышли
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS работы И. Дицгена [15], Штерна М. [52], Шеффле А. [51],Вандервельде Э. [12], носившие как исследовательский, так и пропагандистский характер.
Отказ от уяснения идеала будущего общества мы встречаем и в совместной работе Карла Каутского и Бруно Шёнланка. Обращая первостепенное внимание на развитие классовой борьбы, увеличение силы и влияния пролетариата, его воздействия на крестьян и ремесленников, борьбе против эксплуатации, то есть текущим задачам социал-демократии, в ней отвергается построение планов будущего общества [35, с.45].
В работе К. Каутского «Путь к власти» (впервые издана в 1909 г.) высказывается точка зрения, развивающая и дополняющая позицию К. Маркса об обществе будущего. В главе 3 данной работы, озаглавленной «Врастание в государство будущего», К. Каутский так же, как и К. Маркс, не идет по пути конкретизации черт будущего общества, указывая вместе с тем на объективно и неизбежно осуществляющийся процесс трансформации капитализма в социализм. По его мнению, этот процесс имеет двойственный характер. С одной стороны, подготовление социализма осуществляется благодаря концентрации капитала, а с другой – через рост и организацию рабочего класса. Таким образом, «врастание в социализм есть только другое выражение постоянного обострения классовых противоречий, врастание в эпоху великих и решительных классовых битв, которые мы называем социальной революцией» [24, с.27-29].
С несколько иных позиций к осмыслению общества будущего подошел латышско-немецкий экономист Атлантикус – Карл Баллод (Баллодис), симпатизировавший марксизму. Он подчеркивал, что «несомненно, марксизм обладает огромной силой веры,…должен был оказывать, благодаря детерминистической основе своего характера, прямо таки чарующее впечатление на последовательных холодных мыслителей». Неверующим вполне можно было ответить словами В. Либкнехта, высказанными им в ответ Ф. Штумму в одном из заседаний германского рейхстага зимой 1894 г., потребовавшему разъяснений по поводу плана организации будущего общества. В. Либкнехт сказал ему: «Вопрос о будущем государстве принадлежит к числу тех, на которые отвечать может только глупец!» [5, с.13].
Отмечая несомненное влияние марксистской идеологии на осмысление проблем общественного развития, Атлантикус также подчеркивал, что «марксизм впадает в ту ошибку, что, будучи последовательно продуманным, он ведет к фатализму, и его приверженцы обречены на духовное бесплодие. Как верующему протестанту дана лишь библия, так и настоящему марксисту наперед точно определена та область, в
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS пределах которой он только и может производить исследования. Исследования же относительно возможности осуществления социализма, относительно организации труда в социалистическом обществе являются совершенно излишними. Всякий прогресс совершается в силу естественной необходимости и даже самой социал-демократической партии отводится лишь роль акушера при рождении нового общества. Всякое действительное исследование, всякие споры в области социального вопроса ведут уже к нарушению целостности основной мысли марксизма» [5, с.14].
Критические выступления буржуазных ученых в адрес социал-демократов и их видение общества будущего мало волновали марксистов. Их негодование вызывали выступления несогласных из собственного лагеря (Э. Бернштейна и др.). Как отмечает Атлантикус, «марксизму частью его прежних приверженцев был нанесен удар в самое его основание, он был потрясен до корня» [5, с.15]. Буржуазный мир ликовал. Некоторые из социал-демократов встали на сторону Э. Бернштейна. Возражениям К. Каутского придавали гораздо меньше внимания. «Ортодоксальный марксизм настолько лишился доверия, что его представителям часто не доверяли даже в тех случаях, когда они были правы» [5, с.16].
Выступления ревизионистов Атлантикус также не переоценивал. «Великое значение ревизионизма состоит в том, что он восстал против догматизма и априористических основных положений марксизма. Сами же ревизионисты не сумели создать ничего нового; и они тоже способны только разрушать, только низвергать старых богов. Но и это им не всегда удается: очень часто они вместе с водой выплескивают ребенка из ванны» [5, с.15].
Изучая работы К. Маркса, произведения представителей ревизионизма и ортодоксального марксизма, Атлантикус «пришел к тому убеждению, что совершенно не стоит бороться за такое будущее, о котором даже самые выдающиеся его защитники могут сказать только, что оно рано или поздно наступит вследствие естественной необходимости и будет иметь последствием своим полное разрушение всего существующего. При таком положении вещей самый злейший враг народа и эксплуататор мог быть марксистом, не отступая при этом ни на шаг от своих враждебных народу мыслей и действий. Как только может все возрастающее обнищание масс дать уверенность в том, что когда-нибудь все же будет лучше» [5, с.18].
Сочинения утопистов и антиутопистов также не удовлетворили его. Критический разбор этих произведений едва не отвратил Атлантикуса от идей социализма. В результате он пришел к мысли сделать попытку синтеза социального государства.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Критически исследуя идеологию марксизма он дошел до того, что «вполне сознательно преследовал намерение установить, возможно ли существование социализма и без марксизма?» [5, с.22]. Это намерение он реализовал в своей работе «Государство будущего. Производство и потребление в социальном государстве», построенной на собранном в течение нескольких лет и критически проверенном материале [4]. За подобную постановку вопроса он подвергся жесткой критике в социал-демократической печати (Vorwarts, 1898, № 10). Оппонент назвал его работу «настолько же мало научной, как и сочинение теолога о жизни после смерти» [5, с.20]. Однако это не помешало К. Каутскому, подчеркивавшему своё несогласие с позицией автора, дать положительную оценку данной работе Атлантикуса, снабдить её своим предисловием и рекомендовать издателю «Neue Zeit» выпустить её отдельной брошюрой. В частности К. Каутский отмечал, что «автор…стоит отнюдь не на нашей точке зрения…, несомненно, гораздо больше приближается к Антону Менгеру, чем к Карлу Марксу; он неоднократно критикует в своём труде, как отдельных марксистов, так и всё наше направление в целом. Но, несмотря на все разногласия с нами, он все-таки – социалист…Нам было бы, однако, очень жаль, если бы она вовсе не появилась в печати» [20, с.1].
В создавшихся условиях Атлантикус вполне оправданно ставит вопрос следующим образом: « Теперь, более, чем когда-либо, своевременно предпринять пересмотр господствующих научных воззрений на социализм, не забывать наряду с критикой марксизма, и критику социалистических ревизионистов и, идя далее, исследовать вопрос о том, должен ли социализм вообще быть похоронен в том случае, когда марксизм окажется целиком или в частях мертвым и о том, возможен ли синтетический или какой-нибудь иной научный социализм…Возможно, что лет через 20 социал-демократы достигнут большинства. Что же тогда? Ведь слишком слабым является утешение, если хотят им удовлетвориться, что даже в случае победы soci погибнут когда-нибудь от собственной духовной немощи. Ведь в течение десятилетий, а, может быть, и столетий невозможно будет сгладить тех морально-психологических и материальных потерь, которые повлекли бы за собой победа со следующим за нею банкротством социалистов» [5, с.24].
Удивительно своевременно и актуально эти слова звучат в современной России, в полной мере несущей ответственность за тот «социализм», который был создан как в нашей стране, так и в других стран социалистического лагеря, за дискредитацию идеи построения нового, справедливого общества, не основанного на эксплуатации человека. К сожалению, исторический и юридический суд над сталинизмом в нашей стране так и не состоялся до сих пор, а его наследники предпринимают различные попытки оправдать совершенные преступления, всячески препятствуя действительной демократизации страны.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Опасения Атлантикуса, тревожившие его душу, были не напрасны. Многие из сторонников и последователей марксизма и тогда, и сейчас рассматривают его как удобную возможность, манипулируя интересами трудящихся и рядясь в тогу их защитников, пробраться к власти, вовсе не намереваясь представлять и защищать их интересы. И это не удивительно. Удивительным является то, что сам Атлантикус определенным образом оказался причастен к созданию той модели социализма, которая впоследствии рухнула и погребла под своими останками надежды миллионов обманутых вождями людей.
Работами К. Баллода (Атлантикуса) интересовался В.И. Ленин, пытаясь осмыслить возможные перспективы построения социализма в нашей стране. В своей статье И.Н. Олегина [34, с.424-426] отмечает, что В.И.Ленин неоднократно обращался к работам Атлантикуса «Производство и потребление в социальном государстве» [27, с.16], «Основы статистики», отмечая как качество приведенных автором статистических данных [27, с.14,48,111], так и их огрехи [27, с.164], изучал его работу «Народное питание в военное и мирное время» [27, с.555]. В феврале 1921 г. В.И. Ленин в своей статье «О едином хозяйственном плане» сравнивал план ГОЭЛРО с расчетами К. Баллода [29, с.342-343], в выступлении на III конгрессе Коминтерна также упоминает К. Баллода в связи с планом ГОЭЛРО [30, с.51], говорит о К. Баллоде в письме к Г. Кржижановскому в связи с рукописью книги А.Л. Горева «Электрификация Франции», подчеркивая значимость работ К.Баллода [31, с.145-146].
В своём предисловии к этой работе Атлантикуса приват-доцент М.В. Бернацкий подчеркивает, что «холодное отношение социал-демократии к «Государству будущего» объясняется политическим оппортунизмом Атлантикуса, его несомненной наклонностью к государственному социализму. Автор считает возможным осуществление своего плана в очень близком будущем и представляет его себе в форме компромисса между различными общественными классами и властью. Мотивом соглашения для правящих и господствующих элементов должна служить выгодность выкупной операции; для «неимущих» – желание избегнуть напрасной траты крови» [11, с.IX]. Казалось бы, ничего особенного в этом нет. Многие либеральные (и не только) политические силы Германии и России того времени рассматривали варианты преобразования общества как определенный компромисс с существовавшей властью. Но М.В. Бернацкий обращает внимание на то положение Атлантикуса, где тот утверждает что, «между государственным социализмом и социализмом демократическим принципиального различия нет» [11, с.Х]. М.В. Бернацкий принципиально не согласен с таким подходом: «Это неверно: та и другая общественно-экономическая концепция зиждется на различных устоях. Существует формальное сходство в смысле устранения индивидуалистической
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS основы хозяйственной жизни; в том и другом случае экономика ведется государством. Но сами-то государства – принципиально различны; и возлагать проведение коренной социальной реформы на современную правительственную машину – это значит вновь надевать заржавленные и иссечённые жизнью рыцарские доспехи Лор. Штейна и Родбертуса. Социализм есть концепция не только экономическая, но и общественно-политическая; рабочее движение, имеющее целью эмансипацию пролетариата, не может замкнуться в рамки чистого экономизма. Более того, чем дальше подвигается вперёд история, тем больше обнаруживается важность политической стороны рабочего движения. Один компромисс влечет за собой целый ряд других: Атлантикус сохраняет постоянное войско, обильно содержит богачей, разрешает в их пользу сверхурочный труд государственных рабочих, не прочь повоевать с Англией из-за колониальных владений…» [11, с.Х]. И, тем не менее, М.В. Бернацкий, также как и К. Каутский, вынужден был признать, что «при всех своих отклонениях в сторону от марксизма, Атлантикус, без сомнения, стоит на социалистической почве» [11, с.XI].
Боязнь марксистов заглянуть в завтрашний день, более полно и тщательно определить черты общества после завоевания пролетариатом политической власти, отмечает и Ж. Сорель – теоретик анархо-синдикализма, в целом разделяющий стратегические установки К. Маркса на необходимость социалистических преобразований в обществе и указывающий, что непосредственный путь к социальной революции пролегает через всеобщую пролетарскую стачку и насилие. В своей работе «Размышления о насилии» он излагает точку зрения К.Каутского на способ организации труда рабочих на другой день после социальной революции. «Если синдикаты имели достаточно силы для того, чтобы заставлять в настоящее время рабочих покидать свои мастерские и приносить большие жертвы во время предпринимаемых против капиталистов стачек, они, несомненно, будут достаточно сильны и для того, чтобы привести снова рабочих в мастерскую и добиться от них прекрасной и правильной работы, раз будет признано, что эта работа необходима в интересах всего общества» [41, с.152]. Указывая на слабость данного умозаключения К. Каутского, Ж. Сорель находит в нем и «кое-что верное»: «...Сила, создающая революционное движение, должна была бы создавать и мораль производителей» [41, с.153].
Ссылаясь на своих старших товарищей из германской социал-демократии, в частности, на пример «Эрфуртской программы», российские последователи марксизма подчеркивали, что «социал-демократия, в противоположность утопическим социалистам, вообще не занимается изготовлением знахарских рецептов и проектов введения социализма, ... изображает лишь те общие
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS тенденции, которые неуклонно ведут к социализму, и выставляет лишь общие принципы социалистического идеала ... и не считает возможным уже теперь чертить детальный план социалистического строя, предоставляя это тем поколениям, которые будут участниками социальной революции» [36, с.14-15]. В силу подобного подхода, программа-максимум РСДРП «определяет лишь общие и основные признаки социалистического строя, ... решительно отказываясь от внесения в программу фантастических картин «будущей жизни», как бы заманчивы они ни были» [36, с. 4,15].
Не следует рассматривать подобный подход российских социал-демократов к вопросу будущего общественного устройства только как некритическое заимствование опыта более развитой в теоретическом отношении и в практике повседневной работы немецкой социал-демократии. Г.В. Плеханов еще в своей работе «Социализм и политическая борьба», выступая за «захват власти в социалистической революции», сознается, что «мы... отнюдь не верим в близкую возможность социалистического правительства в России», а потому не упражняемся «в придумывании социальных экспериментов и вивисекций, исход которых всегда более чем сомнителен» [37, с.330]. В другой своей работе Г.В. Плеханов, говоря о необходимости экспроприации крупных землевладельцев в революционную эпоху, обуславливает постановку вопроса и его решение соотношением общественных сил.: «Говорить о нем теперь преждевременно…» [38, с. 236]. В «Письме г. Г.» – бывшему народоправцу, недавно перешедшему на сторону социал-демократии, Г.В. Плеханов подчеркивает, что в данный момент «ненаучно говорить о будущей форме общества. Об этом мы не можем пока иметь никакого представления. Данные настоящего дают нам на этот счет мало указаний, и мы не можем предвидеть всех изменений в технике и производственных отношениях, которые может нам принести будущее. Догадки же ставить в основе программы совершенно неблагоразумно и может привести к недоразумениям и разочарованиям. Мы можем говорить об ограничении капиталистической эксплуатации, говорить даже (и то ещё вопрос) о её уничтожении, но и только. Но о форме этого идеала мы не имеем права говорить» [39, с. 496].
Тот же подход мы встречаем позднее в работе В.И. Ленина «Государство и революция». Отмечая, что « у Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал «новое общество», В.И. Ленин подчеркивал, что «так как мы не занимаемся сочинением утопических систем будущего общества, то было бы более чем праздным делом останавливаться на этом» [28, с.287, 295].
Таким образом, данный подход не есть слепое копирование политической традиции немецкой социал-демократии, имевшей огромное влияние на
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS формирующуюся российскую социал-демократическую партию. Тем не менее, это влияние было велико. Как отмечает Ю. Стеклов, некоторые представители российского марксизма, указывая на схожесть многих положений партийных программ немецких и российских марксистов, договаривались до того, что считали, будто российская «социал-демократическая программа «добросовестно переведена с немецкого» [43, с.5].
В значительной степени подобный подход к уяснению черт будущего общества у российских социал-демократов объясняется предшествующими российскими леворадикальными традициями. Так, в работе теоретика русского анархизма М.А. Бакунина «Государственность и анархия» «идеалы народа» отделяются от теорий, рожденных вне народного творчества. «То, что мы называем идеалами народа, ничего не имеет подобного с теми политически-социальными схемами, формулами и теориями, выработанными помимо народной жизни, досугом буржуазных ученых или полуученых и предлагаемыми милостиво невежественной народной толпе, как необходимое условие их будущего устройства. Мы не имеем ни малейшей веры в эти теории, и самые лучшие из них кажутся нам прокрустовыми кроватями, слишком узкими для того, чтобы охватить могучее и широкое раздолье народной жизни» [6, с.38].
Отказывая науке в возможности «угадать формы будущей общественной жизни», он признает за ней «только отрицательные условия», вытекающие из «строгой критики существующего общества». «Поэтому никакой ученый не в состоянии научить народ, не в состоянии определить даже для себя, как народ будет и должен жить на другой день социальной революции» [6, с.39]. Это определится положением народа и теми стремлениями, которые в нем проявятся, а «не руководствами и мнениями сверху и вообще никакими теориями, выдуманными накануне революции». «Если народ не выработает сам из себя этого идеала, то никто не будет в состоянии ему его дать. Вообще нужно заметить, что никому – ни лицу, ни обществу, ни народу – нельзя дать того, что в нем уже не существует не только в зародыше, но даже в некоторой степени развития» [6, с.43]. «Нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое умственное или нравственное содержание, новую истину и произвольно дать его жизни новое направление или, как утверждал тридцать шесть лет тому назад покойный Чаадаев, говоря именно о русском народе, писать на нем, как на белом листе, что угодно» [6, с.44].
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
В основе же народного идеала, по мнению М.А. Бакунина, лежит убеждение, что земля принадлежит народу, правом пользования ею наделяется только община (мир), которая обладает квази-абсолютной автономией, основанной на общинном самоуправлении [6, с.45].
Таким образом, взгляды М.А. Бакунина и его сторонников практически не отличаясь от социал-демократических в отношении возможности определения черт будущего общества, принципиально расходились с ними в необходимости навязать обществу идеи и стремления, чуждые ему. Если первые стремились к более полному выражению народных чаяний, даже если народ заблуждался, то вторые стремились облагодетельствовать общество, вопреки его желаниям.
Идеал будущего русского общества теоретик пропагандистского направления народничества П.Л. Лавров определял в самых общих чертах, дающих простор «развитию личности в физическом, умственном и нравственном отношении» [25, с.259]. Его, по мнению П.Л. Лаврова, «следует постоянно иметь в виду, не обманывая себя, однако же, надеждою на возможность его осуществления ни сегодня, ни завтра» [26, с.25]. В статье «Тогда и теперь», посвященной пятидесятилетию со дня смерти М.Ю. Лермонтова, П.Л. Лавров, выступая под псевдонимом С.С. Арнольди, говорит о «всемирном социалистическом идеале», о борцах за «новый социализм», которые имеют «перед собой вполне конкретный идеал, вполне ясно начертанный путь» не раскрывая его конкретных черт [1, с.180]. В другой своей работе («Ответ Жюлю Гюрэ»), говоря о фатальной неизбежности падения русского бюрократизма, и объясняя это тем, что «все цивилизованные страны избавились от этой архаической формы правления», он подчеркивает, что «к предсказаниям будущего» относится «очень скептически» [2, с.236]. Между тем, в работе «Кому принадлежит будущее?», написанной в критической литературно-философской форме и представляющей собой спор представителей государства, бизнеса, науки, искусства и церкви об устройстве будущего общества, он все же пытается выяснить волновавший его вопрос [3].
Позиция руководителя заговорщического направления в народничестве П.Н. Ткачева, принципиально отличаясь от взглядов П.Л. Лаврова по другим вопросам, практически совпадает в отношении к обществу будущего. Вопросы грядущего стушевываются, отходят на задний план. «Нам некогда, нам не до того, чтобы вперять свои взоры в будущее и развлекать себя созерцанием его красот... Я не хочу этим сказать, что мы должны совсем отказаться от их разрешения. Но мы не должны раздувать их важность настолько, чтобы делать из них барьер, разделяющий революционную партию настоящего» [44, с.262].
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Главная задача сегодняшнего дня: «Делать революцию. Как кто может и умеет» [44, с.261].
Тот же подход мы видим в передовой статье «Земли и Воли» от 25 октября 1878 г. «Мы не верим в возможность путем предварительной работы создать в народе идеалы, отличные от развитых в нем предшествующей его историей. На все попытки подобного рода мы смотрим как на совершенно нерасчетливую трату сил... Предоставим же будущее будущему. Настоящему предстоит достаточно громадная задача: осуществление народной революции, которая одна в состоянии развить будущий социалистический строй из тех элементарных основ, которые уже созданы в умах народа» [17, с. 273-274].
Следует отметить, что отношение германской и российской социал-демократии конца XIX – начала ХХ вв. к осмыслению подходов и принципиальных черт будущего общества во многом сходны. Ортодоксальная часть социал-демократии обеих стран, опирающаяся на взгляды классиков марксизма, отрицательно относилась к определению даже основополагающих черт будущего общества, считая своей главной задачей лишь познание общих тенденций его развития и необходимость разрушения существовавшего капиталистического общества, полагая, что невозможно предугадать расстановку классовых сил на момент переворота и их дальнейшие взаимоотношения, остроту назревших противоречий, степень сопротивления эксплуататорских классов и т.д. В силу этого они считали нецелесообразным и даже вредным для социал-демократического движения обсуждение подобных вопросов, уподобляя его гаданию на кофейной гуще. Однако подобная позиция встречала непонимание со стороны определенной части сторонников социал-демократии и других, в том числе прогрессивных слоев буржуазного общества, которые отказывались верить в довольно абстрактные картины, нарисованные ортодоксальными вождями социал-демократии и требовали конкретизации представлений о будущем обществе и их открытого обсуждения. Это вынудило некоторых представителей социал-демократического лагеря, в том числе и его ортодоксального крыла, взяться за написание работ, посвященных осмыслению картин грядущего социалистического общества. Однако большая часть этих работ носила пропагандистский характер и была адресована сторонникам и потенциальным избирателям социал-демократов и, прежде всего, преследовала цель увеличения социальной базы партии.
Представители реформистского крыла социал-демократии обеих стран подвергли сомнению основные постулаты марксизма (причем критика была как «справа», так и «слева»), предлагаемую теорию катастрофы и последующего за ней переворота, ортодоксальные подходы к строительству общества будущего. Диапазон критических
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS представлений в рамках марксистской идеологии колебался от сомнений в основных положениях ортодоксального марксизма до стремлений научным путем проверить и подтвердить осуществимость предлагаемых гипотез по строительству будущего общества.
При общей схожести имевшихся подходов к будущему социалистическому обществу в германской и российской социал-демократии конца XIX – начала ХХ вв. можно заметить существенно больший уклон российских социал-демократов в сторону желания построить будущее общество, опираясь исключительно на силу государства, а не на доверие и поддержку граждан. Основанием для подобного подхода стали следующие факторы: недостаток сознательного и многочисленного пролетариата, прошедшего долгую школу классовой борьбы, наличие огромной массы крестьянства, составляющего подавляющую часть населения страны и вовсе не мечтавшую о «прелестях» социализма, призрачность существовавших политических прав и свобод в обществе, невозможность реализовать их в отсутствие реально действовавших институтов представительства интересов различных слоев общества, наличие политической цензуры и неимение свободной прессы, мешавших воспитанию сознательности и организованности пролетариата и его сторонников, понимание вождями российской социал-демократии будущего общества как огромной, рационально организованной фабрики в масштабе всей страны, недостаток демократических основ партийного строительства в российской социал-демократии, положенных впоследствии в практику государственного строительства и управления страной и т.д.
Механизм функционирования германской социал-демократии конца XIX – начала ХХ вв. в зависимости от изменявшихся условий деятельности партии в обществе представлял собой разнообразное сочетание легальных и нелегальных методов работы, в том числе достаточно свободное издание партийных и демократических газет и журналов, деятельность профсоюзов по защите интересов рабочих, выборы в рейхстаг и местные ландтаги как инструменты представительства интересов трудящихся, демократические основы построения социал-демократической партии (наличие плюрализма мнений и фракций в партии), возможность и допустимость сотрудничества с прогрессивными буржуазными партиями в реализации своих планов и определенного влияния на принятие социальных законов и т.д. Под влиянием этих условий происходило формирование представлений о будущем социалистическом обществе, как обществе, построенном на демократических основах. Таким образом, расхождение представлений о грядущем обществе, несмотря на общую указанным партиям марксистскую идеологию, складывалось уже на стадии формирования программных документов и определения стратегии и тактики партий, выработки принципов партийного строительства. Если на начальном этапе развития
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS указанных социал-демократических партий эти различия были не столь заметны, то в последующей деятельности эти расхождения стали принципиальными, что привело к резким идейным разногласиям, открытой политической борьбе, диаметрально противоположным воззрениям на принципы строительства будущего общества. Чем демократичнее становилось германское общество, чем более открытой становилась германская социал-демократия, чем больше сторонников своей политики она имела на выборах в рейхстаг и местные ландтаги, чем более она могла влиять на принятие социальных законов в отношении рабочих, тем более ей пришлось отходить от марксистских стереотипов, не дозволявших обсуждать принципиальные проблемы будущего общественного устройства, вовлекая тем самым в свои ряды и ряды своих сторонников все новые и новые слои общества.
Таким образом, политический режим, условия функционирования партий, политические традиции общества в значительной степени определяли демократические принципы и подходы к формированию будущего общества. Определяющее влияние этих факторов можно увидеть и на примере теории и практики французской социалистической партии конца XIX – начала ХХ вв., несмотря на имевшиеся в ее рядах разногласия в подходах к построению нового общества. [13; 40; 50; 42; 14].
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что отсутствие достаточно разработанного варианта будущего общественного устройства в силу ряда причин характерно не только для ортодоксального марксизма немецкой социал-демократии конца XIX - начала XX века, но и для радикального крыла РСДРП этого же периода. Одной из главных причин подобного подхода было указание классиков марксизма на фатальную неизбежность краха капиталистического общества в силу раздиравших его социальноэкономических противоречий. Это доказывалось с помощью теории научного социализма. Сюда же примешивалось и желание дистанцироваться от социалистов-утопистов, избежать нежелательной критики со стороны оппонентов, как справа, так и слева, стремившихся найти и находивших противоречия и логические неувязки в теории марксизма. По всей видимости, в таком подходе находило свое место и нежелание теоретиков держать ответ перед товарищами по партии и согражданами (только не в России) в случае, если бы завоевание власти и преобразование общества осуществилось бы не по ранее предписанным вождями рецептам.
В полной мере это относится и к российской социал-демократии. Однако, здесь следует указать и на определенное воздействие со стороны более опытной, немецкой социал-демократии, не желавшей долгое время обсуждать
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS вопросы будущего общественного устройства, и на влияние собственно российских леворадикальных политических традиций, в основе которых лежало стремление, во что бы то ни стало захватить власть, а затем уже «осчастливить» общество наскоро изготовленными проектами его переустройства, не выходившими за рамки тактических партийных решений.
Что же касается соображений не формулировать достаточно определенно идеал будущего общественного устройства в России, опасаясь внести раскол в российское революционное движение, то они не выдерживают критики. Разобщенность действий российских радикалов определялась не только стратегическими расхождениями в выработке идеала будущего общества, но в большей степени тактическими разногласиями и дрязгами в лагере оппозиции, которые не без успеха помогала «раздувать» охранка самодержавия.
Таким образом, отсутствие у ортодоксальных марксистов сколько-нибудь детально разработанной программы-максимум привело их к идейным шатаниям и волюнтаризму при осуществлении строительства нового общества, к разобщенности действий, как лидеров, так и рядовых партийцев, к отсутствию должной поддержки скороспелых планов преобразования страны основной массой населения. Кроме того, отсутствие плана преобразования общества у радикальной части РСДРП указывало на недостаточное понимание лидерами партии расстановки классовых сил в стране, свидетельствовало о довольно поверхностном представлении как о стоящих перед обществом задачах, так и о путях их реализации.
Список литературы Мечты, изменившие мир: германская и российская социал-демократия конца XIX-начала ХХ века о подходах к обществу будущего
- Арнольди С.С. Тогда и теперь//Арнольди С.С. 1) Кому принадлежит будущее? 2) Из рукописей 90-х годов. -М.: Книгоизд-во Е.Д. Мягкова «Колокол», 1905. -С.160-193.
- Арнольди С.С. Ответ Жюлю Гюрэ//Арнольди С.С. 1) Кому принадлежит будущее? 2) Из рукописей 90-х годов. -М.: Книгоизд-во Е.Д. Мягкова «Колокол», 1905. -С.235-246.
- Арнольди С.С. Кому принадлежит будущее?//Арнольди С.С. 1) Кому принадлежит будущее? 2) Из рукописей 90-х годов. -М.: Книгоизд-во Е.Д. Мягкова «Колокол», 1905. -С.3-159.
- Атлантикус. Государство будущего. Производство и потребление в социальном государстве. С предисловием К. Каутского. Перевод с нем., под ред. и с предисл. прив. -доц. М.В. Бернацкого. -СПб.: Книгоизд-во «Дело», 1906. -167 с.
- Атлантикус. Марксизм как теория наивысшей производительности? Пер с нем. рукописи Я. Э. Либермана. -СПб.: Тип-я об-ва «Общественная Польза», 1907. -105 с.
- Бакунин М.А. Государственность и анархия. Осень1873 г. Прибавление «А».//Революционное народничество 70-х годов XIX века. Т. 1. 1870-1875 гг. Под ред. Б.С. Итенберга. -М.1964. -С.38-55.
- Бебель А. Различие между современным и утопическим социализмом//Энзор Р. Современный социализм Обоснование его в речах и сочинениях его виднейших представителей и в программах партий. Пер. с англ. А.И. Смирнова. -М.: Изд-е Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К*», 1906. -С.37-39.
- Бебель А. Социализация общества. Пер. с нем. Е.М. Алексеевой. -М., 1906.-120 с.
- Бебель А. Женщина и социализм. Пер. с нем В.А. Поссе. Со ст. А. Коллонтай «Великий борец за право и свободу женщин». -Пгр.: Кн-во «Луч», 1918. -483 с.
- Бебель А. Будущее общество. -М.: Красная новь, 1923. -126 с.
- Бернацкий М.В. Предисловие редактора//Атлантикус. Государство будущего. Производство и потребление в социальном государстве. С предисловием К. Каутского. Перевод с нем., под ред. и с предисл. прив. -доц. М.В. Бернацкого. -СПб.: Книгоизд-во «Дело», 1906. -С. I-XI.
- Вандервельде Э. Социалистические этюды. -СПб.: Кн. изд-во «Голос», 1906. -190 с.
- Государство будущего. Речи: Жореса, Вайяна и Клемансо во французской палате депутатов 6 июня 1906 г. Пер. П. Гуревича. -СПб.: Изд-во «Мир», 1907. -48 с.
- Дебаты по поводу разногласия между «реформистами» и «революционерами» на конгрессе французской социалистической партии в Бордо. С комментариями Исполнительного Комитета социалистической партии Франции//Энзор Р. Современный социализм. Обоснование его в речах и сочинениях его виднейших представителей и в программах партий. Пер. с англ. А.И. Смирнова. -М.: Изд-е Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К*», 1906. -С. 216-243.
- Дицген И. Будущее социал-демократии. Пер. с нем. М. Иоффе. -Киев.: Правда, 1906. -20 с.
- Засулич В.И. Элементы идеализма в социализме. -СПб., 1906. -70 с.
- «Земля и Воля»/Земля и Воля 25 окт. 1878 г.//История классовой борьбы в России. Т. 2. -Л., 1926. -С. 273-274.
- Ионесов В.И. Модели трансформации культуры: типология переходного процесса. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора культурологии/Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Самара, 2011
- Ионесов В.И. Мультикультурализм как интеграционный процесс: модели трансформации//Креативная экономика и социальные инновации, 2011. № 1. С.46-49
- Ионесов В.И. Императивы свободы и гуманизма в культуре: некоторые феноменологические прояснения//Аспирантский вестник Поволжья. 2008. № 1-2. С. 30-34
- Каутский К. Экономическое развитие и общественный строй. Комментарий к положениям Эрфуртского съезда. Полн.перевод с посл. нем. изд. М. Лемберка и Л. Борисова. -СПб.: Книгоизд-во «Молот»,1905. -187 с.
- Каутский К. Представительное правление. Пер. с нем. -СПб.: Кн-во «Молот», 1905,-94 с.
- Каутский К. Предисловие//Атлантикус. Государство будущего. Производство и потребление в социальном государстве. С предисловием К. Каутского. Перев. с нем., под ред. и с предисл. прив.-доц. М.В. Бернацкого. -СПб.: Книгоизд-во «Дело», 1906. -С. 1-21.
- Каутский К. Революционные перспективы (Добавление к «Социальной революции»). Пер. с нем. А.Г. Гойхбарга, под ред. П. Румянцева. -СПб.: Изд-е т-ва «Знание», 1907. -56 с.
- Каутский К. Эрфуртская программа (Комментарий к принципиальной части). Пер. с 6го нем. Дм. Лещенко, под ред. П. Орловского. -СПб.: Тип-я СПб Т-ва Печ. и Изд. дела «Труд», 1907. -207 с.
- Каутский К. На другой день после социальной революции/Пер. с нем. с предисл. А. Луначарского. -Петроград, Изд-во «Пролетарская Мысль»,1917. -64 с.
- Каутский К. Путь к власти. Пер. с нем. под ред. Н.Л. Мещерякова. Изд. 3, испр. и доп. -М.-Пгр., 1923. -99 с.
- Лавров П.Л. Исторические письма. -СПб., 1906.
- Лавров П.Л. Наша программа/Вперед. -Непериодич. изд. 1873 г. (август)//Революционное народничество 70-х годов XIX века. Т.1. 1870-1875 гг. Под ред. Б.С. Итенберга. -М., 1964. -С. 20-38.
- Ленин В.И. Тетради по империализму//Полн. собр. соч. -Т. 28. -С.3-616.
- Ленин В.И. Государство и революция//Полн. собр. соч. -Т.33. -С. 1 -120.
- Ленин В.И. Об едином хозяйственном плане//Полн. собр. соч. -Т.42. -С.339-347.
- Ленин В.И. III конгресс Коммунистического Интернационала//Полн. собр. соч. -Т. 44. -С.1-61.
- Ленин В.И. Г.М. Кржижановскому 28.01.1922 г.//Полн. собр. соч. -Т. 54. -С. 145-166.
- Либкнехт В. Марксизм в политике//Энзор Р. Современный социализм. Обоснование его в речах и сочинениях его виднейших представителей и в программах партий. Пер. с англ. А.И. Смирнова. -М.: Изд-е Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К*», 1906.-С.40-51.
- Люксембург Р. Чего мы хотим?.. Комментарий к программе С.Д. Польши и Литвы/Пер. с польск. -СПб.: Книгоиз-во «Эпоха», 1906. -72 с.
- Олегина И.Н. Латышско-немецкий экономист Карл Баллод (Балодис) и его книга «Der Zukunftsstaat»//На пути к революционным потрясениям. Из истории России второй половины XIX-начала ХХ века. Материалы конференции памяти В.С. Дякина. -Санкт-Петербург-Кишинев: Nestor-Historia, 2001. -С.411-427.
- Основные положения и требования социал-демократии: Комментарий к Эрфуртской программе Карла Каутского и Бруно Шенланка/Пер. с нем., под ред.О. Аносовой. -М.: Книгоизд-во Е.Д. Мягкова «Колокол»,1906. -119 с.
- Петр Ал. Наша программа/Программа максимум и минимум РСДРП. -М., 1906. -40 с.
- Плеханов Г.В. Социализм и политическая борьба//Собр. соч. -Т.1. -ГИЗ,1920.
- Плеханов Г.В. Комментарий к проекту программы Российской Социал-Демократической Рабочей Партии//Соч. -Т. 12. -С. 236.
- Плеханов Г.В. Письмо Г. Г.//Соч. -Т.12. -С. 496.
- Программа, принятая на съезде в С.-Мандэ А. Мильерана//Энзор Р. Современный социализм. Обоснование его в речах и сочинениях его виднейших представителей и в программах партий. Пер. с англ. А.И. Смирнова. -М.: Изд-е Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К*», 1906. -С.88-97.
- Сорель Ж. Размышления о насилии/Под ред. и пер. В.М. Фриче. -М., 1907. -164 с.
- Социальная реформа в Германии и Франции Георга фон Фольмара//Энзор Р. Современный социализм. Обоснование го в речах и сочинениях его виднейших представителей и программах партий. Пер. с англ. А.И. Смирнова. -М.: Изд-е Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К*», 1906. -С. 186-216.
- Стеклов Ю. Историческое подготовление русской социал-демократии/Страничка из истории русской социалистической мысли. -СПб., 1906. -80 с.
- Ткачев П.Н. Задачи революционной пропаганды в России: Письмо к редактору журнала «Вперед». Апрель 1874 г.//История классовой борьбы в России. Т. 2. -Л., 1926. -С. 38-41.
- Туган-Барановский М.И. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма. 2-е изд. Редакция журнала «Мир Божий». -СПб., 1905. -259 с.
- Туган-Барановский М.И. Современный социализм в своем историческом развитии. -СПб.: Тип-я «Будущность», 1906. -259 с.
- Туган-Барановский М.И. К лучшему будущему. -СПб.: Энергия,1912. -230 с.
- Туган-Барановский М.И. В поисках нового мира. Социалистические общины нашего времени. -СПб.: Тип-я Т-ва «Наш век», 1913. -100 с.
- Туган-Барановский М. Социализм как положительное учение. -Пгр.: Кооперация,1918. -133 с.
- Французский реформизм А. Мильерана//Энзор Р. Современный социализм. Обоснование его в речах и сочинениях его виднейших представителей и в программах партий. Пер. с англ. А.И. Смирнова. -М.: Изд-е Т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К*», 1906. -С.97-107.
- Шеффле А. Квинтэссенция социализма. Пер. с посл. (13-го) нем. изд. Филиппова. -СПб.: Изд-е Д.А. Казицина и Ю.Я. Филиппова, 1906. -59 с.
- Штерн М. Государство будущего. Социализм, его сущность, осуществимость и целесообразность. Пер. с нем. И.Д. Новика. -М.: Кн. изд-во «Труд и воля», 1906. -84 с.
- Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный г. Евгением Дюрингом/Под ред. и с введением Д. Рязанова. 3-е изд. -Л., 1930. -539 с.
- Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. -Т. 19. -С. 185-230.