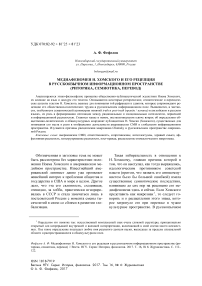Медиафеномен Н. Хомского и его рецепция в русскоязычном информационном пространстве (риторика, семиотика, перевод)
Автор: Фефелов Анатолий Федорович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языки и дискурсы СМИ
Статья в выпуске: 6 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Анализируются этико-философские принципы общественно-публицистической эссеистики Ноама Хомского, их влияние на язык и дискурс его текстов. Описываются некоторые риторические, семиотические и переводческие аспекты текстов Н. Хомского, важные для понимания той рефракции и сдвигов, которые сопровождают рецепцию его общественно-политических трудов в русскоязычном информационном поле. Выявляются, в частности, особенности семантической асимметрии понятий truth и post-truth ( правда / истина ) в английском и русском языках, их роль в формировании оппозиции между рациональным и эмоциональным интеллектом, первичной и информационной реальностью. Ставится также в новом, постколониальном ключе вопрос об определении общественно-политических и общекультурных координат публицистики Н. Чомски (Хомского), существенных для понимания его места и роли в отображении деятельности американских СМИ в глобальном информационном пространстве. Изучаются причины расщепления макрознака Chomsky в русскоязычном пространстве современной России.
Американские сми, ответственность, сопротивление, интеллектуалы, здравый смысл, аффективная реальность, конструирование реальности, постправда, расщепление ономастического макрознака
Короткий адрес: https://sciup.org/147219788
IDR: 147219788 | УДК: 070:82-92
Текст научной статьи Медиафеномен Н. Хомского и его рецепция в русскоязычном информационном пространстве (риторика, семиотика, перевод)
Обозначенная в заголовке тема не может быть рассмотрена без характеристики положения Ноама Хомского в американском медийном пространстве. Известнейший американский лингвист давно уже проявляет живейший интерес к проблемам общества и государства в США и мире в целом. Другое дело, что эта его склонность, сходившая, очевидно, за хобби, практически игнорировалась в СССР и стала замечаться лишь в постсоветской России с момента смены тысячелетий в связи со сбоями в развитии глобализации.
Такая избирательность в отношении к Н. Хомскому, главная причина которой в том, что он выступал, как тогда выражались, идеологическим противником советской власти (притом, что назвать его антикоммунистом было бы большой ошибкой) имела существенные семиотические последствия, влияющие до сих пор на рецепцию его медиафеномена здесь и сейчас. Если Хомского представить как макрознак 1, то следует говорить и о расщеплении этого знака, которое затронуло его при переносе в чужое культурное пространство. В русскоязычном медийном и предметном (лингвистическом) пространстве макрознака Chomsky произошло его раздвоение на Хомский и Чом-ски. Адресаты Чомски, т. е. русскоязычные читатели, озабоченные общественно-политическими вопросами глобального мира, образованные люди, которых привлекает тематика, проблематика и позиции отправителя Чомски (Chomsky), крайне редко подозревают, что это лицо с 50-х гг. ХХ в. именуется в российской (и советской) лингвистике Хомским.
Причины такого расщепления банальны, но для прессы в условиях хаотичной коммуникации глобального мира они труднопреодолимы. Вариант передачи Хомский – это, в терминах франко-канадской школы перевода, переводческая межкультурная эквива-ленция (т. е. выбор наиболее адекватного эквивалента), произведенная по законам русскоязычной традиции и межкультурной аналогии. Альтернативный вариант Чомски – это строго пофонемное калькирование американского произношения неамериканского по происхождению имени, не отягощенное культурно-историческими влияниями. Однако варьирование фамилии на этом не останавливается: в русскоязычном медийном пространстве спорадически появляется и некий гибрид, нечто среднее между двумя указанными вариантами – Хомски , указывающий на попытку соединить в сознании двух медийных персонажей в одну реальную фигуру.
Раздвоение в медийном пространстве англоязычного ономастического макрознака Chomsky можно также представить и как замену лингвистического коннотата в исходном «денотате» на другой, политический, т. е. как смену маркированности кон-нотата в целевом культурном контексте. В результате идентификация Chomsky – это ‘известный американский лингвист, создатель генеративной грамматики, показавший механизмы взаимодействия глубинных и поверхностных структур языка’, уступает место другой: Chomsky – это ‘американский публицист-антиглобалист, известный своей резкой критикой американской политической системы по вопросам информационной политики и мироустройства’.
В случае с Хомским мы имеем дело не с простым разночтением, а с культурно-семантической рефракцией двух макрознаков, один из которых, (Ноам) Хомский, в нашем языковом, медийном и культурном пространстве первичный, а другой, Чомски, – вторичный. Возможно, когда-нибудь электронные, печатные и прочие СМИ смогут выбрать для себя и своих читателей один эталонный вариант представления этого лингвиста и публициста, оставившего текстовый след в совершенно различных предметных областях, но гораздо вероятнее, однако, в силу объективных характеристик самой глобальной информационной среды ситуация «нововавилонского смешения языков». Примерно то же самое происходит сейчас и со многими другими иностранными фамилиями 2.
Между тем, как теперь выясняется, интерес Н. Хомского к теории и практике взаимодействия человека и общества, общества и государства, философии американской прессы и власти как таковой носит чуть ли не врожденный характер. Вырос он в обычной трудовой семье 3 («a family, of largely ordinary working people»), но в круг его чтения сразу вошли Фрейд, Маркс, Толстой, Достоевский, Фолкнер, Элиот, Диккенс. Из Достоевского он ценит, прежде всего, «Братьев Карамазовых», и, особенно, главы о Великом инквизиторе («the Grand Inquisitor section»). Внимание к русской классической литературе, как видим, велико, но еще более показательно то, что из трех визионеров будущего, Дж. Оруэлла, О. Хаксли и Е. И. Замятина, он ставит на первое место роман русско-советского писателя «Мы» («In a recent interview Noam also said that he preferred Yevgeny Zamyatin's We»), а не «1984» или «О дивный [прекрасный] новый мир» (Brave New World) английских авторов. Присутствие этих русских имен свидетельствует, однако, не о специфическом идейном акценте Н. Хомского, а о его постоянном стремлении охватить как можно более широкий круг теорий и взглядов по анализируемой общественной проблематике. Поэтому в его статьях эссеистского характера можно найти ссылки на В. И. Ленина, который при этом не фигурирует там в виде пугала, каким обычно подается современному читателю, а обращение к работам теоретика и идеолога анархизма князя Кропоткина является даже закономерным – Хомского интересует теория международного анархо-синдикализма.
В философии американской «центральной» прессы Н. Хомского более всего занимают технологические вопросы формирования общественного мнения. Для него давно уже ясно, что в самом общем виде информационная картина, определяющая практическое сознание адресата, т. е. его отношение к происходящему в самих США и за пределами этой страны, является результатом смычки (nexus) между властью и бизнесом, а также между первой и четвертой властью – государством 4 и прессой [Bewildering the Herd, 1990]. Этот союз полезен обеим сторонам: «Медийный контроль укрепляет институциональный контроль и наоборот. За власть нужно бороться на обоих фронтах» [Herman / McChesney, 1989] 5. Таково толкование глубинной сути взаимоотношений национальной власти и национальной прессы в США. При этом он прекрасно понимает, что на поверхности общественной жизни СМИ, называющие себя свободными, должны обязательно представать перед аудиторией в совершенно ином виде, в образе «народного трибуна, противостоящего власти» («...an image of a tribune of the people fighting power»).
Его отношение к внутренней и внешней информационной политике своей страны аналогично тому, что характеризовало наших советских диссидентов, но назвать его американским диссидентом было бы, тем не менее, большой ошибкой. Строго говоря, его позицию нельзя называть партийной, если понимать под этим определением принадлежность к некой группе единомышлен- ников, продвигающих свои взгляды по различным общественно-политическим вопросам (на русском можно сказать, не меняя смысла, – пропагандирующих) через свои средства массовой информации и / или партийные структуры. Он гораздо ближе к категории «свободно плавающих интеллектуалов» (free-floating intellectuals), о которой он писал еще в далеком 1967 г. в эссе под программным названием «Ответственность интеллектуалов» [The Responsibility of Intellectuals, 1967] 6. Однако сам он в той же статье подчеркивал, что такая категория независимых мыслителей уже «безнадежно устарела» («is now hopelessly out of date»). Но если Хомского нельзя было в то советское время причислить к защитникам информационной и внешней политики США, то это вовсе не значит, что он автоматически входит в число сочувствующих идеологии и политике советской власти. Иными словами, он всегда старался уклониться от стандартного мышления, связываемого теперь с принципом культурно-идеологического бинаризма: если он не за «белых», то, значит, он за «красных» (или за «черных»). Сейчас, например, он приходит к выводу, что осуждаемые им идеологические установки стран бывшего советского блока в наиболее полном виде реализовались именно в информационной политике его собственной страны – США.
Знакомство с Хомским-публицистом всякий раз показывает, что и теперь, освещая внутреннюю и, особенно, внешнюю политику федеральных властей США, он транслирует через свой дискурс, стиль и семиотику образ трезвого скептика, отказывающегося принимать слова на веру и всегда стремящегося раскрывать в тексте «мейнстримных» американских публикаций, в материалах телекорпораций их подтекст и затекст.
Действительно, содержание общественно-политического языка и дискурса очень сильно зависит от геокультурных условий его порождения, его вектора обращения и интерпретируется так, как нужно отправи- телю только у своего или «вассального» адресата. У «чужих» адресатов оно обязательно подвергается сильной концептуальной рефракции или просто становится недоступным для декодирования. На символическом уровне сосуществует по этой причине несколько кардинально или частично отличающихся образов правдивости прессы.
Этические основания публицистической деятельности Н. Хомского, далекой до сих пор от мейнстримных американских средств массовой информации, сформулированы в названной выше обстоятельной статье 1967 г. В порядке их следования в оригинальном тексте они таковы [The Responsibility of Intellectuals, 1967].
-
• Интеллектуалы в состоянии изобличать правительства во лжи, [равно как] и выявлять причины, мотивы и скрытую подоплеку их действий. ( Intellectuals are in a position to expose the lies of governments , to analyze actions according to their causes and motives and often hidden intentions .)
-
• На интеллектуалах лежит обязанность говорить [людям, обществу] правду и выводить на чистую воду обман. ( It is the responsibility of intellectuals to speak the truth and to expose lies. )
-
• Говоря об ответственности интеллектуалов, ее следует связывать, прежде всего, с их ролью в формулировании и анализе идеологии. ( When we consider the responsibility of intellectuals , our basic concern must be their role in the creation and analysis of ideology .)
-
• Если радение о правде является [первейшей] ответственностью интеллектуала, то его долг состоит также в том, чтобы анализировать события в их исторической перспективе. ( If it is the responsibility of the intellectual to insist upon the truth , it is also his duty to see events in their historical perspective .)
Риторика, дискурс и семиотика политических статей и эссе Н. Хомского издавна определяются именно этими его философско-этическими установками, подкрепленными эксплицитно много позднее в одном из интервью в 1990 г., т. е. в момент слома мировой системы социализма советского типа и начавшегося распада Советского Союза. Для Хомского этот процесс вовсе не означает, в отличие от многих, включая Джен Псаки (Jen Psaki), некое торжество американской демократии в аспекте ее ин- формационной и внешней политики. На вопрос Рика Шиковни (Rick Szykowny), «[н]асколько верна картина того, что действительно происходит в мире, получаемая средним американцем», он ответил примерно так: она верна настолько, насколько американское государство в связке с бизнесом хотят показать то, что действительно происходит в мире [Bewildering the Herd, 1990] 7. К этому можно только добавить еще две его оценки, согласно которым, во-первых, [американская] пресса почти всегда ведет себя очень дисциплинированно (в аналогичной ситуации у нас сказали бы послушно. – А. Ф.) и, во-вторых, тот, кто понимает, как устроена пропагандистская машина, тщательно отслеживает публикации центральных средств массовой информации (букв. mainstream media) и подходит к ним со здоровым скептицизмом, тот многое может открыть для себя.
Цитированные выше принципы медийного отражения независимыми интеллектуалами политических реалий мира требуют, однако, методологического и переводческо-семантического комментария. Они все связаны с трактовкой, на наш взгляд, базовых понятий ideology и truth . Если первое вполне адекватно и почти эквивалентно передается словом идеология , то второе выводит в русскоязычной ментальности на два тесно связанных понятия: правда и истина . Контекст употребления слова truth показывает, что у Хомского оно антонимично слову lie , фигурирующему везде в форме мн. ч. lies , которая конкретизирует его значение, связывая его с семантикой обмана , ложной информации или ее сокрытия , и, далее, манипулирования . В результате, оппозиция Хомского truth vs lies раскрывается обычно в этическом пространстве как ‘ правда vs обман , вранье , манипуляция ’, а не в научно-познавательном как ‘ истинное утверждение (истина) vs ложное утверждение (ложь)’.
Действительно, цитированные словосочетания согласуются c этико-оценочным толкованием данных единиц. Так, to speak the truth, to insist upon the truth подчеркива- ют ту сему, которая в русском языке передается словом ‘правда (говорить правду, требовать правды)’, тогда как выражения to expose lies и to expose the lies of governments выявляют в них значение ‘обман’. То же самое видно и в другом примере из того же эссе: «...to find out the truth for themselves rather than ceding the responsibility to “experts” or to government» 8, где слова “эксперты” и правительство указывают на то, что речь идет о правдивости (достоверности) в изложении и толковании некой событийной информации, важной для общества, а не о научной истине.
В высказываниях Н. Хомского о прессе США можно даже найти специфическую категорию «официальных» аналитиков, называемых им идеологическими менеджерами (ideological managers), институциональная цель которых состоит в том, чтобы «скрыть очевидное» (to conceal the obvious), т. е. скрыть истинную картину происходящего или произошедшего. Совет Хомского таким «менеджерам» указывает на последовательность его информационной философии – «проще было бы сказать правду» или, на языке оригинала, to tell the truth (Chomsky, 1987. James Peck, интервью). Передавать этот совет в русском языке с опорой на слово истина было бы неуместно, потому что в сочетании с глаголом ( говорить , сказать истину ) оно выказывает крайнюю эпистемологическую претенциозность намерения, реализовать которую удается только в пословицах вроде устами ребенка глаголет истина .
Несмотря на свою верность сформулированным им некогда принципам честного информирования общества о происходящем в стране и в мире, Н. Хомский является все-таки в значительной степени скептиком, и, пожалуй, небезосновательно. Вопрос об истине / правде / разуме давно уже приобретает философско-методологический характер, подвергаясь постмодернистской релятивизации. Дело как в самом статусе понятия truth в современном западном обществе, так и в характере объективирования той социальной реальности (или социальных реальностей), с которой она связывается как некая ценность. И Хомский вполне допускает, что сам факт обретения обществом правды или доведения до общественного сознания истинного положения дел может и не привести к ее торжеству (Chomsky, 1987. James Peck, интервью). Для него понимание вероятности такого итога не служило, конечно, основанием для отказа принятых на себя этических обязательств, но мы должны признать, что многие активные фигуры, функционирующие в современном (цифровом, общедоступном, обезличенном) медийном пространстве 9, сделали для себя другие выводы. Они действуют уже на иных «теоретических» основаниях, предполагающих выдвижение на первый план аффективной реальности вместо «истинностной» реальности объективного анализа и эмоционального «интеллекта» вместо «устаревшего» рационально-логического.
В результате информационная политика, основывавшаяся ранее на понятиях разум ( reason ) и truth ( истине / правде ), стремится поставить на их место принцип post-truth с материализующими его субъективными представлениями и реакциями адресатов речи. А новая информационная политика предполагает вследствие этого приоритет вторичной реальности – сознания и операций с ним. Так называемое перцептуальное (perceptual) пространство индивида начинает якобы превалировать над противостоящими ему концептуальным и реальным, и потому его можно попытаться структурировать на основе перформативных свойств речи и соответствующих технологий медийного воздействия. Скорость передачи информации, вовлеченность адресата оказываются важнее ее достоверности.
Н. Хомский давно осознал разрыв между интеллектом человеческой массы и сложностью социальной материи и процессов, подлежащих анализу для адекватного их осознания 10. Он даже предложил в качестве методологического выхода компромиссное, хотя и крайне парадоксальное понятие Cartesian commonsense, которое будет толковаться здесь как картезианский здравый смысл, или как здравый смысл образованного человека. Сама структура этого понятия отражает факт противостояния двух противоположных позиций современного западного общества по вопросу о месте рационально-логического (картезианского) и эмоционального (≈ наглядно-чувственного, профанного) интеллекта в формировании адекватных прагматических представлений о действительности.
Попытавшись объединить необъедини-мое, Н. Хомский вступил в заочную дискуссию с теми интеллектуалами, кто отрицает в принципе утилитарный характер картезианского мышления и уповает, как выразился очень эмоционально английский писатель Дерек Уолкот (Derek Walcott), на horse sense, т. е. на здравый смысл 11. Он полагает, тем не менее, что у обычного американца, носителя здравого смысла, навыки аналитического мышления и способность к пониманию обыденных житейских ситуаций присутствуют и что их нужно только перенести в другую сферу – на анализ проблем внутренней и внешней политики США. Между тем это оптимистическое суждение не учитывает специфики работы средств массовой информации в современном государстве, той самой смычки между властью и ведущими органами американской печати, о которой им же было сказано выше.
Именно Хомский неизменно обвиняет их в том, что задача беспристрастного информирования американского общества давно уже подменена «пропагандой», имея, однако, в виду не столько пропаганду определенного образа мира, сколько прямое манипулирование общественным мнением. Можно с уверенностью утверждать, что в текстах Хомского в слово пропаганда вкладывается тот же самый смысл, который у многих других авторов передается словами манипулирование и манипуляция. Технологическая модель функционирования американских новостных средств массовой информации, была описана Эдвардом Херманом и Ноамом Хомским еще в 1988 г. в книге «Сотворение согласия: политическая экономия масс-медиа» 12. Самими авторами эта модель называется не иначе как пропагандистская («propaganda model»). Одновременно эта модель может служить и методологической основой анализа информационной политики и прагматики СМИ. С ее резюме можно ознакомиться в [The political economy of the mass media, 1989], здесь стоит лишь, все-таки, обратить внимание на три ключевых взаимосвязанных черты современной информационной политики, выделяемых Н. Хомским:
-
• контроль над «определением реальности» (definitions of reality), где под определениями реальности фактически подразумевается конструирование и концептуализация ее образов;
-
• контроль тематики, подлежащей обсуждению в данный момент, который связывается у Хомского с понятием публичной повестки ( pl . agendas). С помощью «повесток дня» можно вполне эффективно канализировать интеллектуальную публичную активность любых социальных групп, помещая ее в рамки определенного метаязыка;
-
• способность создавать систему распространения важных текстовых «посланий» и манипулировать символами.
В этом отношении принципы работы американских центральных СМИ ничем не отличаются, как говорит Хомский, от методов государственных органов печати, принятых некогда в странах советского блока (ср. [The political economy of the mass media, 1989]).
Н. Хомский, будучи гуманистом по своим этическим установкам и картезианцем по способу мышления, прекрасно понимает, что человеку здравого смысла бывает трудно справиться с вопросами своего собственного образования. Так, анализируя отношения между образованием и незнанием (в данном случае education и ignorance), он на примере распространения и рецепции в широких кругах Северной Америки идей Ада- ма Смита показывает, что гуманитарноэкономическое образование не всегда приводит к просвещению, а, может быть, даже и наоборот [Chomsky, 1995. P. 19–23, 27– 31].
Все это дает нам повод скептически взглянуть на возможность соединения картезианской логики с обыденным интеллектом. Однако к старым приемам работы, как говорили в то время, «пропагандистской машины» современная цифровая среда добавила новые, чрезвычайно упрощающие производство и распространение так называемых «фейковых новостей» и постановочных «событий». Ясно, что на уровне здравого смысла противостоять воздействию такой информации крайне сложно. В этих условиях картезианский здравый смысл вряд ли поможет массовому национальному адресату самостоятельно извлечь из информационного потока те факты, что действительно являются реальными, и отделить их от тех фиктивных, которые кто-то хочет утвердить как реальные через слово или картинку. Потребовались авторитет постороннего, в принципе, человека, коим оказался Д. Трамп, и его отзывы, чтобы давние обличения Хомского и Хермана вдруг приобрели актуальность и стали рассматриваться не как клевета «чужих среди своих», а как печальная альтернативная реальность функционирования мейнстримных СМИ. Им оказывается проще убеждать своих лояльных потребителей информации, что, например, материал с изображением политических руководителей России, поднимающих бокалы шампанского, прямо связан с празднованием победы выгодного им кандидата на пост одной великой державы и что это торжество, несомненно, подтверждает факт тайного вмешательства России в предвыборный процесс в их великой стране.
Действительность сейчас такова, что эти давние озабоченности Н. Хомского достоверностью информации, получаемой из мейнстримных СМИ, разделяют сейчас в кругах, далеких и от академических, и от самого Н. Хомского. Если последить за ин-тернет-публикациями абсолютно периферийного американского агентства American Free Press (в сокращении тоже AFP, как и французское Agence France Presse), то там эта тревога достигает уже опасного предела. Выражение «their fake news stories» (выделено мной. – А. Ф.), все чаще встречающее- ся в их редакторских статьях, звучит уже как бесспорный факт, не требующий теоретического подтверждения. И косвенное оправдание ими России, содержащееся в словах «Now they are ramping up the rhetoric against Russia over lies and fake news related to claims of U.S. votehacking» (AFP) 13, есть все то же следствие разоблачения информационной политики мейнстримных американских СМИ (= they), произведенное на основе критериев здравого смысла, хотя и с легкой картезианской окраской. В самом деле, вопрос «Чего они добиваются?» (What do they want?) и предлагаемый вариант ответа «Войны против России, которая является ядерной державой?» (A war against nuclear armed Russia?) ближе к продуктам эмоционального интеллекта, т. е. в данном случае элементарного страха, вызванного инстинктом самосохранения, чем всестороннего геополитического анализа.
Психологическая и – связанная с ней – политическая реальности таковы, что реакции эмоционального интеллекта, как правило, проецируются их носителями на своих оппонентов и противников, которые сначала объявляются причиной «дискомфорта», затем его виновниками и, наконец, «призываются к ответу». Н. Хомский указывал как раз на один из прецедентов подобной ситуации в эссе «Ответственность интеллектуалов», связанной с политикой США в отношении «коммунистического Китая». Она открыто строилась на исходной официальной посылке, гласившей, что «we are openly threatened and we feel menaced by Communist China» (т. е. [политика] «коммунистического Китая представляет для нас явную угрозу, и мы ощущаем исходящую от него опасность»). Комментируя эту, бесспорно, эмоциональную внешнеполитическую посылку, приписывающую Китаю американскую логику действий, нежели предвосхищающую собственно китайскую, Н. Хомский выразился по поводу такого стиля мышления как рационалист. Он справедливо подчеркнул, что само доказательство факта исходящей угрозы при такой стратегии анализа ситуации оказывается излишним (unnecessary), что главное для внешнеполитического ве- домства или идеолога состоит в том, чтобы сообщить лояльному адресату, что мы ощущаем (курсив Хомского. – А. Ф.) исходящую от него опасность [The Responsibility of Intellectuals, 1967]. И, следовательно, добавим от себя, должны были защищаться от нее всеми доступными средствами. На том же самом аффективном основании (или маскирующемся под аффективное) строится теперь и защита стран Центральной (некогда Восточной) Европы от якобы растущей российской угрозы их безопасности.
В связи с азиатской ситуацией в альтернативной, «закадровой» аналитической публицистике Н. Хомского можно выделить две сквозные идеи, проводимые им на протяжении всей жизни: агрессивность либерального империализма и угроза хорошего примера . Американский империализм (или европоцентричный, что мало меняет суть явления), несмотря на свой либеральный характер, остается, по Хомскому, агрессивным, стремясь всеми правдами и неправдами расширить свое влияние в его культурных и надкультурных формах на остальной мир 14.
Что касается второй идеи, то Н. Хомский пришел к неутешительному выводу, что любой хороший пример, подаваемый странам мира любым потенциальным конкурентом США, рассматривается американским истеблишментом тоже как угроза для будущего США, и потому встречает соответствующее идеологическое противодействие. О такой «угрозе», влияющей в значительной степени на информационную политику властей и функционирование СМИ, он писал в 1967 г., подразумевая при этом под носителем хорошего примера не советский блок, а Китайскую народную республику (чаще известную на Западе как коммунистический Китай). В «Ответственности интеллектуалов» он уже показал понимание того, что США стремятся противостоять «идеологической угрозе» (кавычки оригинала. – А. Ф.), которая может возникнуть для США в том случае, если КНР в результате успехов на пути прогресса сможет своим примером доказать другим азиатским странам, что организация жизни и промышленного развития на основе принципов коммунистической идеологии эффективнее, чем методы западных демократий [The Responsibility of Intellectuals, 1967].
Сформулируем основные выводы статьи. Мы обратим внимание только на самые главные моменты, требующие, конечно же, дальнейшего изучения и более полной иллюстрации.
Главными объектами критического анализа являются у Хомского реалии капиталистической демократии: демократия и капитализм у него несовместимы, и потому прагматическую суть американской демократии он передает концептуальной метафорой the sledge hammer worldview (мы отразим в переводе как демократия с кувалдой в руках ). Стремление США к глобальному лидерству во что бы то ни стало, его силовое утверждение является постоянным объектом критики. Н. Хомский выступает за деамериканизацию мира. США, по его мнению, не должны быть единственным хорошим примером для других стран мира, а другие успешные модели развития не нужно обязательно рассматривать через призму угрозы их влияния. К объектам критики относятся и все официальные идеологемы внешней политики.
Философско-этические основы позиции Хомского-публициста: гуманизм, рационализм, скептицизм и сопротивление (resistance). Они диктуют ему дискурс , стиль и семиотику статей, описывающих приемы работы «мейнстримных» американских СМИ.
Жанрово-дискурсивная стратегия Н. Хомского. Статьи этого автора представляют собой в жанровом отношении эссе, т. е. аналитический текст-рассуждение, основанный на строгой картезианской научной логике. Установка на выявление исторической перспективы анализируемого факта или события проявляется в регулярном проведении исторических параллелей между действиями США и другими претендентами на мировое господство (Германия, Япония). Он исходит из принципа, прозвучавшего на Нюрнбергском процессе: «По тому, как мы судим этих обвиняемых сего- дня, история будет судить нас самих завтра».
Дискурсивная схема и стилистика часто выстраиваются вокруг рекуррентных официальных концептуальных метафор, включаемых в название эссе. Среди них почетное место занимают следующие: imperial triumvirate (имперский триумвират), supreme international crime, или высшее международное преступление (Aggression is no longer the «supreme international crime»), terrorist state (террористическое государство), rogue state, или преступное государство («the primer ogue state today is the United States»), pariah state (в проамериканском переводе «государство-изгой»), treaty-worthy nation (договороспособная страна), redlines (красные линии). Цель Хомского состоит, как правило, в том, чтобы обратить передаваемые ими негативные образы на сами США.
Системное место публицистики Н. Хомского подвержено веерецепции российскими почитателями сильной рефракции из-за неоднозначности понятия «левый политический спектр» (the Left). Н. Хомский не является левым в привычном европейском континентальном или советском смысле. Отнесение Хомского / Чомски к левым радикалам связано с ошибкой в выборе системы политических координат. Он представляет собой, на наш взгляд, пример не леворадикальной, а постколониальной евро-поцентричной ментальности, пропагандирующей идею внутреннего сопротивления (resistance), хотя внешне, по своей риторике и политическому лексикону, он был и бывает еще довольно близок к европейским социал-демократам. Но у него есть также ряд работ, где ярко представлены теории анархистов, у которых ему нравится утопическая идея властных структур без иерархической вертикали. Однако все это свойственно и так называемой постколониальной теории (постколониализму), порождающей еще более резкий антиимперский (а не антиимпериалистический) дискурс и идентифицирующей себя со странами Третьего мира. Антиимперского пафоса в статьях Хомского гораздо больше, чем антиимпериалистического. Именно поэтому в эссе Н. Хомского новейшего периода видна симпатия к образу действий нынешней России и ее лидера, которой не было раньше при монополии на власть радикально левой коммунистической партии.
В постколониальный период среди западных интеллектуалов утвердился новый подход к пониманию задач межкультурной и политической коммуникации между метрополиями и их бывшими колониями, называемый культуральным переводом (Cultural Translation). Новые принципы сотрудничества отрицают прежние иерархии. В определенном смысле эта победа антиамериканской идеологии стран Третьего мира может быть поставлена в заслугу Н. Хомскому, позиции которого чрезвычайно близки к идее такой перестройки отношений между «угнетателями и угнетаемыми», в широком толковании. Он тоже призывает, во имя новой справедливости, к отказу от прежних жестких лингвокультурных контрарных оппозиций типа «свой / чужой», «Восток / Запад», good guys / bad guys, лишь укрепившихся в геополитике после распада СССР. Формирование новой этики постколониального межкультурного дискурса требует символического перемещения к отрицательному полюсу прежних бинарных оппозиций, т. е. выражения или представления нынешних интересов некогда «угнетенных» (≈ subaltern) народов с позиций этих самых народов, что и демонстрирует публицистика Н. Хомского, ставшего для многих Н. Чомски.
Список литературы Медиафеномен Н. Хомского и его рецепция в русскоязычном информационном пространстве (риторика, семиотика, перевод)
- Фефелов А. Ф. Современное российское переводоведение: в поисках новой суверенной парадигмы // Вестн/ Новосиб. гос. ун-та. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. Т. 13, вып. 1. С. 48-72.
- Bewildering the Herd // Noam Chomsky interviewed by associate editor Rick Szykowny September 7, 1990 / The Humanist, November/December 1990. URL: https://chomsky. info/19900907/ (дата обращения 08.01.2017).
- Chomsky N. De-Americanizing the World. URL: http://chomsky.info/articles/20131105.htm Chomsky Noam. Can Civilization Survive Capitalism? URL: http://chomsky.info/articles/ 20130305.htm
- Chomsky Noam. Education is Ignorance // Class Warfare. 1995. URL: https://chomsky. info/warfare02/ (дата обращения 05.01.2017).
- Chomsky Noam. The Long, Shameful History of American Terrorism. URL: http:// chomsky. info/articles/20141103.htm
- Chomsky Noam. The Politics of Red Lines: Putin's takeover of Crimea scares U.S. leaders because it challenges America's global dominance. URL: http://chomsky.info/articles/2014 0501.htm
- Chomsky Noam. The Responsibility of Intellectuals // The New York Review of Books, February 23, 1967. URL: http://www.nybooks. com/articles/1967/02/23/a-special-supplementthe-responsibility-of-intelle/ (дата обращения 05.01.2017).
- Chomsky Noam. The Sledgehammer World-view. URL: http://chomsky.info/articles/ 2014 0707.htm
- Herman Edward S., Chomsky Noam. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon, 1988.
- The political economy of the mass media: an interview with Edward S. Herman; coauthor of Manufacturing Consent by Robert W. McChesney // Monthly Review, January 1989. URL: http://chomsky.narod.ru/ed.htm (дата обращения 10.01.2017).
- What the World is Really Like: Who Knows It - and Why / Excerpts from a 1987 interview. Noam Chomsky interviewed by James Peck / The Chomsky Reader (Pantheon, 1987). URL: https://chomsky.info/reader02/ (дата обращения 05.01.2017).