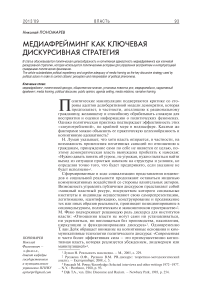Медиафрейминг как ключевая дискурсивная стратегия
Автор: Пономарев Николай Филиппович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 9, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается политическая целесообразность и когнитивная адекватность медиафрейминга как ключевой дискурсивной стратегии, которая используется политическими акторами для управления восприятием и интерпретацией гражданами политических феноменов.
Медиафрейминг, политический дискурс, общественное мнение, установка повестки дня, медиарилейшнз, нарративный фрейминг
Короткий адрес: https://sciup.org/170167121
IDR: 170167121
Текст научной статьи Медиафрейминг как ключевая дискурсивная стратегия
П олитические манипуляции подвергаются критике со стороны адептов делиберативной модели демократии, которая предполагает, в частности, апелляцию к рациональному гражданину, желающему и способному обрабатывать сложную для восприятия и оценки информацию о политических феноменах. Однако политическая практика подтверждает эффективность этих «злоупотреблений», по крайней мере в медиасфере. Какими же факторами можно объяснить ее практическую целесообразность и когнитивную адекватность?
Н. Луман указывает, что хотя власть опирается, в частности, на возможность применения негативных санкций по отношению к гражданам, принуждение само по себе не является ее целью, поэтому демократическая власть вынуждена прибегать к намекам: «Нужно давать понять об угрозе, не угрожая, нужно пытаться найти выход из ситуации простым намеком на структуры и условия, не определяя точно того, что будет предпринято, если указание не будет исполнено»1.
ПОНОМАРЕВ Николай
Сформированные в ходе социализации представления индивидов о социальной реальности продолжают оставаться мишенью коммуникативных воздействий со стороны влиятельных акторов. Возможность управлять публичным дискурсом представляет собой «мощный властный ресурс, посредством которого социальные институты и индивиды осуществляют свою саморепрезентацию, легитимацию, идентификацию, конструирование и продвижение тех или иных образов реальности, производят позиционирование в социокультурном, политическом и экономическом пространстве»2. М. Фуко подчеркивает решающую роль дискурса для институтов власти: «Отношения власти не могут сами ни устанавливаться, ни укрепляться, ни воплощаться без производства, накопления, циркуляции и функционирования дискурса»3. Одновременно Т. ван Дейк обращает внимание на когнитивные основания и коммуникативные технологии политического дискурса: «Современная и часто более эффективная сила – это преимущественно когнитивная власть, которая реализуется убеждением, лицемерием или манипуляци ей»4.
Как известно, демократическая система должна гарантировать гражданам возможность участия в принятии решений, а власть обязана разрабатывать политические курсы с учетом общественного мнения. Более того, «режим взаимодействия власти и общественного мнения»1 сигнализирует о степени демократичности политической системы. Адекватное реагирование власти на общественное мнение, с одной стороны, является демократической нормой, а с другой – рациональной необходимостью. Правительство вынуждено, по крайней мере, принимать во внимание общественное мнение, чтобы укрепить свою легитимность и одновременно сохранить автономность от внешнего окружения: «Самый эффективный способ уменьшить зависимость от среды и повысить автономность системы – это контроль над тем, от чего она зависит. В данном случае это означает активное и систематическое влияние на общественное мнение»2. Р. Энтман и С. Хербст уточняют: «Самые успешные лидеры – это те, которые могут ощущать латентное мнение и понимают динамику общественного мнения, скрытую под дискурсивным хаосом»3.
Власть заинтересована в стабильности общественных настроений, но «с увеличением числа измерений [социальной реальности] волеизъявление народа начинается колебаться», что приводит к социальной неустойчивости4. Чтобы избежать такого рода последствий, политики предлагают гражданам ограниченный набор политических рецептов. Э. Шатшнайдер замечает: «Собственно говоря, определение альтернатив есть высший инструмент власти; антагонисты редко могут договориться о том, что является пробле- мой, потому что власть вовлечена в это определение. Тот, кто установил содержание политики, правит страной, потому что определение альтернатив – это отбор конфликтов, а отбор конфликтов распределяет власть»5. Политические акторы прибегают к дискурсивным стратегиям манипулирования социальной реальностью, навязывая целевым группам собственные представления о текущей социальной ситуации, приоритетных проблемах, об их ценностной оценке и методах решения. Таким образом, дискурсы служат «организации и структурированию социальной жизни»6. Более того, «чем больше дискурсивных жанров, контекстов, участников, аудиторий, сфер и текстовых характеристик они [могут] активно контролировать или влиять, тем могущественнее группы, институты или элиты»7.
Политики не могут не манипулировать общественным мнением еще и потому, что социальные проблемы не даны в реальности априори как объективные сущности, а конструируются в дискурсе. Иначе говоря, социальные проблемы в значительной степени являются продуктами деятельности (и взаимодействий) влиятельных акторов в публичном информационном пространстве. Еще категоричней высказывается К. Кемпбелл: «Истины не могут быть независимыми ни от чего. Они должны доставляться одними людьми другим людям. Они должны объясняться, защищаться и распространяться посредством языка, аргументации и апелляции… непризнанные и непринятые истины совершенно бесполезны»8.
Сущность стратегии «определения проблемы»9 состоит в том, что политическая элита некоторым образом отбирает ограниченное число жизненных затруднений, представляет их гражданам как общезначимые проблемы и предлагает их решения. Большинство «публичных арен» находится под влиянием господствующих политических и экономических групп, каждая из которых стремится свести определенный фрагмент социальной реальности к выгодной для себя и в этом смысле пристрастной репрезентации. В конкретных случаях акторы фокусируют внимание на тех аспектах ситуации и на тех решениях, которые соответствуют их интересам, и конкурируют друг с другом, предлагая собственные системы координат, максимально способствующие формированию «правильной перспективы», манипулируют фактами, чтобы подогнать их под свои интересы.
Одновременно определение проблемы задает критерии уместности предлагаемых в дебатах доводов1, что оправдывает категоричность Р. Райха: «Самый важный аспект политического дискурса – это не оценка альтернативных решений наших проблем, а определение самих проблем»2. Д. Юстис предостерегает политиков: «Определение проблемы потенциально может мобилизовать ранее незаинтересованных [субъектов] привязать новые решения к старым проблемам и обеспечить значительную пропагандистскую поддержку предложенных инициатив»3.
В полной мере все вышесказанное относится и к власти. Согласно концепции «политики означивания»4 власть включает спорные вопросы в определенные дискурсивные рамки в расчете на то, что граждане декодируют соответствующие сообщения массовой коммуникации адекватным образом, что обеспечит их спонтанное согласие с существующим положением вещей и действиями власти. Более того, сконструированные властью когнитивные контексты далее ограничивают ее собственные действия.
Обратимся к социальным взаимодействиям в медиасфере. Власть оценивается гражданами в рамках доминирующей в публичном информационном пространстве системы координат. В выпусках новостей задается первичный контекст освещения спорных вопросов, подталкивающий аудиторию к последующим обсуждениям и интерпретациям с учетом уже доминирующих критериев. В силу этого важнейшей задачей власти становится формирование благоприятной сетки восприятия в медиасфере социальной реальности, тем более что любая публичная политика, напомним, в принципе имеет много измерений. В результате «в наши дни, особенно это касается национальной политики, только те политические фигуры, которые эффективны на телевидении, достигают вершин»5. Как следствие, затраты на театрализацию символических вопросов или медиатизацию ресурсных вопросов иногда сопоставимы с расходами на решение социальных проблем. Это и есть главное проявление медиатизации политики, а именно рост доли символических вопросов в ущерб социальным проблемам не только в декларируемой, но и в фактической повестке власти одновременно с падением значимости соображений политической целесообразности при формировании властью актуального и перспективного «проблемного поля». Высшая когнитивная цель политических акторов – максимально сблизить общественную повестку с политической повесткой, которая выражает их собственные интересы.
Первый компонент стратегии – сужение проблемного поля: «Чем концентрированнее проблемная среда (т.е. чем на меньшем количестве вопросов фокусируются кандидаты и медиа), тем вероятнее, что общественная повестка дня будет отражать повестку политических элит»6. На отбор политиками приоритетов существенно влияют «фокусирующие события» наподобие стихийных бедствий или протестных акций. Некоторые из подоб- ных «событий-триггеров»1 акцентируются средствами массовой информации, разгоняются в медиасфере до «политических волн», которые накрывают как граждан, так и политиков. Эти «критиче -ские моменты дискурса»2 концентрируют общественное внимание на проблеме и стимулируют комментарии на публичных форумах со стороны спонсоров разных фреймов, журналистов и других наблюда телей.
Выражаясь технологически, «полити-ческие волны» на некоторое время вытес няют лидирующие вопросы с медийной и/или общественной и/или даже поли -тической повесток дня. Динамика роста и смены политических волн объясня-ется как концепцией «цикла внимания к вопросу»3, так и медиалогикой, обеспе-чивающей «значимое согласие новост ных медиа по поводу продолжительности существования волны».
Второй компонент стратегии — продви -жение правильных интерпретаций соци альных феноменов: «Конфликты из - за повестки дня не просто о том, по каким спорным вопросам правительство пред почитает предпринимать действия; они также и о конкурирующих интерпрета циях политических проблем и альтерна тивных мировоззрениях, которые лежат в их основе»4.
Стратегическая цель любого актора — формировать в картинах мира целевых групп выгодные для себя ментальные образы и оценочные матрицы конкретных фрагментов социальной реальности, что невозможно без менеджмента новостей, в частности посредством фрейминга. Речь идет о фрейминге политической медиапо вестки как сегменте медиаповестки, кото рый тематически связан с деятельностью политических акторов, в первую очередь - органов государственной власти и мест ного самоуправления. В политическом дискурсе фрейминг медиаповестки дня составляет центральную стратегию менед жмента новостей как системы коммуни кативных технологий, которые использу ются политическими акторами не столько для публичного информирования граж дан, сколько для управления обществен ным мнением в собственных интересах. Очевидно, что соответствующие нарра-тивы должны одновременно соответство вать доминирующим социальным ценно стям и когнитивным схемам, медиалогике и, естественно, политической логике.
Напомним, что рядовые граждане в силу множества причин не могут само стоятельно ранжировать по значимости политические или экономические про -блемы, поэтому вынуждены доверять выбору, оценкам и методам решения, которые предлагают хорошо осведомлен -ные акторы: «Поскольку политический мир известен гражданам в основном бла годаря косвенному опыту, они в действи тельности не знают, какие стоящие перед страной, штатом или местным сообще ством вопросы являются важнейшими. Политические элиты уменьшают эту неопределенность, фокусируя внимание на горсточке проблем, что помогает граж данам выбирать самые важные вопросы»5. Например, согласно гипотезе «зависи мости от меню»6, граждане не осознают своих истинных интересов, ибо не рас полагают исчерпывающими знаниями о текущей ситуации, вариантах ее развития и ее последствиях.
Обнаружены несколько феноменов, которые свидетельствуют о необходи мости и уместности медиафрейминга в публичной политической коммуникации.
Во первых, при принятии решения существенную роль играет феномен «огра-ниченного осознания», а именно: инди-виды пренебрегают доступной, восприни маемой и важной информацией, обращая внимание на другую, в равной степени доступную, но нерелевантную информа цию1. В силу этого политические акторы предпочитают стратегии приоритетизации стратегиям всестороннего и объективного информирования: цель фрейминга не столько убеждение, сколько манипулирование умозаключениями целевых групп.
Во-вторых, это феномены «разумной достаточности»2 и «рационального невежества»3. Люди не имеют ни способностей, ни времени, ни интереса в каждом случае принимать лучшее из возможных решений, поэтому довольствуются обработкой той информации, которая первой приходит на ум, чтобы выбрать не оптимальный, а достаточно хороший вариант. Осознавая ничтожность своего инди -видуального влияния на политические решения, граждане, как «когнитивные скупцы»4, склонны экономить усилия, необходимые для усвоения и переработки знаний о политике. Они считают целесообразным при вынесении суждений о политических проблемах ориентироваться на эвристики или собственные эмоциональные реакции, а не на аргументы и факты. Фрейминг как дискур- сивная стратегия подталкивает адресата именно к эвристикам, а не к логическим умозаключениям на основе исчерпывающих данных5.
В-третьих, это феномен «рациональности при недостатке информации»6. Граждане нуждаются лишь в небольшом числе подсказок о деятельности политической элиты, чтобы вынести рациональное суждение с учетом своих интересов.
Медиафрейминг осуществляется политическими акторами в контексте медиа-рилейшнз как дискурсивного взаимодействия с журналистами, самыми влиятельными (пока еще) агентами массовой коммуникации. На первом плане – индуцирование правильного освещения в медиасфере собственных политических планов, решений и действий применительно к избранным социальным ситуациям. Подчеркнем, что медиафрейминг лишь увеличивает вероятность благоприятных оценок власти гражданами, но не гарантирует устойчивое позитивное общественное мнение, подверженное влиянию множества других акторов и факторов.