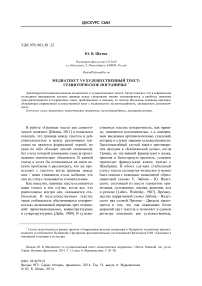Медиатекст vs художественный текст: семиотическое пограничье
Автор: Шатин Юрий Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискурс СМИ
Статья в выпуске: 6 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируются взаимоотношения медиатекста и художественного текста. Автор полагает, что в современном культурном пространстве жесткие границы между указанными типами элиминируются, а наиболее значимые зоны располагаются в пограничных зонах, приближенных к каждому из текстов. Выделены основные признаки, сближающие современный художественный текст с медиатекстом: мультимедийность, дисперсность, ризоматичность.
Медиатекст, семиотическое пограничье, мультимедийность, дисперсия, ризома
Короткий адрес: https://sciup.org/147219136
IDR: 147219136 | УДК: 070;
Текст научной статьи Медиатекст vs художественный текст: семиотическое пограничье
В работе «Границы текста как семиотическое понятие» [Шатин, 2011] я попытался показать, что граница между текстом и действительностью и между различными текстами не является формальной чертой, но сама по себе обладает некоей семантикой, без учета которой понимание смысла произведения значительно обедняется. В данной статье я хотел бы остановиться на ином аспекте проблемы и рассмотреть, что же происходит с текстом, когда границы между ним / ними становятся столь зыбкими, что сам их статус оказывается сомнительным.
Как известно, границы текста осознаются нами только в том случае, когда все, что расположено внутри них, оказывается стабильным. В нехудожественных текстах такая стабильность обеспечивается когерентностью, включающей иерархию трех отношений: пропозициональных, макроструктурных и суперструктурных [Дейк, 1989]. В художе- ственных текстах когерентность, как правило, заменяется холономностью, т. е. намеренным введением противоположных суждений, которые и служат знаками художественности. Хрестоматийный случай такого противоречия находим в «Капитанской дочке», когда Гринев, не изучавший французского языка, приехав в Белогорскую крепость, успешно переводит французские книги, взятые у Швабрина. В обоих случаях стабильный статус текста осознается читателем и может быть описан с помощью знаменитой «бриллиантовой схемы» У. Лабова – Ю. Валет-ского, состоящей из шести элементов: ориентация, осложнение, оценка, решение, код и резюме [Labov, Waletzky, 1967]. Преимущество нарративной схемы Лабова – Валет-ского над схемой Проппа – Дандеза заключается в том, что она охватывает более широкий круг текстов и позволяет в едином регистре описывать как художественные, так и иные тексты, содержащие повествовательные элементы.
Важность подобного расширения особенно ценна в связи с кардинальным изменением культурных параметров, случившихся на рубеже XX–XXI вв. и внесших особые коррективы как в процесс текстооб-разования, так и в его теоретическое осмысление. Одним из следствий такого осмысления стало новое понятие медиатекста, введенное в англоязычную литературу в середине 1990-х гг. Это понятие удачно совместило не только привычную оппозицию устный текст / печатный текст, но и расширило сферу применения, включив сюда тексты кинематографа, радио, телевидения и Интернета.
В результате такого включения под вопросом оказался сам статус стабильности текста. Как справедливо заметила современная исследовательница Е. Н. Пескова, «процесс чтения обычного текста представляет собой последовательное восприятие, понимание и усвоение его содержания при помощи выделения ключевых слов, сопоставления и противопоставления смысловых рядов, выявление основного значения текста. Процесс чтения гипертекста не является таким упорядоченным в связи с его нелинейной организацией. Нелинейный текст рассредоточен в пространстве, что позволяет рассмотреть множество значений, свести их воедино и обеспечить целостность восприятия информации» [Пескова, 2013. С. 13].
Благодаря гипертекстуальной природе медиапространства можно выделить три новых параметра, нехарактерных, а возможно, и неприемлемых для статуса стабильных текстов прошлых эпох. Эти черты можно определить как мультимедийность, дисперсность и ризоматичность. Под мультимедийностью в таком случае понимается ансамблевость разнородных знаковых средств, какие только возможны в медиатексте: от словесных к живописно-декоративным, а в случае движущегося изображения и паралингвистических. Если в прежних текстах мультиме-дийность подчинялась словесному ряду, например, постановочные фото, иллюстрирующие мысль публицистического текста, то теперь все знаковые средства не только разнородны, но и равнозначны. В более сложных по языку художественных текстах прежних эпох иллюстративность чаще всего вела к буквализации смысла и, как правило, отвергалась писателями. Известна, например, остроумная эпиграмма Пушкина на литографию, где тот изображен стоящим на берегу Невы с Онегиным. В иных случаях визуализация напрочь отвергалась создателем словесного текста. Так, А. А. Блок в письме Ю. П. Анненкову от 12 августа 1918 г. решительно возражает против изображения Христа в финале поэмы: «Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит, “Христос с флагом” – это ведь – и так и не так. Знаете ли Вы (у меня – через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и главное – за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как – не умею сказать» [Блок, 1963. С. 514]. Теперь медиатекст не только активно пользуется мультимедийно-стью, но и осознанно активизирует ее значимость. Так, в авторской редакции пьесы Оли Мухиной «Летит» «очевидна гетеро-номность (разновидовость и разноликость) текста, в которой спрессованы самые разнообразные виды деятельности – лингвистический, изобразительный, перцептивный, миметический, жестикуляционный, познавательный. Пьеса, в ее напечатанном виде, визуально, до постановки на сцене, уже представляет симультанный сплав этих форм – “видов деятельности”» [Шатина, 2011. С. 73]. Благодаря тому, что каждый словесный кусок текста подкрепляется равноценным иконическим медиатекстом – рекламным объявлением, сводкой погоды, вырезкой из модного журнала – возникает эффект семиотического пограничья: художественная значимость словесного текста и повседневность иконического сообщения порознь теряют свой основной семантический показатель, но именно в пограничной, имплицитной, никак не выраженной зоне закладывается главный эстетический эффект.
Другим важным параметром, обусловившим статус текста в современной культуре, становится его дисперсность. Для научных, публицистических и иных типов текста, которые базировались на принципах классической риторики, важнейшим фактором было соблюдение правил диспозиции, которая ценилась неизмеримо больше, нежели инвенция. Как любил говорить А. Мо-руа, «важны не столько аргументы, сколько порядок, в каком они возводятся в дело». Распределение информации в тексте, расположение доводов и согласование отдельных частей между собой обеспечивает линейное, горизонтальное движение традиционного текста и способствует его оптимальному восприятию. В структурированном художественном тексте наряду с горизонтальным движением важна роль и вертикального членения (начальные буквы акростиха, особая значимость рифмы и т. п.). Однако в обоих случаях членения сохраняется линейная и непрерывная последовательность. Возникающая дисперсность предполагает, что каждый из нас может подключиться к восприятию медиатекста в любой момент и при желании двигаться либо к его началу, либо к его концу, опуская те или иные фрагменты, поскольку между ними вместо текстовой энтелехии реализуется принцип значимой пустоты. Здесь, в отличие от классического типа текста, пустота уже понимается не как механическая остановка, делящая целое на части, но как значимый момент семантики. Так, например, построены многие музыкальные произведения Кар-лстайна Штокхаузена. Как показали неори-торические исследования Э. Эстерберг, молчание в коммуникации также не является механическим промежутком между фрагментами смысла, но образуют новые поля различных семантических возможностей [1996].
Наконец, дисперсность, рассеянность текста нового образца обеспечивает его ризо-матический характер. Реперные точки такого текста демонстративно отказываются от «бриллиантовой схемы», поскольку важный смысл возникает не там, где это диктуется логикой изложения, но целиком вытекает из принципа неопределенности. В «Письмовнике» М. Шишкина эпистолярный диалог между героем и героиней осуществляется не только из разных точек пространства, но и из разных эпох. Герои вспоминают общее детство, но если Володя оказывается выброшен назад и принимает участие в подавлении восстания Боксеров в Китае (рубеж XIX–XX вв.), то героиня Сашенька проживает долгую жизнь от начала 1950-х до середины 1960-х гг., которую и отсылает в начало века, при этом главный герой погибает в первом же бою, и героиня знает об этом, что, впрочем, не мешает возлюбленным продолжать переписку. Таким образом, основные события эпистолярного романа возникают не там, где их ожидаешь, ориентируясь на формальную логику, но там, где их своей волей устанавливает скриптор. Все это в прямом смысле напоминает бесконечность мицилий, время от времени прорывающихся на поверхность в виде грибов.
При ризоматическом членении текста происходит, если бы можно было так сказать, «детекстация», разрушение жесткой структуры повествования, его основных нитей. В свою очередь это позволяет говорить о новом семиотическом состоянии культуры. В свое время Ю. М. Лотман определил культуру как набор текстов. С большой долей вероятности можно утверждать, что формирующаяся на наших глазах культура будущего станет не культурой текстов, а культурой пограничных состояний, требующих для своего описания нового семиотического аппарата. В этом случае само понятие текста, центральное для первых этапов структурализма, потребует замены, и ничего лучшего, чем назвать такой текст гипертекстом, видимо, придумать нельзя.
Хотя понятие гипертекста было введено Тедом Нильсоном только в 1963 г., примерно за 40 лет до этого Хосе Луис Борхес написал свой блистательный рассказ «Сад расходящихся тропок». В нем Стивен Альбер рассказывает пришедшему к нему немецкому шпиону Ю Цуну принцип романа некоего древнего писателя Цюй Пэна: «Стоит герою любого романа очутиться перед несколькими возможностями, как он выбирает одну из них, отметая остальные; в неразрешимом романе Цюй Пэна он выбирает все разом. Тем самым он творит различные будущие времена, которые в свою очередь множатся и ветвятся. Отсюда и противоречия в романе. Скажем, Фан владеет тайной; к нему стучится неизвестный; Фан решает его убить. Есть, видимо, несколько вероятных исходов: Фан может убить незваного гостя; гость может убить Фана; оба они могут уцелеть; оба они могут погибнуть и так далее. Так вот, в книге Цюй Пэна реализуются все эти исходы, и каждый из них дает начало ровным развилкам. Иногда тройки этого лабиринта пересекаются: вы, например, явились ко мне, но в каком-то из возможных вариантов вы – мой враг, а в ином – друг».
Как мы помним, Ю Цюй реализует новую возможность: он убивает Альбера, но не потому, что он друг или враг, а потому, что его фамилия совпадает с названием города, который нужно разбомбить немецкой авиации после того, как сообщение об этом преступлении появится в средствах массовой информации. Знак имени становится более значимым не только, чем само имя, но и чем рассказанный роман – лабиринт, созданный Цюй Пэном. Тем не менее этот виртуальный текст вполне может рассматриваться как предтеча всех остальных гипертекстов.
Вместе с тем следует заметить, что возникновение Сети, Мировой паутины, – это не только начало конца гуттенберговой эпохи, но и принципиальное изменение статуса самого гипертекста. Если в рамках текста-лабиринта автор все же выступает как истинный хозяин, который единолично творит перформативный дискурс, то, размещая свое произведение в Сети, он лишается всех перформативных привилегий. Теперь потенциально любой пользователь может беспрепятственно входить в текст, править и редактировать его, а в крайнем случае существенно менять весь ход наррации. А это значительно меняет традиционную оппозицию автор – читатель: смерть автора, о которой писал Р. Барт, становится всамделишной смертью писателя как создателя произведения. Происходит сжатие функции автора до уровня первого толчка, дающего импульс тексту, с последующим обнулением его роли для последующего изъятия. И, напротив, резко возрастает позиция читателя: из простого поглотителя текста он в процессе деконструкции превращается в создателя собственной «интертекстуальной энциклопедии» В таком случае диалог автора и читателя становится, по выражению Перрона – Маузесса, «бесконечным полем для игры письма». Именно подобная игра кардинально меняет прежние достаточно отчетливые границы между художественным текстом и медиатекстом, создавая семиотическое пограничье, берущее на себя значительную долю смысла и культурного значения.
В завершение статьи хотелось бы вспомнить о человеке, который почти за полвека очертил контуры культуры, свидетелями и участниками которой мы стали в XXI в. Речь идет об А. Моле и его исследовании «Социодинамика культуры» (1967). Вот как он охарактеризовал различие культур старо- го и нового типа. «Роль культуры состоит в том, что она дает человеку “экран понятий”, на который он проецирует и с которым он сопоставляет свои восприятия внешнего мира. У традиционной культуры этот “экран понятий” имел рациональную “сетчатую” структуру, обладавшую, так сказать, почти геометрической правильностью. По целостной и стройной сети понятий человеку ничего не стоило перейти, скажем, от китайского фарфора к карбюратору и соотнести новые понятия со старыми. Современная культура, которую мы называем “мозаичной”, предлагает для такого сопоставления экран, похожий на массу волокон, сцепленных как попало, – длинных, коротких, толстых, тонких, размещенных почти в полном беспорядке. Этот экран вырабатывается в результате погружения индивидуума в поток разрозненных, в принципе иерархически не упорядоченных сообщений – он знает понемногу обо всем на свете, но структурность его мышления крайне ограничена. Математически различие между этими двумя культурами можно выразить путем противопоставления понятия близкого порядка (“мозаичная культура”), где культуремы связаны так называемыми марковскими вероятностями ассоциаций… понятиям дальнего порядка, где идеи упорядочены в иерархию определенными структурами связей (в том числе синтаксическими структурами)» [Моль, 2008. С. 44]. Разумеется, вводя все более тонкие дифференциации в описание двух противоположных типов культуры, мы не наделены правом оценки, какая из этих культур лучше или хуже другой. Они просто разные, с разными исходными принципами, разными кодами, обусловившими различие границ между текстами, а также сужение или, напротив, как в культуре нашего времени, расширение пограничных зон.
Список литературы Медиатекст vs художественный текст: семиотическое пограничье
- Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8.
- Дейк Т. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Моль А. Социодинамика культуры. М., 2008.
- Пескова Е. Н. Гипертекстуальность медиатекста: теоретические обоснования // Медиатекст как целевой элемент журналистского образования. Челябинск, 2013.
- Шатин Ю. В. Границы текста как семиотическое понятие // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 6. С. 93-98.
- Шатина Л. П. Культурные слои новой драмы // Современная драматургия (конец XX - начало XXI в.) в контексте театральных традиций и новаций. Новосибирск, 2011.
- Эстерберг Э. Молчание как стратегия поведения // Arbor Mundi. М., 1996. Вып. 4.
- Labov W., Waletzky J. Narrative Analysis // Essay on the Verbal and Visual Arts. Seattle: Univ. of Washington Press, 1967.