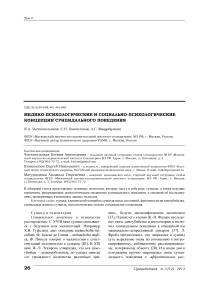Медико-психологические и социально-психологические концепции суицидального поведения
Автор: Чистопольская Ксения Анатольевна, Ениколопов Сергей Николаевич, Магурдумова Людмила Георгиевна
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 3 (12) т.4, 2013 года.
Бесплатный доступ
В обзорной статье представлены основные нозологии, которые несут в себе риск суицида, а также ведущие концепции, раскрывающие психологические механизмы суицидального поведения, и сведения об исследованиях, проверяющих взаимосвязь данных подходов.
Суицид, клинический коморбид суицидальных состояний, феноменология самоубийства, социальные аспекты суицида, психологические модели суицидального поведения
Короткий адрес: https://sciup.org/140141392
IDR: 140141392 | УДК: [616.89–008.441.44]–058
Текст научной статьи Медико-психологические и социально-психологические концепции суицидального поведения
Суицид в психиатрии.
Суицидальное поведение и психические расстройства. С XVIII века суицид связывается с безумием или меланхолией. Например, Х.В. Гуфеланд дает описание melancholia sui-cidium, Ф. Буасье де Соваж – melancholia angli-ca, Ф. Пинель говорит о меланхолии с сопутствующей склонностью к суициду [83]. В XIX веке Ж.-Э. Эскироль утверждал, что все самоубийцы – душевнобольные, но суицид зависит «от громадного количества различных при- чин», будучи неспецифическим симптомом [35]. Однако его ученик Ж.-П. Фальре исследовал связь самоубийства и ипохондрии и включил суицидальное поведение в описанный им маниакально-депрессивный синдром [37]. З. Фрейд предположил, что депрессия и суицид суть выражение гнева по отношению к интро-ецированному, амбивалентно рассматриваемому, потерянному объекту [20]. И в наши дни в психиатрии прочно закрепилась связь суицидального поведения с аффективными рас- стройствами. Замечено, что расстройства настроения, особенно в сочетании с тревогой на ранних этапах заболевания, повышают риск суицида [52, 56, 65], хотя суицидоопасность сохраняется на протяжении всей болезни [40] и даже спустя какое-то время после угасания симптомов.
Самоубийство больных шизофренией связывают с безнадежностью, усталостью, осознанием надвигающегося «распада Я», отчаянием и неудовлетворенностью лечением [42]. Большему суицидальному риску подвержены больные параноидной формой шизофрении, меньшему – пациенты с негативной симптоматикой [41]. Самоубийства наиболее часты в период ремиссии и / или же при подавленном настроении, в остром периоде – при депрессивно-параноидном и параноидном синдромах [9]. В ряду факторов риска суицида пациентов с шизофренией обычно рассматривают молодой возраст, раннюю стадию заболевания, хороший преморбид (успехи в учебе и работе), интеллектуальные способности, частые эпизоды психоза и постпсихотическую депрессию [12, 62, 70].
В качестве суицидоопасных диагнозов выделяют тревожные расстройства (риск импульсивности) [10, 19]; расстройства пищевого поведения (больной крайне недоволен своим телом) [6, 15]; адаптационные расстройства и реакции на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство (больному трудно найти копинг-стратегию) [1, 7, 17], злоупотребление психоактивными веществами (обостряются импульсивность, внутренние конфликты; в некоторых случаях алкоголь употребляют после решения о суициде, чтобы облегчить реализацию намерения) [3, 5, 17, 23]. После принятия в СССР закона об ограничении продажи спиртного в 1985 г. произошло резкое снижение уровня самоубийств [18]. Суицидоопасны мучительные и смертельные соматические болезни (человек приближает неотвратимый конец или его страшат потеря трудоспособности и беспомощность) [11, 17].
Суицидальное поведение называют «визитной карточкой» пограничного и нарцисси-ческого личностных расстройств (по DSM-IV) [15]. Связь нарциссизма (тщеславия) и суицидальности замечена в 30-х гг. ХХ века [91]. Термин «злокачественный нарциссизм» ввел в 1964 г. Э. Фромм [47], считавший его «квинтэссенцией зла» и безусловным отрицательным феноменом. Х. Кохут [61] отмечал недостаточ- ную развитость супер-эго пациентов, не способствующего благоприятному разрешению сложной ситуации, но выступающего в роли палача. При злокачественном нарциссизме с характерными садизмом и расщеплением как защитными механизмами, атака на «Я» и собственное тело в виде самоповреждений или суицидальных попыток служит парадоксальной мерой поддержания цельности «Я», причем тело воспринимается суицидентом как чуждое ему, как собственность обидчика [48, 60]. Суицидальные попытки совершаются с целью запугать, вызвать ужас, отвращение и беспомощность у близких: так подтверждается картина мира «нарциссов», где окружающие безразличны к ним или враждебно настроены.
По непсихоаналитической концепции [87], нарциссизм определен как психическая активность, направленная на поддержание структурной связности, временной стабильности и позитивной аффективной окраски образа «Я». Задача решается адаптивными или дезадаптив-ными средствами. В контексте нарциссизма здоровая самооценка противопоставлена нарциссическому самообману [68], «подлинная» самооценка – «хрупкой» [26], «незащитная» – «защитной» [78]. Исследования самосознающих эмоций нарциссических личностей [89] показывают, что последние склонны приписывать позитивные события внутренним, стабильным и неконтролируемым факторам («я горд собой», а не «я горд тем, что я сделал», «я получил «пять», потому что я очень умный», а не «потому что старался»), что способствует тщеславию вместо здорового чувства гордости, негативные же самоописания прячутся глубоко «вовнутрь». Нарциссы постоянно ищут подтверждения своей грандиозности вовне, чтобы не раскрыть для себя болезненное самосознание, способное вызвать суицидальные импульсы. Такое поведение закономерно ведет к хрупкости самооценки. Напротив, люди с внутренней оценкой, соответствующей внешней и не зависящей от условностей, менее склонны к патологическому стыду и к агрессивному (аутоагрессивному), асоциальному поведению при неудаче, а при успехе испытывают «истинную» гордость в сочетании с уверенностью, продуктивностью и самоценностью. Они приписывают и успех, и неудачу нестабильным, но контролируемым аспектам «Я» (как усилие), которые способны меняться, а не абстрактному «величию».
Ключевым механизмом суицидальности пациентов с пограничным личностным расстройством является импульсивность – нарушение эмоциональной регуляции. Эта врожденная ранимость – особенность темперамента, утяжеленная недостатком воспитания. Суицидальные попытки и самоповреждения становятся стереотипом совладания с «неуправляемыми» эмоциями и средством привлечения внимания к своим нуждам. Тем не менее, M. Lihenan [63] полагает, что называть такое поведение «манипулятивным» неточно и вредно. Задача терапевта – научить пациента справляться со своими чувствами, решать типовые проблемы адекватными способами, показать, что в примирении полярных взглядов содержатся возможности изменений. Хотя исследования, призванные подтверждать эффективность диалектической поведенческой терапии пограничных пациентов, недостаточно доказательны [82], она является одной из самых известных. В схема-терапии [93] противопоставлены укоренившиеся паттерны поведения и «здоровое» поведение; терапия, сфокусированная на переносе [30] основана на теории объектных отношений О. Кернберга [60]; лече-ние-ментализация [24] обучает интерпретации поведения других людей. Так или иначе, терапевты имеют дело с эмоциональной дисфункцией и повторяющимся поведением.
Феноменологические концепции: суицид как процесс.
E. Ringel ввел в психиатрию понятие пре-суицидального синдрома [75], в котором ключевыми являются феномены сужения сознания, сдерживаемой и направленной на себя агрессии и фантазии о смерти и суициде. Сужение сознания проявляется и в том, что человек перестает замечать варианты выхода из проблемной ситуации, становится пассивным, ригидным, у него снижается действие эго-защит, и в сужении межличностных отношений, изоляции, и в снижении ценности себя, различных областей мира, взглядов других людей. Позднее E. Ringel выделил невроз искажения жизни , который, не будучи прерванным, приводит к самоубийству [76].
W. Poeldinger [69] описал пресуицид как ряд последовательных стадий. На стадии решения человек рассматривает суицид вариантом решения проблем. Происходит обращение на себя агрессии, усиленной изоляцией. Стадия амбивалентности характеризуется внутренней борьбой между конструктивными и деструктивными силами в человеке, нерешительностью. Возникают суицидальные угрозы, частично как призывы о помощи, выполняющие успокаивающую функцию. Человек желает и жить, и умереть, но если жить, то по-другому. Затем суицидент принимает решение и становится спокойным – неожиданно для близких, обычно заключающих, что опасность миновала. Инфантильные, эксплозивные, психопатические личности, психотические больные проходят стадии очень быстро, тогда как у больных с психогенными реакциями, депрессиями стадия амбивалентности длится дольше.
L. Farber [38] представил динамику суицидального поведения психологической лестницей, ведущей к неизбежной кульминации, «суицидальной жизни» и суициду. Психотерапевт должен обнаружить мотив за мотивом, чтобы дать пациенту предписания, как избежать каждого звена суицидальной цепи. Суицид может казаться «тузом в рукаве», универсальным решением жизненной проблемы, проявлением нравственной правоты и мужества, оправданием невыносимости существования. Но такой взгляд лишает смысла саму жизнь (любое событие равнозначно смерти), отрицает личный выбор (суицид ощущается как неизбежность) и ответственность.
N. Retterstol [74] определил суицидальный процесс как развитие от суицидальных мыслей до завершенных действий. Суицидальные попытки и суицид могут быть рассмотрены как количественно различающиеся выражения фундаментальной суицидальной тенденции. Актуальный процесс может длиться в течение дней, недель, месяцев или лет, быть хроническим или острым, но ему предшествует период длительного развития, истоки которого лежат в раннем детстве. Если происходит что-то, смягчающее давление, суицидальный процесс переходит в «молчаливую» фазу. Он развивается в тесном общении с близкими суициденту людьми: их понимание и поддержка так же важны, как их безнадежность, пренебрежение, молчаливое санкционирование самоубийства. Триггерами кризисных ситуаций часто являются интимные и семейные конфликты, потеря или угроза потери близких партнеров, физическое заболевание, изменение среды или социальная изоляция.
Концепции социального окружения.
Суицид и общество. Э. Дюркгейм [8] первым оспорил медицинскую концепцию самоубийства. На основании социального устрой- ства он выделил три типа самоубийств. Эгоистическое самоубийство происходит в обществах, где проповедуется индивидуализм (протестантские страны). Стремление к знаниям есть лекарство против этой «болезни», но помогает и общественная сплоченность, семья. Аномичное самоубийство возникает при социальных и экономических кризисах. В кризисные состояния включены и бедность, и богатство: в обоих случаях определяющим фактором служит отчуждение. Альтруистическое самоубийство наиболее часто случается в армии как акт защиты социальных ценностей, оно противопоставлено эгоистическому самоубийству.
Одиночество. Первой теорией о роли одиночества в формировании суицидального поведения стала работа З. Фрейда «Печаль и меланхолия» (1917), где говорится о тоске по утраченному объекту [20]. Н. Фарбероу и Э. Шнейдман (1961) описали различные причины одиночества [39]: недостаточную социализацию (расхождение между ценностями индивида и группы), попадание в среду с пониженной коммуникативностью или сложные личные и социальные обстоятельства (эмиграция, статус беженца, резкие социально-экономические изменения в стране), потерю близких, работы, статуса, внутренний мир творческого человека и «одиночество вдвоем», когда человек не может найти общий язык с близким. Суицидальная попытка служит призывом о помощи, попыткой сообщить обществу о глубоком внутреннем неблагополучии. О жалобах суицидальных пациентов на одиночество писали А.Г. Амбрумова и О.Э. Калашникова [4]. Популяционное исследование A. Stravynski и R. Boyer [88] показало, что ощущение одиночества чаще, чем формальное отсутствие близких связей сопутствует суицидальным переживаниям. Оно же предшествует разрыву с ближайшим окружением.
Этно-культуральные факторы. Б.С. По-ложий [14] изучал различия в суицидальном поведении финно-угорской и славянской групп. Распространенность самоубийств на севере нашей страны на порядок выше уровня суицидов в центральной части и на юге. К суицидальным факторам финно-угорской группы автор относит позднее принятие христианства, порицающего самоубийство; значимость реальных объектов (одежды, жилища, предметов быта, религиозных амулетов) как важных ас- пектов самоценности; предвосхищение лишь эмоционально положительных событий (несоответствие планирования с реальностью становится суицидогенным фактором); веру в загробную жизнь, мало отличимую от реальной, закрепление суицидального поведения в эпосе.
Психологические концепции.
Мотивы суицидального поведения. К. Меннингер [13] выделил три мотивационных компонента самоубийства: желание умереть, убить и быть убитым, – и распространил понятие самоубийства на родственные явления, назвав их хроническим (аскетизм и мученичество, неврастения, алкогольная зависимость, антиобщественное поведение и даже психоз), локальным (членовредительство, многочисленные хирургические операции, несчастные случаи) или органическим суицидом (психологический фактор соматического заболевания).
Э. Шнейдман и Н. Фарбероу [85] ввели понятие психологической аутопсии, метода исследования личности погибшего суицидента. Это анализ последних поступков человека на основе интервью с его близкими, его дневниковых и иных записей. Авторы обратили внимание на алогичность суицида: суицидальные записки отличались чрезмерным вниманием к малозначимым подробностям, тривиальным, обыденным вещам и склонностью к нейтральным фразам. Помимо озабоченности, как воспримут поступок окружающие, люди просили не думать о них плохо. Важной особенностью суицидентов оказалась вера в жизнь после смерти: они угрожают наказать обидчика или обещают следить за любимыми с небес. Тогда же авторами был введен термин « душевной боли » (психалгии). Суицид проистекает из ее невыносимости: убивая себя, человек пытается прекратить тяжелое переживание.
Э. Шнейдман [84] сформулировал общие характеристики суицида, исходя из мотивационной модели: цель – нахождение решения, задача – прекращение сознания, стимул – невыносимая душевная боль, стрессор – фруст-рированные потребности, эмоция – безнадежность-беспомощность, внутреннее отношение – амбивалентность, состояние психики – сужение когнитивной сферы, действие – бегство, коммуникативный акт – сообщение о своем намерении, закономерность – соответствие жизненному стилю. Ученый полагал, что стоит утолить душевную боль суицидента, уменьшив его страдания в силу фрустрированных психо- логических потребностей, и побуждение к самоубийству исчезнет. Он выбрал 20 основных потребностей из списка Г. Мюррея [66], фрустрация которых вызывает суицидальное поведение: самоуничижение, достижение, дружба, агрессия, автономия, противодействие, самооправдание, почтение, доминирование, демонстративность, избегание опасности, неприкосновенность, забота о другом, порядок, игра, отвержение, чувственность, избегание стыда, получение поддержки и понимание. Автор предложил оценивать значимость каждой потребности в обычном и суицидальном состоянии и указал проблемные сочетания потребностей: неудовлетворенность в любви (стремление к поддержке и дружбе), нарушение контроля (потребности в достижении, независимости, порядке и понимании), нарушение образа «Я» (потребности в дружбе, самооправдании и избегании стыда), разрушение значимых отношений и горе от потери (потребности в дружбе и заботе о другом) и чрезмерный гнев (потребности в доминировании, агрессии и противодействии) [22].
Ситуационные реакции. Ключевым понятием концепции А.Г. Амбрумовой [1] является ситуационная реакция (микросоциальный конфликт), возникающая при столкновении личности с препятствием на пути удовлетворения важнейших жизненных потребностей, которое не может быть устранено способами решения проблем, известными личности из ее жизненного опыта. Во всех «непатологических ситуационных реакциях» их суицидоопасность определяется резким снижением способности конструктивного планирования (степенью безнадежности). Однако важны и личностные параметры: динамические и энергетические условия эмоциональных процессов (уровень их лабильности или торпидности, стеничности или астеничности), степени интеллектуального контроля и характеристики коммуникативной сферы личности. Описаны 6 ситуационных реакций: 1) эмоционального дисбаланса; 2) пессимистическая; 3) отрицательного баланса; 4) демобилизации; 5) оппозиции и 6) дезорганизации. Позже А.Г. Амбрумова выделила две центральные группы суицидальных мотивов: мотивы неблагополучия (одиночество, тяжесть жизни, потеря близких) и мотивы конфликта, в который вовлечены и другие лица, и различала суицид диалогический, несущий смысл протеста, призыва о помощи, избегания страдания, и монологический – как результат внутреннего монолога или размышления о смысле жизни [2].
Когнитивная модель суицидального поведения. В 1967 году А. Бек сформулировал концепцию негативной когнитивной триады: негативный взгляд человека на себя, мир и собственное будущее [27]. Позже он заметил, что суицидальные кризисы происходят, когда человек воспринимает ситуацию невыносимой и безнадежной [29]: безнадежность и сопутствующие ей когнитивные искажения играют роль катализаторов самоубийства. Он также разработал шкалы суицидальных намерений и летальности, которые оценивают тяжесть суицидального состояния [28].
Идеи А. Бека адаптированы рационально-эмотивной поведенческой терапией Т. Эллиса и К. Рэтлиффа [34]. Авторы сформулировали проблемы суицидального мышления: люди склонны строить цепочку «событие – ответ», пропуская мысли по поводу события, преувеличивая тяжесть событий и снижая их переносимость, оценивая себя вместо своего поведения (условное принятие себя).
Ученик А. Бека M. Rudd [77] разработал концепцию гибкой ранимости и суицидального модуса поведения. При активации суицидального модуса возникают суицидальные мысли, негативный аффект, физиологическое возбуждение и намерение покончить с собой. Этот модус легче активируется у людей, которые уже совершали попытки самоубийства, и регулируется особыми триггерами и факторами, отвечающими за длительность и силу суицидального эпизода. Автор выделил когнитивную (трудности в решении проблем, недостаток когнитивной гибкости, суицидальная система убеждений), биологическую (физиологические и аффективные симптомы) и поведенческую (недостаток навыков межличностных отношений, самоконтроля и регуляции эмоций) ранимость. Терапия фокусируется на этих факторах, а не на психиатрическом диагнозе.
Недавние исследования [33, 67] показали преимущество модели душевной боли (Э. Шнейдман) над безнадежностью (А. Бек) в понимании суицидальности в группах риска (студенты, бездомные). Душевная боль лучше предсказывала широкий спектр суицидального поведения, нежели безнадежность, депрессия и низкая осмысленность жизни, хотя эти концепты тоже имеют объяснительную силу.
Модель диатез-стресса подразумевает, что у человека существует врожденный или приобретенный в результате жизненного опыта недостаток некой способности, который провоцирует суицидальное поведение.
Решение проблем и суицидальный риск. Люди с нехваткой дивергентного мышления (метод творческого мышления для решения задач, к которым нет готовой инструкции) испытывают трудности в совладании с неблагоприятными жизненными событиями, в результате чего переживают чувство безнадежности, что, в свою очередь, чревато суицидом [79]. Люди с суицидальными мыслями способны дать вполовину меньше решений на задачи о межличностном общении [80]. Связь между решением проблем и самоубийством была подтверждена [64] с указанием депрессии как отдельного предиктора суицида [35].
Перфекционизм. Связь перфекционизма (нереалистичных и идеалистичных требований человека к себе) и суицидальности отмечена полвека назад [55]. Показана потенциальная суицидоопасность чрезмерных требований человека к себе [79] и со стороны значимых других [51]. Перфекционизм и чувствительность к критике связаны с суицидальными мыслями [69]. R. Baumeister [25] выдвинул концепцию, по которой внутренние требования к себе и воспринимаемые требования общества запускают цепь реакций: сфокусированность на себе, внутренние атрибуции как самообвинение, негативный аффект и попытки избежать болезненного самосознания, что провоцирует снятие внутреннего запрета на самоубийство. P. Hewitt и G. Flett показали, что перфекционизм вкупе со стрессом предсказывают суицидальность и депрессию, причем ориентированный на «Я» перфекционизм вносит больший вклад [52, 53]. Видимо, люди с завышенными стандартами воспринимают больше событий в качестве стрессовых, у них меньше вариантов положительного исхода, так как они стремятся только к полному успеху. Восприятие ситуации может повлиять и на самооценку, и у этих людей могут включиться «перфекционистское мышление» и самокритика, увеличивающие шанс неудачи. С другой стороны, социально предписываемый перфекционизм порождает безнадежность, так как человеку кажется, что он не может повлиять на окружение, и провоцирует отчуждение, а также коррелирует с низкой адаптацией в обществе. P. Dean и L. Range, взяв за основу модель «шести шагов бегства» R. Baumeister [25], показали, что со- циально предписываемый перфекционизм предсказывает депрессию, депрессия – безнадежность, безнадежность – одновременно недостаток смыслов жизни и суицидальные мысли [31, 32]. Психалгия опосредует отношения между социально предписываемым перфекционизмом и суицидальностью, а отношения между социально предписываемым перфекционизмом и психалгией, в свою очередь, опосредуются неудовлетворенными психологическими потребностями [42].
A. Graham [47] и коллеги предложили экзистенциальную модель перфекционизма и депрессивных симптомов. Перфекционисты не только склонны к катастрофическому мышлению (преувеличению преград и идеализации цели), но и испытывают трудности принятия жизненного опыта, ощущения целенаправленности, осмысленности и связности собственной жизни. Они придерживаются катастрофического взгляда на свое настоящее и мрачно видят прошлое, что сказывается на склонности к депрессиям и суицидальному поведению. Е.Т. Соколова и П.В. Цыганкова полагают, что для суицидальных пациентов с высоким перфекционизмом характерны такие особенности мышления как сверхобобщения, оценочность, игнорирование ограничений, императивность и низкая дифференцированность, что снижает ресурсный потенциал и адаптационные возможности в новых, трудных, неопределенных или кризисных ситуациях [16].
Автобиографическая память. Модель крика боли. J. Williams и C. Broadbent [90] показали, что в остром постсуициде люди описывают негативные события так же, как в норме, различия обнаруживаются при воспроизведении позитивных воспоминаний: пациенты вспоминают «сверхобобщенно», не могут вспомнить подробности, им нужно больше времени для ответов. Из-за этого суициденты испытывают трудности в эффективном решении проблем: хотя изначально сверхобобщения играют защитную роль (не дают травматическим воспоминаниям проникнуть в сознание), в итоге они сказываются и на планировании будущего, а неудачи приводят к ощущению беспомощности [36]. Трудности в решении проблем и безнадежность относительно будущего порождают ощущение западни, что, в свою очередь, провоцирует суицид [91]. Сверхобобщенная автобиографическая память играет опосредующую роль между социально предписываемым перфекционизмом, суицидальными мыслями и депрессией; особенно задействованы позитивные воспоминания [73].
Концепция сепарации. Концепцию «внутренних голосов», которые высказывают критические суждения о человеке и направляют его на путь саморазрушения, выдвинул R. Firestone [43]. «Внутренний голос», или негативный мыслительный процесс якобы существует у всех людей, и крайним проявлением его являются императивные и комментирующие слуховые галлюцинации при шизофрении. Интерио-ризованные высказывания и негативные родительские образы актуализируются в любых жизненных ситуациях и являются ответом на расплывчатые страхи поражения и, шире, смерти. Суицид становится самонаказанием и попыткой стать хозяином собственной смерти. В отличие от когнитивной психотерапии, предлагающей переформулировать негативные мысли, автор считает необходимым вычленять из мыслительного процесса эти высказывания и делать упор на то, что они являются негативными артефактами воспитания, исключительно разрушительными по своей сути, а не здоровым ядром «Я».
Концепции суицидального поведения в позитивной психологии.
Концепцию надежды C. Snyder [86] разработал в качестве антитезы когнитивной теории безнадежности А. Бека [29], утверждающей негативные мысли о будущем у суицидальных пациентов, тогда как теория надежды делает упор на недостатке позитивных ожиданий от будущего и объясняет появление надежды в онтогенезе: сначала появляется продумывание направлений деятельности (достижения целей) и потом – авторство, ощущение возможных свершений. Надежда может быть как чертой характера, так и преходящим состоянием; ей можно обучаться, ее можно тренировать, в чем и заключается терапия суицидальности [50].
Межличностный психологический подход. По T. Joiner [59], риск самоубийства высок при: 1) желании и 2) готовности умереть. Желание умереть определено кажущейся обременительностью существования для окружающих (низким ощущением собственной значимости) и нарушенными душевными связями с другими, разомкнутой привязанностью (отсутствием поддержки близких), что ведет к суицидальным мыслям. Но готовность к суициду приобретается через повторяющиеся переживания болезненных провоцирующих событий и при- выкание к ним: человек научается терпеть боль и не бояться смерти. Поэтому риск самоубийства повышается с числом суицидальных попыток и несуицидальных самоповреждений. Обременительность опосредует отношения между неадаптивным перфекционизмом и суицидальными мыслями [72].
Концепция расширения и построения позитивных эмоций. B. Fredrickson [45] предположил, что функция негативных эмоций (страх, гнев и отвращение) заключается в вызове особых действий. Так, страх вызывает стремление бежать, гнев – нападать, отвращение – оттолкнуть. Адаптивные ответы в угрожающей жизни ситуации способствуют выживанию, сужая репертуар мыслей индивида, вырабатывая специфические стили поведения. Поэтому при переживаниях печали, безнадежности, боли, выход через самоубийство кажется единственной возможностью. Напротив, позитивные эмоции расширяют репертуар мыслей и действий. Радость порождает желание игры, расширения границ, творчества, интерес вызывает стремление исследовать и узнавать новое, удовлетворение дает стремление смаковать жизнь. Люди, переживающие позитивный аффект, более гибкие, творческие, открыты новой информации, более эффективны в мыслительном плане [58]. Итак, позитивные эмоции могут построить систему стрессоустойчивости. Возникнет своеобразная спираль [46]: от позитивных мыслей к позитивным действиям, вызывающим позитивные эмоции. Для запуска спирали пациенту предлагают вспомнить позитивные события жизни, помимо обучения навыкам решения проблем.
Заключение.
Проблема самоубийства является мульти-дисциплинарной: суицид принято называть биопсихосоциальным феноменом. Изначально изучение суицидальности началось в рамках психиатрической патологии. Социальные исследования и экспериментальная психология раскрывают новые механизмы суицидального поведения, выделяют маркеры суицидального риска и обосновывают модели психотерапии. Психологические подходы многочисленны, но они дополняют друг друга, по-разному высвечивая особенности суицидальных пациентов, что способствует поиску решений в проблемах превенции, интервенции и поственции самоубийств. Тем не менее, необходимы длительные и широкие исследования, систематизирующие и уточняющие условия и границы диф- ференцированного применения и эффективности психотерапевтических методов в системе лечения и профилактики суицидального поведения.