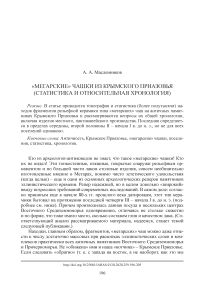"Мегарские" чашки из крымского Приазовья (статистика и относительная хронология)
Автор: Масленников А.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Железный век и античность
Статья в выпуске: 259, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье приводится топография и статистика (более полутысячи) находок фрагментов рельефной керамики типа «мегарских» чаш на античных памятниках Крымского Приазовья и рассматриваются вопросы их общей хронологии, включая изделия местного, пантикапейского производства. Последняя определяется в пределах середины, второй половины II - начала I в. до н. э., но не для всех поселений одинаково
Античность, крымское приазовье, "мегарские" чашки, поселения, статистика, хронология
Короткий адрес: https://sciup.org/143173112
IDR: 143173112
Текст научной статьи "Мегарские" чашки из крымского Приазовья (статистика и относительная хронология)
Кто из археологов-антиковедов не знает, что такое «мегарские» чашки! Кто их не видел! Эти тонкостенные, изящные, покрытые снаружи рельефным орнаментом и по большей части лаком столовые изделия, совсем необязательно изготовленные именно в Мегарах, помимо чисто эстетического удовольствия (когда целые) – еще и один из основных археологических реперов памятников эллинистического времени. Репер надежный, но в целом довольно «широкий» ввиду возросших требований современных исследований. В самом деле: согласно принятым еще в начале 80-х гг. прошлого века датировкам, этот тип керамики бытовал на протяжении последней четверти III – начала I в. до н. э. (подробнее см. ниже). Причем производилась данная посуда в нескольких центрах Восточного Средиземноморья одновременно, отличаясь не столько сюжетно и по форме, что тоже имело место, сколько составом глин и качеством лака. (Соответствующий анализ рассматриваемого материала, надеемся, станет темой следующей публикации.)
Находки, главным образом, фрагментов, «мегарских» чаш можно даже отнести к числу достаточно массовых при раскопках эллинистических слоев и комплексов практически всех античных памятников Восточного Средиземноморья и Причерноморья. Не «обижена» ими и наша «вотчина» – Крымское Приазовье. Если следовать «обратно» (т. е. с запада на восток, а не наоборот, как это мы http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.259.196-205
видим у одного из неведомых нам источников Клавдия Птолемея) древним пери-плам, то первым таким пунктом является Семеновское городище. Основательно раскопанное во второй половине 50-х – начале 60-х гг. XX в. И. Т. Кругликовой, оно просуществовало весьма длительное время, начало которого как раз определяется обнаружением немногочисленных фрагментов рельефной посуды, покрытой «коричневым или плохим черным лаком». (На рисунке представлены склеенные части трех различных сосудов. Сколько всего было найдено обломков – неясно. См.: Кругликова , 1970. С. 4–6. Рис. 5. Время же основания поселения Ирина Тимофеевна относит к последней четверти III в. до н. э., что, надо думать, в немалой степени опиралось на тогдашнюю датировку «мегарских» чаш.)
На следующем большом поселении (усадьбе) – Казантип-западный (Мысо-вое), также на довольно значительной площади (более 1000 кв. м), было обнаружено всего три обломка интересующей нас керамики, из которых один – сероглиняный ( Масленников , 2010.С. 215).
Далее – городище Казантип-восточный I (Афанасьевка). Датировка материала двух «сопровождавших» его зольников, исходя из раскопок И. Т. Кругликовой, – конец III – начало II в. до н. э. и позднее – вплоть до III в. н. э. Но о «ме-гарских» чашах она не упоминала ( Кругликова , 1975. С. 107). Позднейшими изысканиями (здесь и потом – в основном работы Восточно-Крымской археологической экспедиции ИА РАН) тут был обнаружен один фрагмент сероглиняной рельефной чашки.
Соседнее (с востока) поселение (Казантип-восточный II) раскапывалось (И. М. Безрученко) в конце прошлого века. При общей хронологии памятника – первая половина III (конец III или рубеж III–II?) в. до н. э. – II (III?) в. н. э. – наличие среди находок «мегарских» чаш вполне ожидаемо, и они, действительно, присутствовали, хотя и в очень небольшом числе ( Ковальчук , 2013. С. 190. А также см.: Федосеев , 2018. С. 149–153).
Практически полностью было раскопано (И. Т. Кругликовой) поселение (усадьба) у дер. Ново-Отрадное (конец III или начало II в. до н. э. – IV в. н. э.) ( Кругликова , 1998. С. 143). Найдено было, судя по рисункам и фото, не менее трех фрагментов рельефных чаш, также отнесенных ею к III–II вв. до н. э. ( Кругликова , 1975. С. 115. Рис. 60; 1998. С. 144, 154. Рис. 5).
Далее к востоку (на восточной оконечности Казантипского залива) упомянем довольно большое городище Золотое (Золотое – берег). Значительные раскопки на нем (в отличие от некрополя) никогда не велись. Датировка – примерно та же, что и у вышеперечисленных памятников побережья ( Кругликова , 1975. С. 107; Корпусова , 1983. С. 13). Тем не менее среди сделанных находок (в том числе подъемного материала – автором статьи) есть и отдельные фрагменты «мегарских» чаш. А из раскопок некрополя происходит целая чаша II в. до н. э., аналогичная (по форме и орнаменту, но не составу и цвету глины) большинству изделий местного (пантикапейского) производства ( Корпусова , 1983. С. 39. Рис. 19: 16 ).
Вот, собственно, и все, чем мы располагали до относительно недавнего времени, т. е. до планомерных постоянных изысканий Восточно-Крымской археологической экспедиции ИА РАН, начиная с 1975 г. (Поскольку все материалы этих исследований являются «авторским правом автора», ссылки на конкретные номера находок по описям, годы работ, номера отчетов считаем излишними.) Продолжая как бы следовать в том же направлении, мы «получаем» довольно значительный новый материал.
Итак, первое на нашем пути – самое большое в Приазовье городище: Золотое восточное, или Сююрташ (условно: III–II вв. до н. э.). Раскопки его ведутся (с перерывами) уже более полутора десятков лет. Вскрытая площадь приближается к 4000 кв. м. На сегодняшний день коллекция рассматриваемой рельефной посуды, разумеется, как и почти во всех прочих «случаях» на поселениях, во фрагментах насчитывает 174 экземпляра. И это, не считая, опять-таки, как и во всех прочих собраниях, мелких, совершенно невыразительных обломков, не попавших в коллекционные описи, а, следовательно, и в фонды Керченского музея-заповедника. Должно оговориться, что работы на этом памятнике осуществлялись на двух разных, но сопоставимых по площади больших раскопах. Причем один затронул в основном территорию жилой и оборонительной застройки, а второй – мощного зольно-мусорного скопления (одного из зольников). Соотношение же соответствующих находок при этом примерно 1:5, что, в принципе, ожидаемо и естественно, но достойно внимания в плане хронологии (см. ниже).
Два обломка рельефных чаш присутствуют среди находок из «культово-мусорного сброса» в урочище «Ущелье ведьм» (близ поселения Куль-Тепе западное).
Пять фрагментов происходят из раскопок совсем маленького, но удивительно многослойного и долговременного (с IV в. до н. э. по VIII–IX вв. н. э.) объекта в западной части т. н. Генеральской бухты: поселения Салачик. Невдалеке раскапывался и грунтовой некрополь, вероятно, ему и принадлежавший. С него (остатки тризн) происходят аж 17 обломков рельефных чаш.
Затем, на вершине скалистого холма в восточной части той же бухты, находится объект явно сакрального «содержания», получивший, и обоснованно, название «сельский теменос». Археологически целых изделий и фрагментов «ме-гарских» чаш отсюда известно 124. Один или два – обнаружены и на соседнем городище (Генеральское-восточное).
На другом святилище, вблизи поселения Сиреневая бухта, найдено было 19 обломков этих чаш. Вообще говоря, все три сакральных объекта, естественно, специфичны, в том числе по набору находок и способу их попадания в культурные слои или культовые комплексы. Вероятно, это как-то отражалось на их хронологии и состоянии сохранности, но как? (Характеристику конкретного археологического контекста и описание находок см.: Масленников , 2007.)
Несколькими километрами восточнее располагается еще одно весьма исследованное городище: Крутой берег. Тут было найдено пока 47 фрагментов.
Самая значительная коллекция рассматриваемых артефактов происходит из раскопок (на площади около 5000 кв. м) поселения Полянка – 211 обломков.
Зато на Чокракском мысу (усадьба) найден всего один. А на мысе Зюк (Зенонов Херсонес) – 30 на площади около 3500 кв. м.
Какое-то количество интересующих нас фрагментов столовой посуды, вероятно, было обнаружено при разведках и эпизодических, незначительных по площади раскопках еще восточнее по побережью полуострова, в частности, близ мыса Варзовка (д. Осовины) (городище Парфений?). Общая датировка последнего пункта не противоречит такому предположению (Зинько, 1992. С. 29, 30; 1994. С. 128, 129).
Итак, в нашем распоряжении не менее шести с половиной сотен фрагментов «мегарских» чаш. При этом пытливого читателя, видимо, несколько удивит разница числа находок на разных, но хронологически близких, если не синхронных, приблизительно одинаково стратифицированных и в равной степени раскопанных приазовских поселениях (Сююрташ и Полянка – с одной стороны, и Крутой берег и мыс Зюк – с другой. Святилища – не в счет). Все объясняется просто. На первых двух, как уже писалось, – по большей части интересующие нас обломки керамики происходят из довольно мощных зольно-мусорных напластований, которые к тому же (это важно в плане хронологии) «по определению» вторичны. А во втором – в основном из слоев и заполнений, сопутствовавших жилой и хозяйственной застройке поселений, в общем-то и так небогатых разного рода индивидуальными находками. То есть, это «две большие разницы». Но вернемся к статистике.
Итак, много это или мало? Смотря с чем и где сравнивать. При масштабных раскопках в боспорских городах (Пантикапей, Нимфей, Мирмекий, Фанагория, Китей и нек. др.) – совсем немного. Там, надо думать (никто не считал и специально этим материалом давно не занимался), их количество исчисляется тысячами. Но на то они и города с их долговременным бытованием, достатком и более цивилизованным образом жизни обитателей, сложностью стратиграфии и социально обоснованной планировки, да и самим предназначением некоторых построек. Кстати, о стратиграфии и хронологии. Именно эти обстоятельства, естественно, и затрудняют там всякую «узкую» датировку отдельных категорий массового археологического материала. Иное дело – сельские поселения. Не все, конечно, но многие. Их жизнь, что называется, короче. Стратиграфия проще. Происхождение тех или иных комплексов находок понятнее и «закрытие».
Теперь – к вопросу о хронологии. Прежде всего, еще раз, о принятой в настоящее время общей датировке рельефной посуды данного типа. Начнем с того, что даже если бы мы совершенно не были знакомы с соответствующими исследованиями и литературой, можно уверенно утверждать, что импорт таковой в интересующий нас регион, да и вообще в Северное Причерноморье, а, следовательно, и более или менее точное время начала ее производства надо отнести к периоду после 278 г. до н. э. Почему именно так? Да потому, что около 288 г. до н. э., согласно мнению нашего, к сожалению, безвременно ушедшего выдающегося исследователя-клеймоведа Н. Ф. Федосеева, «происходят события, которые приводят к затуханию жизни практически на всех поселениях Крымского Приазо-вья».Примерно через десятилетие жизнь на побережье начинает возрождаться ( Федосеев , 2017. С. 175.) Это утверждение, основанное им только на анализе некоторых категорий амфорных клейм из местных раскопок, ранее высказывалось неоднократно и другими исследователями, но столь конкретные даты не приводились никем. На наш взгляд, возможно небольшое (до десятилетия) «омоложение» этих событий. Впрочем, датировки некоторых групп синопских амфорных клейм, как и клейм других главных центров поступления сюда амфорной тары, далеко не всеми специалистами определяются однозначно.
«Ну и что?» – спросит все тот же пытливый читатель. А то, что на раскопанных почти полностью или на весьма большой площади местных памятниках предшествовавшей эпохи (примерно вторая четверть IV – первая треть III в. до н. э.) (усадебные комплексы и сопутствовавшие им поселения т.н. царской хоры, прежде всего: Генеральское западное, Генеральское западное (юго-западный склон), Бакланья скала, Чокракский мыс и Казантип-западный) не найдено ни одного фрагмента «мегарских» чаш ( Масленников , 2010)! И это при том, что прочие «индивидуальные» находки (монеты, амфорные и черепичные клейма, обломки чернолаковых сосудов, в том числе с граффити, терракоты) исчисляются многими сотнями!
Разумеется, первопоселенцы новых городищ на Меотиде, кем бы они ни были и откуда бы ни пришли, вовсе не обязательно принесли с собой эту посуду. Но теоретически могли это сделать… если бы таковая на тот момент бытовала. Итак, «если бы»… Остается проанализировать соответствующим образом культурные напластования и комплексы на рассматриваемых памятниках, относящиеся именно к раннему, да и последующим этапам (периодам) их существования. Сделать это на основании прочих датирующих находок с точностью хотя бы до четверти века чрезвычайно сложно ( Масленников , 2020. С. 77 и сл.). Но некоторые выводы все же возможны. А именно: археологический контекст, в том числе стратиграфия, как будто бы свидетельствует, что на таких поселениях, как Сююрташ и Крутой берег, интересующие нас находки отсутствуют в «начальных» (вторая, третья четверти III в. до н. э.) слоях и встречены в основном в относительно более поздних (конец III – II в. до н. э.) напластованиях. В последнем случае это главным образом упомянутые уже зольники (свалки). Ведь очевидно, что мусор, как правило, – результат жизнедеятельности. И нередко – весьма продолжительной. Итак, с «нижней» датировкой только по материалам наших раскопок точнее пока не получается.
А что же по этому поводу говорят ныне у нас и в Европе специалисты? Не претендуя на сколь-либо полную историографию, вот что.
У нас, пожалуй, одни из первых попыток обобщения (о самих «мегарских» чашах писалось и раньше) принадлежат Т. Н. Книпович (1955. С. 370 сл.) и Н. М. Лосевой (1962. С. 195 сл.). Касаясь только вопросов хронологии, отметим, что Нина Михайловна полагала, что «ранние (лучшие по качеству лака) чаши» относились к III в. до н. э., но большинство из найденных в Северном Причерноморье – ко II в. до н. э. В следующей по времени большой публикации именно пантикапейского материала автор была склонна, исходя из археологической конкретики, писать в целом о более поздней дате: II–I вв. до н. э. ( Забелина , 1984. С. 154, 166), в редких случаях – конце III – рубеже II–I вв. до н. э. (С. 168). И еще реже – середине III – середине II в. до н. э. (С. 170). С. А. Коваленко, специально занимавшийся рельефной керамикой Северного Причерноморья, исходя из аналогий и зарубежных разработок ( Lamonier , 1977; Rotroff , 1982), а также с учетом соответствующих археологических реалий в основном северо-западного Крыма, придерживается для подавляющего большинства импортных «ме-гарских» чаш суммарной датировки в пределах II в. до н. э. Отдавая при этом предпочтение его середине или второй половине, он допускает, что начало относительно массового завоза этой керамики можно отнести и ко второй половине
III в. до н. э. Впрочем, для конкретных типов и центров иногда он определял ее хронологию в пределах четверти века ( Коваленко , 1989. С. 21–25; Внуков, Коваленко , 1998. С. 62–72; Коваленко , 2007. С. 217–224). (Аналогичным образом речь шла и об изделиях боспорского (пантикапейского) производства. Чуть ниже мы еще вернемся к этому сюжету.) Этой хронологии следовали в последнее время, насколько нам известно, все отечественные и зарубежные исследователи данного материала ( Турова, Коваленко , 2005. С. 339–349; Шапцев , 2008. С. 325–335; Ланцов, Шапцев , 2016. C. 397–410; Шкрибляк , 2012. С. 197–206; Kovalenko , 1996. Р. 55–57; Guldager Bilde , 2010. P. 269–288; Zuravlev, Zuravleva , 2014. P. 256–262; Rogl , 2014. P. 114; Fenn , 2014. P. 141–156; Petrova , 2014. P. 215–231 и из самых недавних работ – Jones , 2018. P. 11). Наиболее полно данная точка зрения (в массе своей – середина, вторая половина II в. до н. э.) нашла отражение в относительно недавно вышедшем своде «мегарских» чаш из собрания Керченского историко-культурного заповедника (ныне – Восточно-Крымского историко-культурного заповедника) ( Гжегжулка , 2010. С. 21–32 и сам Каталог).
Все эти публикации, как известно, опираются в данном вопросе на капитальный труд С. Ротрофф, в котором с некоторыми небольшими оговорками относительно центров производства и предлагается общая датировка рельефной посуды этого типа в пределах «позднего III и раннего I в. до н. э.», «последней четверти III – начала I в. до н. э.» и даже (нижняя дата) еще точнее – между 240 и 220 гг. до н. э. или 224/223 гг. до н. э. В соответствующем каталоге вообще самая ранняя дата – 225 г. до н. э. ( Rotroff , 1982. P. 1–15).
Из этого следует, что и наше «собрание» надо главным образом датировать серединой – второй половиной II в. до н. э. Вряд ли в такое захолустье эта посуда поступала раньше, чем в иные центры Средиземноморья и даже Причерноморья. А значит, с вышеупомянутым предположением о ее присутствии в составе «столового набора» первопоселенцев эллинистических городищ Крымского Приазовья мы поторопились. Напомним еще раз при этом, что основная масса соответствующих находок с поселений Полянка и Сююрташ происходит из относительно поздних зольно-мусорных свалок. Да и в прочих случаях (где это можно проследить) – не из ранних (в пределах III–II вв. до н. э.) слоев, заполнений и построек (Крутой берег, мыс Зюк). Так что первую сотню лет обитатели Приазовских городищ обходились в быту (застолья и вотивные приношения) без «мегарских» чаш.
Обратимся теперь к «верхним» датировкам. По всей видимости, этот вопрос уместно связать с местным производством рассматриваемой керамики, что уже довольно давно было подтверждено обнаружением при раскопках Пантикапея фрагментов форм для ее выделки (Блаватский, 1959. С. 174 сл.; Лосева, 1962. С. 195 сл.) и с тех пор не подвергалось сомнению. Особенно это касается изделий с клеймом мастера (или хозяина мастерской?) Деметрия. Занимавшийся исследованием этого материала С. А. Коваленко полагает, что выпуск таких чаш, скорее всего, следует относить к концу II – первой четверти следующего века (Kovalenko, 1996. P. 55–57; Внуков, Коваленко, 1998. С. 71. А также см.: Zuravlev, Zuravleva, 2014. P. 260, 261). Правда, автор только что упомянутого Керченского Свода С. Гжегжулка постоянно приводит для сосудов из этой мастерской несколько более раннюю датировку (вторая половина II в. до н. э.) (Гжегжул-ка, 2010. С. 29–31). Это относительно просто и однообразно декорированные изделия из серой, мелкозернистой с частичками карбонатных включений (белые включения) глины, покрытые тусклым серым лаком (обмазкой?) или вовсе без него. Но встречаются среди них иные цвета и оттенки глин (Лосева, 1962. С. 205). Должно заметить, что сероглиняные с разными примесями или без видимых включений «мегарские» чашки, как правило, все же с лаковым покрытием, выпускались и некоторыми центрами Восточного Средиземноморья, попадая затем на северный берег Понта. Есть они и в нашем «собрании». В процентном соотношении для наиболее представительных групп (мест находок) это выглядит примерно так: Сююрташ – 10,8 %; Крутой берег – 25,5 %; Полянка – 32,2 % и мыс Зюк – 30 %. По небольшим фрагментам выделить среди них именно боспор-ские – даже при отсутствии лакового покрытия – трудно или совсем невозможно. Тем не менее последнее обстоятельство, наряду с упомянутой особенностью декора, все же позволяет предположить наличие оной, по крайней мере, в некоторых из перечисленных коллекций. Тем более, что это подтверждается находками фрагментов с полностью или частично сохранившимися клеймами Деметрия именно на поселениях Полянка и мыс Зюк (по три раза на каждом), а также на те-меносе близ Генеральской бухты (также три экземпляра). Причем на первом – не в комплексах со всеми прочими «мегарками» (с зольника), а как бы уже в ином археологическом контексте иного времени. Для поселения на мысе Зюк – это и подавно слои, сопутствовавшие строениям I в. до н. э. (Относительно святилища – возможны варианты.) Можно даже заключить, что во всех случаях – это время до 63 г. до н. э., т. е. эпоха власти на Боспоре Митридата VI с его войнами, разрухой и… римской морской блокадой, вызвавшей своего рода «импортозаме-щение», по крайней мере, в том, что касалось столовой посуды.
На таких городищах Крымского Приазовья, как Сююрташ и Крутой берег, завоз «мегарских» чашек, судя по всему, прекратился несколько раньше, вероятно, в конце II в. до н. э. Это, кстати, согласуется с соответствующим анализом, точнее, хронологией некоторых других категорий массового археологического материала (монеты, амфорные клейма, черно-буролаковая посуда), происходящего из их раскопок ( Масленников , 2020). Таким образом, фиксируется и время их полного запустения. Но другие поселения данного региона, может быть с «лакунами», как мы видим, пережили этот критический период.
Так или иначе, показательно, что на местных памятниках с «узкой» хронологией (40-е – 12/8 гг. до н. э.) (башни Асандра близ Узунларского вала) не было уже обнаружено ни одного фрагмента интересующих нас изделий, даже самых поздних типов. «Век» «мегарских» чаш закончился.
Список литературы "Мегарские" чашки из крымского Приазовья (статистика и относительная хронология)
- Блаватский В. Д., 1959. О производстве "мегарских" чаш в Пантикапее // КСИИМК. Вып. 75. С. 174-176.
- Внуков С. Ю. Коваленко С. А., 1998. "Мегарские" чаши с городища Кара-Тобе // Эллинистическая и римская керамика в Северном Причерноморье. М.: ГИМ. С. 61-76.
- Гжегжулка С., 2010. "Мегарские" чаши из собрания Керченского музея-заповедника. Ч. I. Варшава: Национальный музей. 344 с.
- Забелина В. С., 1984. Импортные "мегарские" чаши из Пантикапея // Сообщения ГМИИ. Вып. 7. М. С. 153-172.
- Зинько В. Н., 1992. Античное поселение Осовины-I // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века: тез. докл. VI науч. конф. Ростов-на-Дону. С. 29-30.
- Зинько В. Н., 1994. Охранные археологические исследования в г. Керчи // Археологические исследования в Крыму. 1993 год. Симферополь: Таврия. С. 124-129.
- Книпович Т. Н., 1955. Художественная керамика в городах Северного Причерноморья // Античные города Северного Причерноморья / Отв. ред.: В. Ф. Гайдукевич, М. И. Максимова. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 356-391.
- Коваленко С. А., 1989. Античная рельефная керамика III-I вв. до н. э. в Северном Причерноморье: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 31 с.
- Коваленко С. А., 2007. Свалка II в. до н. э. в южной части Чайкинского городища // Материалы исследований городища Чайка в Северо-Западном Крыму. М.: Изд-во МГУ. С. 195-252.
- Ковальчук А. В., 2013. Поселение Казантип-восточный 2 (общая характеристика и датировка) // Древности Боспора. Т. 17. М.: ИА РАН. С. 186-201.
- Корпусова В. Н., 1983. Некрополь Золотое. Киев: Наукова думка. 184 с.
- Кругликова И. Т., 1970. Раскопки поселения у дер. Семеновки // Поселения и могильники Керченского полуострова начала н. э. / Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: Наука. С. 4-81. (МИА; № 155.)
- Кругликова И. Т., 1975. Сельское хозяйство Боспора. М.: Наука. 300 с.
- Кругликова И. Т., 1998. Поселение у деревни Ново-Отрадное // Древности Боспора. Т. 1. М.: ИА РАН. С. 143-185.
- Ланцов С. Б., Шапцев М. С., 2016. "Мегарские" чаши из сборов и раскопок С. А. Голенцова в 70-90 гг. XX вв. // Боспорские исследования. Вып. XXXIII. Керчь: Керченская гор. тип. C. 397-410.
- Лосева Н. М., 1962. Об импорте и местном производстве "мегарских" чаш на Боспоре // Пантикапей / Отв. ред.: И. Б. Зеест, И. Д. Марченко. М.: Изд-во АН СССР. С. 195-205. (МИА; № 103.)
- Масленников А. А., 2007. Сельские святилища Европейского Боспора. М.; Тула: Гриф и К. 564 с.
- Масленников А. А., 2010. Царская хора Боспора (по материалам раскопок в Крымском Приазовье). Т. 1: Архитектурно-строительная и археологическая характеристика памятников (ДБ: Supplеmеntum III). М.: Триумф-принт. 244 с.
- Масленников А. А., 2020. ХоРА БоспоРА в III-II вв. до н. э. // РА. № 1. С. 76-89.
- Турова Н. П., Коваленко С. А., 2005. "Мегарские" чаши из археологической коллекции Ялтинского историко-литературного музея // Боспорские исследования. Вып. VIII. Симферополь. С. 339-349.
- Федосеев Н. Ф., 2017. Керамические клейма с поселения "Полянка" в Восточном Крыму // Крым в эпоху эллинизма: Межкультурные процессы по данным новейших археологических исследований). Симферополь: Тарпан. С. 169-249.
- Федосеев Н. Ф., 2018. Еще раз о датировке поселения Казантип-восточный 2 // Таврические студии. № 16 (2018). Симферополь. С. 149-153.
- Шапцев М. С., 2008. "Мегарские" чаши позднескифского городища Булганак // Проблемы истории, филологии, культуры. XXI. С. 325-336.
- Шкрибляк И. И., 2012. Мегарские чаши из раскопок Неаполя Скифского (предварительный анализ) // Древности Северного Причерноморья III-II вв. до н. э. Тирасполь: Приднестровский гос. ун-т. С. 197-205.
- Fenn N., 2014. The Hellenistic Mouldmade Bowl Production at Priene - A Case Study Concerning the Reception of Ephesian Examples // Pottery, Peoples and Places Study and interpretation of late Hellenistic pottery. Aarhus: Aarhus University Press. P. 141-156. (Black Sea Studies; 16.)
- Guldager Bilde P., 2010. Mouldmade bowls // Lejpunskaja N., Guldager Bilde P., Munk Hojte J., Krapivina V., Kryzickij S. The Lower City of Olbia (Sector NGS) in the 6th Century BC to the 4th Century AD. Aarhus: Aarhus University Press. P. 269-288. (Black Sea Studies; 13.)
- Jones R., 2018. Hellenistic Moldmade Bowls: Tracking the Connection Between Wares and Motifs. Waltham: Brandeis University Waltham. 102 p.
- Kovalenko S. A., 1996. Some Nots on the Production of Hellenistic Mould-Made Relief Ware in the Bosporan Kingdom // Colloquia Pontica I. New studies in the Black Sea Littoral. P. 54-58.
- Lamonier A., 1977. La ceramique hellenistique a' relief. Paris: De Boccard. 519 p., 134 pl. (Exploration archéologique de Délos faite par ľÉcole française ďAthènes; Fasc. XXXI.)
- Petrova А., 2014. A Pontic Group of Hellenistic Mouldmade Bowls // Pottery, Peoples and Places Study and interpretation of late Hellenistic pottery. Aarhus: Aarhus University Press. P. 215-231. (Black Sea Studies; 16.)
- Rogl Ch., 2014. Mouldmade Relief Bowls from Ephesos - The Current State of Research // Pottery, Peoples and Places Study and interpretation of late Hellenistic pottery. Aarhus: Aarhus University Press. P. 113-140. (Black Sea Studies; 16.)
- Rotroff S., 1982. Hellenistic Pottery. Athenian and imported mouldmade bowls. Princeton: The American School of Classical Studies at Athens. 136 p. (The Athenian Agora; vol. XXII.)
- Zuravlev D., Zuravleva N., 2014. Late Hellenistic Pottery and Lamps from Pantikapaion: Recent Filds // Pottery, Peoples and Places Study and interpretation of late Hellenistic pottery. Aarhus: Aarhus University Press. P. 256-286. (Black Sea Studies; 16.)