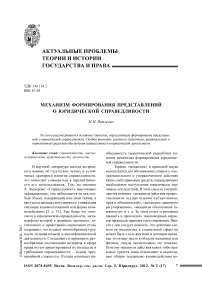Механизм формирования представлений о юридической справедливости
Автор: Вопленко Николай Николаевич
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Актуальные проблемы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 2 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные элементы, определяющие формирование представлений о юридической справедливости. Особое внимание уделяется оценочным, рациональным и нормативным средствам обеспечения справедливости в юридической деятельности.
Справедливость, оценка, легитимность, нравственность, законность
Короткий адрес: https://sciup.org/14972922
IDR: 14972922 | УДК: 340.114.5
Текст научной статьи Механизм формирования представлений о юридической справедливости
В научной литературе иногда встречается мнение об отсутствии четких и устойчивых критериев понятия справедливости, что позволяет сомневаться в перспективности его использования. Так, по мнению А. Ашкерова: «Справедливость невозможно зафиксировать, она наблюдается не как особый объект, поверяющий нам свои тайны, а как ускользающая сингулярность: уникальная ситуация взаимоотношений или форма взаимодействия» [2, с. 33]. Тем более это относится к юридической справедливости, метаморфозы которой в границах законного, легитимного и нравственно-оценочного столь подвижны, что создают многообразные трудности познавательной и квалификационной деятельности. Согласовать и примирить разнообразные человеческие интересы в сфере права путем ориентирования их на идеалы и требования справедливости – задача чрезвычайной сложности. Отсюда возникает не- обходимость теоретической разработки понятия механизма формирования юридической справедливости.
Термин «механизм» в правовой науке используется для обозначения сложного, последовательного и упорядоченного действия каких-либо правовых средств, определяющих необходимое наступление юридически значимых последствий. В этом смысле употребляются понятия: «механизм действия права», «механизм осуществления субъективных прав и обязанностей», «механизм правового регулирования», «механизм обеспечения законности» и т. д. За этим стоит стремление выявить и проследить закономерный характер процессов правового регулирования. Вместе с тем следует помнить, что действие элементов механизма в социальной сфере не может быть столь жестким и неотвратимым, как это имеет место в области механики или физики, откуда заимствовано это понятие. Поэтому механизм действия каких-либо правовых средств лишь показывает и высвечивает общую тенденцию взаимодействия не- ких элементов, существенно влияющих на конечный результат. И, тем не менее, ценность механизменного рассмотрения процесса правового регулирования с гносеологической точки зрения не подлежит сомнению, ибо позволяет акцентировать внимание на системном характере правовых средств, обеспечивающих эффект гарантированного результата и позволяющих выявить недостающие или слабо действующие элементы и связи взаимодействия.
С учетом высказанных предварительных замечаний применительно к нашей задаче речь должна идти не столько о механизме действия, сколько о механизме формирования юридической справедливости как особого качественного состояния правового регулирования. Дело в том, что действие юридической справедливости вполне предсказуемо и выражается в стабилизации, обосновании и закреплении в сознании людей образа объективно необходимого варианта правового регулирования. Это и есть легитимизация действующего в обществе права в виде придания ему нравственно оправданного облика. Очевидно, что вся проблема юридической справедливости состоит в путях и средствах ее формирования, ибо облагораживающее ее действие не подлежит сомнению. Прав в этом смысле В.П. Малахов, подметивший, что справедливость высвечивает общественный порядок как гармонию и, тем самым, духовно освещает его [18, с. 210].
Думается, что исходным пунктом познания природы механизма формирования юридической справедливости является представление о его оценочно-нормативном характере. Рационально-чувственный облик справедливого в сфере права складывается на основе заинтересованного отношения индивидов и социальных групп к правовым идеям, практике правотворчества и реализации правовых норм. Формирующиеся при этом социальные притязания, будучи идейно-психологическим продуктом осознания людьми жизненных ситуаций, порождают требования, предъявляемые к обществу и государству [23, с. 12]. В основе социальных притязаний находятся индивидуальные и групповые интересы как психические побуждения к оценочно-нормативной дея- тельности. Оценить правовую ситуацию означает соизмерить ее с какими-то институционализированными интересами, выявить ее нравственно-экономическую, политическую, правовую и т. д. ценность и, таким образом, установить соответствующую мировоззрению субъекта социальную «цену», значимость объекта оценки. Доминантой нравственно-правового оценивания какого-либо явления выступает соизмерение его с идеалами добра, справедливости и, вместе с тем, законности. Ценностное отношение субъекта формируется на основе поиска компромисса между этими критериями, установления их совместимости. Складывающееся при этом оценочное отношение, как отмечается в науке, включает в себя субъект, объект и основание оценки [13, с. 21; 16, с. 17]. Думается, необходимо выделить в структуре данного отношения также и стандарт, или идеал, оценки. Центральным элементом формулирующегося оценочного отношения выступает основание оценки в виде жизненного опыта, аккумулирующего в себе интересы общества, социальных групп и личностей как субъектов оценочно-познавательной и преобразующей деятельности. Складывающийся при этом образ справедливого и несправедливого в сфере права является результатом заинтересованного отношения к объектам оценки. Это означает, что ценностные предпочтения субъектов в виде их ориентаций определяют выбор средств оценочной деятельности и связь с существующими идеалами. Идеал юридически справедливого созвучен достижению истины как нравственно-правового совершенства в регулировании общественных отношений посредством оптимального достижения поставленной цели. По образному выражению В. Вольнова: «Идеалы – словно звезды на небе, которых нельзя достигнуть, но без которых древность не знала бы мореплавания» [7, с. 245]. В сфере права идеал справедливости также труднодостижим, как и в других областях человеческой жизнедеятельности, но он зовет и побуждает к поиску и выбору совершенного, истинного и нравственно безупречного варианта правового регулирования, основанного на идеях свободы, равенства, соразмер- ности и пропорционального воздаяния каждому в соответствии с его вкладом в общественную жизнь. Отсюда, стандарты справедливого живут в сознании людей как образцы идеальных результатов деятельности, не противоречащие индивидуальному и общественному сознанию и находящие поддержку в общественном мнении.
Идеал в праве выглядит как некая институционализированная идея, содержащая в себе основополагающий принцип познания и деятельности, обладающий повышенной степенью социальной ценности, практической значимости. Юридическая справедливость в полной мере характеризуется данными чертами, а связь с истиной, подлинностью права возвышает ее в системе правовых идей, приобретая тем самым качества результирующего идеала . Действительно, такие принципы права, как законность, обоснованность, гуманизм, целесообразность в юридической деятельности, обладая собственной ценностью, воплощаются в идеале правовой справедливости в качестве ее составляющих элементов. Следовательно, нельзя достигнуть справедливости в сфере права не соблюдая названные принципы.
Познавательно-ценностная работа сознания субъекта, ориентированная на идеал юридической справедливости, выражается в признании безусловной полезности правовой нормы, акта или отношения, в которых закрепляется результат правового регулирования и одобряемости их как истинных, оправданных в данной ситуации. Но это идеальный вариант идентификации собственных интересов и стандарта справедливости. В реальной же жизни можно выделить три основных вида таких оценок:
-
1. Субъект видит в объекте нравственно-правовой оценки воплощение юридической справедливости и солидарен с ней.
-
2. Субъект рассматривает правовую ситуацию в виде нормы, акта или отношения как несправедливую и требующую восстановления попранной юридической справедливости.
-
3. Правовая ситуация оценивается в качестве частично справедливой, а в отдельных элементах – несправедливой и нуждающейся в исправлении путем совершенствования нравственно-правового регулирования.
Если в первом варианте оценки правового регулирования через призму его соотношения с идеалом юридической справедливости все противоречия объекта оценки сняты, то во втором они антагонистически обострены и требуют восстановления нравственно-правового баланса. Что же касается третьего варианта оценки в виде признания частичной, неполной справедливости, то следует признать, что это довольно распространенный результат оценочного отношения людей к действующему праву. И причины такого положения заключаются не только в извечном субъективизме человеческих интересов, но и в имманентно свойственном праву формализму, постоянно вступающему в противоречие с повышенной социальной чувствительностью нравственного сознания и его требований.
Формирование оценочных представлений о юридической справедливости имеет изначальную нравственную природу, ибо «каждая оценка прямо или косвенно носит моральный характер» [6, с. 29]. «Любая моральная оценка и ориентация немыслимы без явного или подразумевающегося членения на “добро” и “зло”» [25, с. 161]. Отсюда, в осознании субъектом справедливости или несправедливости жизненной ситуации используются такие элементы контрольнопсихологического механизма формирования оценочного отношения, как совесть, стыд, моральный долг, ответственность. Совесть – это величайший творец и цензор в формировании субъективных представлений о справедливости как собственного поведения, так и поведения других лиц. Она есть понимание личностью и чувство ее моральной ответственности за свое поведение перед другими людьми на основе самооценки, волевого самоконтроля своих поступков, мыслей и чувств с точки зрения нравственных норм и принципов [3, с. 44]. Совесть является глубинным интуитивно-чувственным механизмом нравственного самоконтроля личности, своеобразным внутренним судьей помыслов и поступков человека. Она порождает чувство стыда, то есть субъективного переживания вины и ответственности за свое поведение и отношение к социально значимым явлениям жизни. Значение совести и стыда в распознавании границ и меры справедливого во взаимоотношениях между людьми состоит в том, что они способствуют формированию рационально воспринимаемого морального долга в виде разумно осознанной обязанности личности подчиниться нравственным требованиям, сообразовать с ними свое поведение. Применительно к юридической справедливости совесть, стыд, долг, ответственность выступают важнейшими понятиями и элементами нравственно-правового сознания, составляющего идейно-психологическую среду, в которой формируются представления о справедливости и несправедливости. Слитность и нерасчленяемость морального и юридического аспектов правового сознания позволяет использовать категории совести, стыда, долга и ответственности в качестве основных элементов формирования чувственно-рационального образа представлений о справедливости в сфере права. Но здесь к ним присоединяется еще и чувство законности, опосредующее и ориентирующее оценочную работу сугубо нравственных элементов. Оно привносит в оценочную деятельность сознания субъекта дополнительный критерий оценки в виде ориентации на требование правомерности. Будучи разновидностью правовых чувств, которыми обладают индивиды и социальные общности, чувство законности представляет собой установку правового характера, основанную на общепризнанных идеалах добра и справедливости и состоящую из двух компонентов: интуитивного (естественно-правового) в виде правовой совести и официального (позитивно-правового), имеющего ориентацию на закон [24, с. 6]. Содержательно чувство законности сродни нравственно-правовой совести в виде интуитивных представлений личности о морально-правовых границах дозволенного и рационально обоснованной ориентации на законопослушный вариант поведения. В сформированном и развитом у личности чувстве законности интуиция подобно «внутреннему голосу» подсказывает, а рационально аргументированная привычка – управляет в ситуации выбора варианта поведения [8, с. 15–16].
Значение сформировавшейся в сознании субъекта оценки правовой ситуации зак- лючается в том, что она не только содержит в себе образ справедливого и (или) несправедливого, но и прогнозирует к нему установочное отношение. Представления о степени справедливости зовут, побуждают, ориентируют, определяют программу деятельности. Предельно общий характер оценки в виде одобрения или осуждения, принятия или игнорирования соответствующей нормативной ситуации дополняется поисками формально определенных критериев определения и аргументации отношения к праву. Так из оценки вырастает нормативный образ представлений о справедливом. Разумеется, в реальной действительности соотношение оценочности и нормативности в познавательной деятельности более диалектично и взаимосвязано. Оценка может вырастать из конкретной нормативной ситуации и, вместе с тем, предшествовать ей как оправдание желаемого образа социального регулирования. Поэтому разграничение оценоч-ности и нормативности допустимо преимущественно из методологических и познавательных соображений. И тем не менее, оценка в сфере права по своей природе и формам выражения в значительной мере имеет интуитивно-чувственный, правосознанческий характер, в то время как нормативность есть продукт формальной определенности. Чем выше уровень или степень формальной определенности речевых суждений, тем более возрастает их нормативный характер. При это следует различать два вида нормативности: оценочно-познавательную и регулятивную. Первая выражается в возможности речевого, вербального воздействия актов межличностного взаимодействия на участвующих в этих процессах субъектов. Это по преимуществу общеидеологическое, воспитательное влияние устной и письменной речи на человеческое поведение посредством формулирования общих рекомендаций и идеалов, не подкрепленных формальными требованиями и санкциями за их неисполнение. В этом смысле любая речь нормативна, ибо способна оказывать влияние на человеческое поведение. Именно в этом аспекте можно согласиться с А.С. Александровым в том, что «Нормативность производна от грамматичности, истинность – от риторичности» [1, с. 16].
Оценочно-познавательная нормативность представлений о справедливом и несправедливом выражается в постановке предельно общих задач и ориентиров жизнедеятельности в виде: будь справедливым, ибо несправедливость безнравственна и предосудительна. Она воплощается в общих принципах морали и права, основывающихся на нравственном идеале, но не получивших конкретных регулятивных форм своего закрепления в нормах действующего законодательства. Весьма существенную роль в формировании образа познавательно-оценочной справедливости играет правовая наука, исследующая пути и средства законной и вместе с тем нравственно обоснованной деятельности. Ее рекомендации, выработанные на основе выполненных исследований, создают наиболее полный и текстуально осязаемый оценочный образ справедливого в сфере права. Однако следует признать, что познавательно-оценочные разработки науки в области теории юридической справедливости не имеют регулятивно-нормативного значения, в противном случае правовая сфера общественного бытия уже давно была бы «царством реализованной справедливости». Отсюда, возникает необходимость познания закономерностей формирования нормативного образа правовой справедливости.
Регулятивная нормативность представлений о справедливости складывается на основе принципов и норм права, а также практики их осуществления в общественной жизни. К сожалению, Конституция РФ 1993 г. использует термин «справедливость» только в преамбуле, говоря о «вере в добро и справедливость» как ориентире социального развития. Конкретные же статьи Конституции не содержат закрепления данного правового принципа в качестве идеала, на достижение которого обязаны ориентироваться все субъекты политико-правовой системы. Думается, что ст. 7 Конституции, устанавливающая, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, нуждается в дополнении. Достойная жизнь – понятие чрезмерно расплывчатое и должно быть конкретизировано через запя- тую термином «справедливая» жизнь. Можно также подумать о закреплении идеала справедливости в гл. 2 Конституции, устанавливающей систему прав и свобод человека и гражданина.
Более конкретно образ представлений о юридической справедливости складывается на основе анализа норм отраслевого законодательства. Принцип справедливости особо закреплен в ст. 6 УК РФ как требование соответствия наказания и иных уголовно-правовых мер характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Особо выделено требование недопустимости двойной или повторной ответственности за одно и то же преступление. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ принцип справедливости закрепляется только применительно к требованиям, предъявляемым к приговору в ст. 297, наряду с законностью и обоснованностью, но отсутствует в числе основных принципов судопроизводства. Более «повезло» принципу справедливости в Трудовом кодексе РФ где он упоминается в системе общих принципов регулирования трудовых отношений применительно к необходимости установления справедливых условий труда и справедливой заработной платы (ст. 2). Совершенно явно «не повезло» принципу справедливости в гражданско-процессуальном и административном законодательстве, где о нем напоминают лишь требования законности и обоснованности принимаемых судом решений. Удивительно, но аналогично не уделяется внимание справедливости и в нормах Гражданского Кодекса РФ. Закономерен вопрос о том, почему сложилась такая ситуация недостаточного внимания к принципу справедливости в профилирующих отраслях системы российского законодательства. Тем более что речь идет о правовом регулировании имущественных и связанных с ними личных и бытовых, неимущественного характера общественных отношениях, в которых наиболее часто приходится участвовать гражданам и где представления о справедливом и несправедливом сопровождают человеческое поведение повсеместно. Никто также не гарантирован от участия в административно правовом разбирательстве проступка в виде перехода улицы в неположенном месте и т. д. Казалось бы, именно гражданская и административная сферы общественной жизни в их правовом опосредовании являются наиболее социально восприимчивыми к требованиям нравственно-правовой справедливости, но российский законодатель почему-то то ли «боится», то ли не умеет юридически грамотно и профессионально выразить и закрепить в действующем законодательстве основные контуры образа справедливого. Действительно, такие трудности имеются. И в литературе встречаются сетования на то, что слишком уже расплывчатым и трудно уловимым, к тому же и дискуссионным, выглядит образ справедливого в сфере права. Имеется и опасение, что закрепление идеи, принципа и конкретных требований справедливости в действующем законодательстве может привести к увеличению жалоб, случаев оспаривания актов правосудия и иных правоприменительных решений на том основании, что у каждого «свое представление о справедливости». Возможно, что за этим стоит и достаточно давнее отечественное недовнимание, о порою и игнорирование проблемы реального осуществления прав и свобод человека и гражданина.
Оценивая в целом эту ситуацию, можно сказать, игнорирования юридического закрепления образа, идеи и конкретных требований справедливости в области позитивного права, следует выделить два средства исправления такого положения. Это, во-первых, осознание всем обществом и особенно профессиональными юристами исключительно высокой социальной ценности идеи и юридически закрепленных требований справедливости. Ничто не обходится так дорого обществу, как несправедливое законодательство и его несправедливая реализация. И, во-вторых, серьезная профессиональная разработка юридической техники воплощения конкретных требований справедливости в нормах, институтах и отраслях российского права. У нас немало теоретических наработок в области понятия, содержания и видов юридической техники. Очевидно, настала пора выработки конкретных способов закрепления в действующем законодательстве технических приемов и средств, обеспечивающих непосредственное и неотвратимое действие фундаментальных идей правового регулирования, подобных справедливости. Сложность понимания и проявления нормативных свойств справедливости в праве, на наш взгляд, состоит в том, что она имеет две основных формы своего закрепления в действующем законодательства: имплицитное или опосред-ственное и конкретное, или нормативнорегулятивное. В первом случае справедливость проявляется через действие других принципов, высвечивающих и конкретизирующих отдельные грани, стороны, аспекты нравственно-правового регулирования. Такое значение имеют принципы достоинства личности, гуманизма, равенства перед законом и судом, презумпции невиновности, обоснованности судебных решений и т. д., несоблюдение которых на практике означает одновременно нарушение требований юридической справедливости. В этом смысле идея справедливости, конечно же, опосредованно, через названные принципы, представлена в большинстве отраслей российского законодательства. Но ее отдельные аспекты проявления в иных принципах будут более весомыми и авторитетными при особом самостоятельном закреплении. Это наводит на мысль о существовании иерархии в системе принципов права и их взаимообслу-живании. По мнению О.В. Мартышина, всеобъемлющий принцип справедливости, тесно связанный с идеей общего блага, претендует на высшую ступень в иерархии ценностей [19, с. 4]. Эту же мысль высказывает и О.И. Цибулевская [26, с. 184].
Нормативно-регулятивное выражение справедливости в действующем законодательстве выглядит как формулирование в отдельных статьях и нормах позитивного права конкретных требований справедливой деятельности. В подобных случаях употребляется сам термин «справедливость», а иногда, хотя и, к сожалению, редко, формулируются ее конкретные регулятивные требования. Примером может быть ст. 6 УК РФ, закрепляющая самостоятельность принципа справедливости и устанавливающая требования соразмерности наказания характеру и степени общественной опасности преступления, а также недопустимость повторной ответственности за одно и то же преступление. Аналогичное значение имеет ст. 297 УПК РФ, закрепляющая требования законности, обоснованности и справедливости, предъявляемые к судебному приговору, и ст. 383 УПК РФ, определяющая критерии несправедливого приговора в качестве оснований к его отмене или изменению. Приходится констатировать, что гражданское и административное законодательство не содержит в своих нормах конкретных требований рассмотрения и разрешения юридических дел в соответствии с явно выраженными критериями справедливости. И это снижает социальную чувствительность практически всего отечественного законодательства. Думается, что нет никаких оснований полагать, что законодатель не заинтересован в том, чтобы судопроизводство и иные формы правоприменительный деятельности не основывались на принципе справедливости. Следовательно, проблема его законодательного закрепления, очевидно, состоит в неразработанности общей универсальной формулы справедливости, удобной и пригодной для конкретизации в виде определенных требований применительно к отдельным отраслям законодательства. И это требует от правовой науки доктринального решения данной проблемы.
Все это свидетельствует о том, что и познавательно-оценочный, и нормативно-регулятивный образы представлений о юридической справедливости оптимально могут и должны формулироваться юриспруденцией на основе этико-философских разработок. В этой связи хотелось бы предостеречь против встречающихся иногда в науке попыток развести, разграничить справедливость и право в их совместном регулировании общественных отношений. Так, на наш взгляд, поступает И.В. Илиев, по мнению которого «Право дает меру, а справедливость контролирует ее, предъявляя определенные требования. Однако справедливость не мера, а только ее свойство, которое достраивает право, вместе они регулируют общественные отношения» [17, c. 95]. Вместе с тем, думается, что соотношение данных явлений еще сложнее. Справедливость составляет идейно-теоретическую основу пра- ва, в соответствии с которой строится система любого национального законодательства и формируется соответствующая система права. Как отмечал Г.Д. Гурвич: «Настоящее призвание идеи справедливости состоит в том, чтобы служить сущностной основой любого общего определения права» [10, с. 293]. Следовательно, выполняя правосозидательную функцию по отношению к праву, справедливость своими конкретно-историческими требованиями пронизывает его структуру, одновременно выступая критерием отношения к нему, а также принципом и идеалом. Поэтому справедливость сообщает праву не только меру нравственно-правовой оценки и измерения человеческого поведения, но и, при закреплении в действующем законодательстве своих требований, механизм осуществления своего идеала. Этим как раз и объясняется важность правотворческого выражения идеи и отдельных сторон, граней справедливости в праве.
Современные представления об универсальной логической формуле справедливости основываются на учении Аристотеля об уравнивающем и распределяющем ее аспектах и «золотом правиле» этического поведения, определяющего выбор между добром и злом. Конкретизируя содержание справедливости, В.Е. Давидович выделяет три основных элемента: ценности , ее обосновывающие; правила , которые ее выражают; и действия , которые ее реализуют [12, с. 34]. Очевидно, что среди системы ценностей, обосновывающих бытие справедливости, ближе всего к ней находятся идеи свободы и общего блага. Однако их регулятивный потенциал в обеспечении справедливого поведения невысок, ибо они сами нуждаются в нормативном выражении. Более значимо для познания регулятивного образа справедливости выделение в ней правил, выражающих ее требования, и действия, в которых эти требования реализуются. Так, к правилам, определяющим справедливое поведение, можно отнести принципы равенства, гуманизма, истинности и обоснованности принимаемых решений, пропорциональности воздаяния и соразмерности затрат и потребления. Действия, в которых реализуются требования справедливости, выглядят как способы их охраны, защиты и обеспечения, среди которых особая роль принадлежит правосудию.
В этической литературе при определении понятия справедливости акцент делается на мере , которую она дает в процессах воздаяния и требования прав и благ личности и социальной общности, а также правомерности оценки человеческого поведения [4, с. 65]. Мера справедливости означает гармоническое сочетание количественных и качественных характеристик регулирования и оценки социальных явлений, устанавливающее предел, за которым начинается несправедливость. Она через количественно-качественную характеристику объекта позволяет выявить его оптимально истинное и гармоничное состояние. Универсальным средством установления меры и измерения в социальной сфере является выработка и реализация правил общественного поведения и, в первую очередь, норм морали и права. Справедливость, таким образом, предстает оптимальным свойством и результатом нравственно-правового регулирования, основанного на гармоничном сочетании некой меры количества и качества в предъявляемых и реализованных требованиях к распределению и воздаянию социальных благ, прав и обязанностей, а также оценке правильности их осуществления. Как верно заметил В.П. Малахов: «Мера, с которой связана мысль о правовой справедливости, реальна в том смысле, что она повсеместно доступна осуществлению во множестве однотипных правовых ситуаций, а также в том смысле, что она “прозрачна” для рациональной мысли и облечена в определенную, известную и признанную форму» [18, с. 211].
Идея о том, что требования воздаяния и эквивалентности во взаимоотношениях между людьми составляют основу смыслового ядра в понятии справедливости, все больше получает признание в современной научной мысли. Так, А.И. Гусейнов называет в числе основных принципов универсальной справедливости: а) требование равенства (действовать одинаково в одинаковых условиях); б) идею взаимосвязи содеянного и воздаяния за него («золотое правило нравственности»); в) требование равновесия между утратой и потреблением (справедливость обмена) [11, с. 18]. Включение автором требования равенства как необходимого принципа справедливости выглядит вполне умес- тным, однако его следует акцентировать на равенстве прав и обязанностей субъектов и возможности равной их защиты перед судом. Действовать одинаково в одинаковых условиях могут только люди, обладающие равными нравственно-правовыми статусами. Юридическая справедливость, как заметил И.А. Иванников, выражается в одинаковом применении закона к каждому [15, с. 63].
Обобщая имеющиеся в науке мнения о понятии юридической справедливости, следует признать, что ее смысловое ядро образуют требования воздаяния и распределения материальных и духовных благ и признания равенства субъектов в системе правовых отношений, равного их притязания на осуществления прав и обязанностей. Эта триада, на наш взгляд, образует систему основных признаков справедливости в сфере права, наряду с которыми следует выделять еще и принципы . Если признаки образуют набор, или необходимый состав, элементов, в совокупности образующих качество справедливости и ответственных за соблюдение ее меры, то принципы актуализируют и раскрывают отдельные грани, аспекты конкретизации справедливой деятельности в определенных сферах правовой жизни. Признаки организуют внутреннюю логику познавательно-оценочного процесса, а принципы управляют деятельностью в определенных юридических ситуациях. Такое значение имеют закрепленные в отдельных отраслях законодательства принципы достоинства личности, гуманизм, законность и обоснованность, принцип вины, презумпция невиновности, правосудие, состязательность и равноправие сторон и т. д. Их связь с идеей справедливости определяется нравственной насыщенностью содержания каждого принципа. Они являются продуктами совместного нравственно-правового регулирования, и нарушение юридического требования, закрепленного в принципе, одновременно является нравственно упречным поступком, осуждаемым моральным сознанием. А поскольку справедливость выступает центральной идеей нравственности, подавляющее большинство юридически значимых актов человеческого поведения в сфере права в той или иной мере оцениваются через призму справедливости.
Думается, не должно смущать то обстоятельно, что идея равенства, относящаяся к системе основных признаков юридической справедливости, закрепляется в отраслевом законодательстве в качестве правового принципа. Слишком уж велико и социально осязаемо значение этой идеи в жизни общества. Еще М. Монтень четко заметил, что равенство есть первый шаг к справедливости [20, с. 93]. Следует полагать, что чем чаще и конкретнее внутренние свойства справедливости будут получать свое закрепление в действующем законодательстве в качестве принципов, тем больше создается условий технико-юридического характера для осуществления правовой справедливости. В общей теории права называются три варианта возможного выражения принципов права в статьях и нормах законодательства: а) нормы, содержащие наименование принципов; б) нормы, содержащие краткое описание принципов права; в) нормы, закрепляющие в своем тексте их конкретное содержание [22, с. 134]. Все эти варианты выражения принципа справедливости просматриваются в правотворческой практике российского законодательства. Наибольшую ценность для юридической практики представляют статьи и нормы, конкретизирующие содержание и требования юридической справедливости, например, ст. 6 УК РФ. Они выглядят наиболее законодательно подготовленными для практической реализации. Назначение принципов, в которых конкретизируется идея справедливости, состоит в обеспечении ее регулятивного эффекта посредством формулирования в действующем законодательстве, пусть и не всегда четко нормативно выраженных и в значительной степени оценочных, требований. Они оказывают свое влияние на юридическую деятельность субъектов преимущественно в качестве опорных пунктов правосознания. Однако, как известно, они являются основаниями к отмене или изменению правоприменительных решений и, тем самым, юридическим средством восстановления нарушенной справедливости.
Как признаки, так и принципы юридической справедливости выступают основой рационально формируемых представлений о ее основных чертах. Однако без качеств законности и легитимности ее образ выглядит неполным. Отсюда необходимость анализа действий субъектов, в которых реализуются идея и конкретные требования справедливого поведения в сфере права. Исследователи этой проблемы отмечают, что законность как требование правомерного поведения является непременным условием представлений о справедливости действий субъектов. «Обладать качеством юридической справедливости – это значит быть законным, наоборот, тот, кто нарушает законность, не соблюдает нормы права, тот действует вопреки юридической справедливости» [5, с. 73]. Многообразие условий общественной жизни не исключает возможности противоречий законности и справедливости в отдельных нравственно-правовых ситуациях, но это те случаи, когда они лишь шлифуют общее правило, возводя его в закономерность. Законность дает внешнюю форму бытия справедливости, сообщает ей качество государственной обязательности. Она формально организует в соответствии с правовыми предписаниями действие требований воздаяния, а также распределения и закрепляет юридическими средствами их нравственное значение. Тем самым, складывается единство нравственно-правовой оценки правомерного поведения субъектов. Законность с нравственных позиций – «это юридическая форма выражения идей справедливости, порядка, свободы» [21, с. 421].
В свою очередь, справедливость нравственно оправдывает и упрочивает законность, сообщает качество легитимности. Понятие легитимности достаточно сложное и многофункциональное, но его «сердцевину» составляет признание населением страны законности и справедливости действий органов государственной власти и нравственная поддержка их повседневного функционирования. Ключевыми признаками легитимности являются авторитет власти, согласие и поддержка населением, справедливость властвования, предположение об истинности и справедливости существующей правовой политики и практики [9, с. 53, 103]. Все это свидетельствует, что формирующиеся в сознании представления о законности и легитимности су- ществующего правопорядка, с одной стороны, основываются на предположениях о его справедливости, а с другой – являются средствами обоснования его нравственного облика. Законность и легитимность в качестве оценок многообразных процессов распределения и воздания на началах равенства в системе правовых отношений позволяют высвечивать и идентифицировать акты юридической справедливости. Нравственные оценки соизмеряются с юридическими и закрепляются ими, а правовые «просвечиваются» через призму соответствия требованиям морали.
Обобщая изложенное, следует отметить, что механизм формирования образа юридической справедливости – достаточно сложное явление, включающее в себя систему чувственных, оценочных, рациональных и нормативных элементов, посредством которых раскрываются черты законного, нравственно оправданного и легитимного регулирования поведения в сфере права.
Список литературы Механизм формирования представлений о юридической справедливости
- Александров, А. С. Введение в судебную лингвистику/А. С. Александров. -Н. Новгород: Изд-во Нижегород. акад. МВД России, 1998. -417 с.
- Ашкеров, А. По справедливости: эссе о партийности бытия/А. Ашкеров. -М.: Европа, 2008. -243 с.
- Бербешкина, З. А. Совесть как этическая категория/З. А. Бербешкина. -М.: Высш. шк., 1986. -103 с.
- Бербешкина, З. А. Проблема справедливости в марксистско-ленинской этике/З. А. Бербешкина. -М.: Высш. шк., 1974. -160 с.
- Булгаков, В. В. Принцип справедливости в праве/В. В. Булгаков//Вопросы теории государства и права. -Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2004. -650 с.
- Волкогонов, Д. А. Моральные конфликты и способы их разрешения/Д. А. Волкогонов. -М.: Знание, 1974. -64 с.
- Вольнов, В. Феноменология/В. Вольнов. -СПб.: Алетейя, 2008. -303 с.
- Вопленко, Н. Н. Законность и правовой порядок/Н. Н. Вопленко. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. -135 с.
- Вопленко, Н. Н. О легитимности власти и права/Н. Н. Вопленко//Механизм исполнительной власти в Российской Федерации. -Волгоград: ВФ МИЭПП, 1994. -126 с.
- Гурвич, Г. Д. Философия и социология права: избр. соч./Г. Д. Гурвич. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. -848 с.
- Гусейнов, А. И. Проблема ценностей права/А. И. Гусейнов//Право и политика. -2007. -№ 7. -С. 14-22.
- Давидович, В. Е. Социальная справедливость: идеал и принцип деятельности/В. Е. Давидович. -М.: Изд-во полит. лит., 1989. -255 с.
- Демидов, Ю. А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве/Ю. А. Демидов. -М.: Юрид. лит., 1975. -183 с.
- Злоупотребления публичной властью и антикоррупционная политика в современной России/Т. П. Агафонов, И. А. Гдалевич, А. Ю. Мамычев, А. Ю. Мордовцев. -М.: Юрлитинформ, 2011. -432 с.
- Иванников, И. А. Государственная власть и справедливость в России: пути модернизации государства и права/И. А. Иванников. -Ростов н/Д: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2009. -119 с.
- Ивин, А. А. Основания логики оценок/А. А. Ивин. -М.: Изд-во МГУ, 1970. -230 с.
- Илиев, И. В. Нравственные основания государства и права/И. В. Илиев//Государство и право. -М., 2005. -№ 8. -С. 94-95.
- Малахов, В. П. Философия права/В. П. Малахов. -М.: Деловая книга, 2002. -447 с.
- Мартышин, О. В. Проблема ценностей в теории государства и права/О. В. Мартышин//Государство и право. -М., 2004. -№ 10. -С. 3-7.
- Монтень, М. Опыты/М. Монтель. -М.: Альфа-Книга, 2009. -1150 с.
- Мордовцев, А. Ю. Российский правовой менталитет/А. Ю. Мордовцев, В. В. Попов. -Ростов н/Д: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2007. -446 с.
- Сенякин, И. Н. Федерализм как принцип российского законодательства/И. Н. Сенякин. -Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2007. -502 с.
- Смирнова, М. Г. Социальные притязания в праве: автореф. дис.... д-ра юрид. наук/М. Г. Смирнова. -СПб., 2011. -38 с.
- Смоленцев, А. В. Правовое чувство: автореф. дис.... канд. юрид. наук/Смоленцев Алексей Васильевич. -Н. Новгород, 1999. -28 с.
- Титаренко, А. И. Структуры нравственного сознания: Опыт этико-философского исследования/А. И. Титаренко. -М.: Мысль, 1974. -278 с.
- Цибулевская, О. И. Принципы права: нравственное изменение/О. И. Цибулевская//Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты. -Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2010. -702 с.